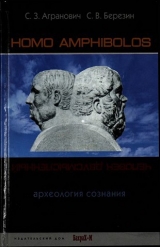
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Двойные послания, вероятно, являются одной из кардинальных особенностей человеческой коммуникации, генетически связанной с функциональной асимметрией головного мозга. Их нельзя воспринимать исключительно как патологию, порок или даже недостаток коммуникативных процессов, хотя они явно привносят в отношения отдельных людей, социальных групп и даже целых народов много непонимания, сложностей, боли и конфликтов. Порожденные объективными особенностями сознания, они во многом определяют характеристики коммуникативного пространства, в котором живет человечество. Большинство двойных посланий продуцируются стихийно и чаще всего ни «палачом», ни «жертвой», ни «свидетелями» не рефлексируются и не осознаются как таковые. Одним из главных типологических признаков двойного послания является наличие угрозы наказания со стороны «палача». Причем, как мы уже говорили, наказание может быть самым разным, но всегда значимым для жертвы.
Однако если в структуре двойного послания отсутствует угроза наказания, то парадоксальное сообщение, продуцируемое коммуникатором, открывает перед реципиентом безграничную свободу выбора форм реагирования. Парадоксальные сообщения всегда порождают неопределенность. Скованный страхом наказания, реципиент двойного послания рискует оказаться в безвыходном или почти безвыходном положении, психологическом тупике. Проблема выхода из тупика становится только его проблемой и зависит оттого, удастся ли ему разорвать оковы страха. Однако, если угроза наказания изначально отсутствует и вместо нее присутствует не только возможность выбора, но и готовность автора парадоксального сообщения поддержать выбор реципиента и оказать помощь в реализации этого выбора, неопределенность ведет не к хаосу сознания, не к безумию тупика – она актуализирует субъектность реципиента, необыкновенно расширяя его человеческие возможности. Парадоксальное сообщение, не сопровождающееся угрозой наказания, приобретает принципиально новое качество. Оно становится инструментом развития личности. По-видимому, так и должны общаться педагоги со своими подопечными: с одной стороны, приобщать их к свободному и ответственному выходу из тупиков многочисленных двойных посланий, адресуемых им жизнью, а с другой – показывать им возможность использования парадоксальных сообщений, лишенных угрозы наказания и выводящих личность на простор познания мира. Парадоксальное сообщение, не вызывающее страха (где социальное очищено от биологического), очеловечивается и очеловечивает.
Один из авторов имел счастье хорошо знать и много лет работать с человеком, рисунок общения которого с людьми во многом строился на продуцировании актуализирующей неопределенности при гарантированной человеческой и глубоко уважительной поддержке и помощи с его стороны. Так с друзьями, коллегами, аспирантами, студентами – со всем общался необыкновенно человечный Николай Михайлович Магомедов, основавший в Самарском государственном университете факультет психологии. Познакомившись с ним в молодости, один из авторов долго пытался найти какую-то аналогию его оригинальным суждениям, своеобразным речевым приемам и вообще его манере общения с людьми. И на каком-то этапе показалось, что нашел – это был сократический диалог в чистом виде, когда выдвигается парадоксальное суждение, а потом, в процессе беседы, оба собеседника свободно высказывают свои мысли. Только потом стало ясно – это высший уровень психотерапии. Сейчас ясно и другое – это высший уровень человеческого отношения к человеку.
Наблюдения, аналогичные бейтсоновским, сделал Дэвид Гелен. Но если Г. Бейтсон свои наблюдения над особенностями индивидуальной и групповой психики реализовал только в рамках коммуникативных процессов, то Д. Гелен увязал своеобразие человеческого общения со структурой и функционированием мозга. Г. Бейтсон, описывая многочисленные и разнородные жизненные ситуации, в которых люди сталкиваются с двусмысленной или многосмысленной информацией, замечает, что сознание попавшего в такую ситуацию человека может быть травмировано и даже разрушено, причем разрушение сознания осмысливается ученым как утрата целостности, расщепление, процесс, подобный шизофреническому. Расщепление сознания интересует и Д. Гелена. Он полагал, что в норме полушария головного мозга работают во взаимодействии, однако при определенных условиях в работе мозга могут возникнуть явления, аналогичные тем, которые наблюдаются в мозгу при его хирургическом расщеплении, когда оба полушария начинают функционировать практически независимо. Но роль своеобразного хирургического инструмента могут выполнять два разнородных и противоречащих друг другу потока информации. Один из них носит ярко выраженный сенсомоторный, а другой – столь же явный вербальный характер. Д. Гелен приводит в качестве примера элементарную конфликтную ситуацию, часто возникающую в жизни:
Представьте себе действие на ребенка ситуации, когда его мать словами говорит ему что-то одно, а выражение лица и движение тела совершенно другое: «Я делаю это, потому что люблю тебя, дорогой», – говорят слова, но «Я тебя ненавижу и уничтожу», – говорит лицо [87]87
Цит. по: Спрингер С., Дейч Г. Указ. соч. С. 215.
[Закрыть].
Мы видим, что Д. Гелен явно говорит о ситуации двойного послания, но если Г. Бейтсон рассматривает двойные послания и их эффекты в поле межличностных коммуникаций, то Д. Гелен переносит эффекты двойного послания в пространство информационных взаимодействий полушарий головного мозга. Он пишет, что оба полушария, подвергаясь воздействию одинаковых сенсорных стимулов, эффективно воспринимают различную информацию. Но, по его мнению, каждое полушарие придает приоритетное значение только одному из сообщений. Будучи специализированными, они оба как бы делят информационные потоки. Для левого полушария приоритетными являются словесные сигналы, для правого – невербальные. Он пишет:
В этой ситуации два полушария могли принять решение о противоположных по направлению действиях: левое – подойти, правое – убежать… Далее в большинстве случаев левое полушарие, по-видимому, добивается контроля над выходными каналами, но если левое не в состоянии полностью «отключить» правое полушарие, оно может пойти на то, чтобы отсоединить передачу противоречащей информации с другой стороны… Каждое полушарие обращается со слабым контралатеральным сигналом таким же образом, как люди вообще обращаются со странными высказываниями, которые не совпадают с их убеждениями; сначала они его игнорируют, а потом, если оно требует к себе внимания, активно его избегают [88]88
Там же. С. 216.
[Закрыть].
Д. Гелен полагает, что в момент разъединения левое полушарие управляет сознанием в одиночку. При этом правое полушарие продолжает выполнять функцию, подобную той, которая приписывается фрейдовскому «подсознанию», создавая лишь тревожный эмоциональный фон. Мозг человека функционально асимметричен. Однако в нормальном состоянии его полушария, так кардинально отличающиеся друг от друга, научились работать слаженно и гармонично. Но как только мозг человека получает по двум разным коммуникативным каналам противоречивую информацию, согласованность в работе полушарий нарушается, отношение сотрудничества приобретает формы конкуренции и борьбы. Причем левое полушарие, в котором локализуются более поздние, чисто человеческие способы восприятия, обработки и хранения информации, способно блокировать правое и вытесняет содержащуюся в нем информацию на периферию сознания.
В этих конфликтных для современного мозга ситуациях, на наш взгляд, воспроизводится тот отделенный от нас тысячелетиями момент, когда две коммуникативные системы «творили» человеческий мозг, буквально разрывая его на две функционально асимметричные половины и «свивая» в каждой из них свое «гнездо».
Реконструировать абсолютно точно тот процесс, в результате которого возник асимметричный мозг, человек с его психологическими особенностями и архаические элементы культуры, конечно, невозможно. Свидетелей да и прямых следов этого чрезвычайно важного и драматичного процесса нет. Однако, опираясь на аналогии, сохранившиеся в архаической культуре и традиционных пластах современного коллективного сознания, закономерности психического развития современного человека, отражающие ранние этапы филогенеза, даже на типологическом уровне, а также на известные современной науке закономерности коммуникации в сообществе животных и человеческом социуме, попытаемся хотя бы гипотетически восстановить ту картину, которая в библейском мифе так уютно и человечно изображена в виде великого творения вселенского гончара.
Как уже было сказано, мутация стала причиной возникновения голосового аппарата, появление которого обусловило потенциальную возможность воспроизведения членораздельных звуков. Мутация, конечно, не сделала «награжденное» ей таким образом существо говорящим, а лишь даровала ему возможность – не большую, но и не меньшую, чем певчим птицам, попугаям и врановым. Однако исходные биологические возможности этого существа были не просто велики, но и уникальны: передние конечности с огромным потенциалом развития, большой хорошо развитый мозг, длинный период детства, открывающий широкие перспективы для индивидуального когнитивного и эмоционального развития, сложная организация сообщества и, не в последнюю очередь, совершенная, хорошо разработанная сенсомоторная коммуникативная система.
Существа, застигнутые врасплох неожиданно возникшей способностью к членораздельному звукоизвержению, были совершенными творениями эволюции, великолепно вписанными в условия среды своего существования. Пластичная психика позволяла им гибко адаптироваться к довольно широкому диапазону изменений условий среды. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Членораздельное звукоизвержение создало ситуацию, когда будущим людям нужно было приспосабливаться не к изменениям условий природной среды, а к радикально изменившимся условиям коммуникативного поля, которое до этого момента было однородным с точки зрения средств выражения коммуникативных и мета-коммуникативных сообщений (то есть сообщений, несущих «содержательную» информацию, и сообщений по поводу информации). Привычный, гармоничный, если так можно выразиться, монолектический мир вдруг превратился в поле неожиданных, пугающих и непривычных двусмысленностей. Четкость и однозначность коммуникативных сообщений и их восприятия стали разрушаться. Оказавшийся вдруг двусмысленным, ставящим в тупик, загоняющим в ловушку новый информационный дискурс начал играть дезадаптивную роль, активно нарушающую гармонию внутригрупповой коммуникации. Причем деструктивные процессы захватили как коммуникации внутри сообщества, между индивидами, так и сферу индивидуальной психики, снижая адекватность поведения и уровень психологической устойчивости, ведя к непредсказуемым конфликтам, срывам, истерикам, а возможно и к первым проявлениям как индивидуального, так и группового безумия. Взаимодействие двух разных по своим основным характеристикам систем (сенсомоторной и членораздельно-звуковой) породило не только информационный взрыв и дикий хаос как в сообществе пралюдей, так и в их эволюционирующем сознании, но и какие-то новые устойчивые связи, новые структурно-смысловые образования, новые элементы рождающейся системы. Например, жестовая коммуникация была не просто сбита, дезориентирована вдруг хлынувшим потоком членораздельных звуков, но началась ее постепенная и медленная озвучка, вторичная семантизация. Жесты, будучи уже абстрагированными, в результате ассоциации по смежности заново семантизировались звуками.
Ко всем этим явлениям, как хаотизирующим коммуникативное поле, так и по-новому его структурирующим, мозг пралюдей был абсолютно не готов. По-видимому, ситуация, сложившаяся тогда для пралюдей, типологически весьма напоминала ситуацию двойного послания. Однако ДП-ситуация всегда подразумевает наличие «жертвы» или «жертв», «палача» или «палачей» и ту часть человеческого сообщества, которую мы условно назвали бы свидетелями, то есть тех, кто создает психологический фон, сознательно или бессознательно, гласно или негласно поддерживая или отвергая происходящее. Если тот процесс, который мы пытаемся описать, то есть фактически процесс рождения человека, человеческой речи, человеческого общества и человеческой культуры, назвать первым двойным посланием (а оно, безусловно, было двойным), то его своеобразие заключается в том, что субъектно «палач» отсутствовал, его роль выполняло само случайное появление гетерогенных коммуникативных систем. Отсутствовали и «свидетели», если не считать свидетелем «равнодушную природу». «Жертвами» этого всеохватного двойного послания были все пралюди, которые в результате него оказались фактически в логической ловушке и, найдя или не найдя выход, должны были неизбежно погибнуть или столь же неизбежно стать людьми.
Мозг должен был стать человеческим в процессе поиска выхода из сложнейшего логического лабиринта, в который он еще никогда не попадал. Уровень организации мозга до этого момента обеспечивал пралюдям довольно высокий адаптивный потенциал, позволял решать порой весьма сложные задачи. Уникальность ситуации заключалась в том, что новые задачи, порождаемые кардинально изменившимся коммуникативным полем, качественно отличались от прежних, были задачами двусмысленными и требовали новых подходов к их решению. Вероятно, ситуация развивалась столь стремительно, что «изменить себя» для решения новых проблем на морфологическом уровне мозг бы просто не успел. Надо было «приспосабливаться» по-другому, через использование и задействование уже имеющихся потенциальных возможностей. Важнейшей из них была относительная функциональная асимметрия головного мозга, которая могла иметь перспективу дальнейшего развития. Есть основания предполагать, что драматическая ситуация, порожденная совместной деятельностью двух систем, и стала тем толчком, который привел в действие этот потенциал мозга. Начался стремительный процесс дальнейшей функциональной дифференциации полушарий.
Опираясь на данные многочисленных исследований функциональной асимметрии мозга и в том числе на интересные предположения Д. Гелена, приведенные нами, вполне можно допустить, что обработка информации сенсомоторного характера все больше и больше локализовалась в правом полушарии, а членораздельно-звуковая, постепенно превращающаяся в вербально-логическую, – в левом. В этом, вероятно, проявилась некая общая закономерность функциональной дифференциации «правого» и «левого» в мозгу. Ведь, как уже говорилось, биопоги обнаружили типологически аналогичное распределение функций между полушариями у певчих птиц. Объяснить причины именно такой дифференциации мы не можем. На данном этапе можно только констатировать, что природа, как водитель, остановивший экскурсионный автобус на лесной дороге, скомандовала пассажирам: «Гигиеническая остановка! Мальчики – направо, девочки – налево!» И никогда наоборот.
Дифференциация функций полушарий, с одной стороны, не могла не служить упорядочению и структурированию процессов восприятия и переработки информации головным мозгом. Эти процессы как бы обретали свою постоянную прописку. Однако, с другой стороны, та же самая дифференциация нарушала давно и эволюционно обусловленное равновесие в работе мозга. Если бы дифференциация функций не была уравновешена одновременно формирующимися механизмами интеграции, она могла бы привести к такой автономии полушарий, к такому их независимому функционированию, что мозг как единая функциональная система просто перестал бы существовать. Следствием бушевавших в мозгу процессов функциональной дифференциации и интеграции работы полушарий стало качественное изменение функций комиссур, и прежде всего мозолистого тела. Функции мозолистого тела многократно усложнились – теперь оно должно было обеспечивать синергичное взаимодействие функционально асимметричных полушарий, каждое из которых приобретало свой уникальный способ обработки и хранения информации, специализировалось на разном материале и имело свой специфический способ принятия решений на его основе. Фатальное присутствие в жизни человечества ситуации двойного послания, а также порождаемые им эффекты и последствия все больше и больше убеждают нас в том, что этот процесс до сих пор не окончен. Будет ли он когда-нибудь завершен? Эволюционисты сказали бы: «Да!» Это было бы поистине прекрасно, поскольку тогда многие весьма болезненные проблемы человека и человечества, являющиеся следствием двойных посланий, остались бы в прошлом. Это был бы если не Эдем, то почти Эдем. Наши оценки перспектив человечества гораздо более пессимистичны.
Возникшая в горниле двойного послания, порожденного двумя коммуникативными системами, трехкомпонентная структура головного мозга будет бесконечно воспроизводить себя в новых и новых бинарных оппозициях, части которых человеческое сознание будет стремиться гармонизировать медитативными единицами, представляющими собой некую абсолютную ценность. Человеческий мир навсегда обречен быть осмысленным через тернарные модели и жить в них. Возьмем для примера любую оппозицию. Вот одна – государство и общество. Попытка гармонизировать эту асимметричную бинарную оппозицию, каждая часть которой наполнена столь различными и разнонаправленными устремлениями и интересами, вызвала к жизни поиск национальной идеи как некоей гармонизирующей медитативной единицы. Сомнения в истинности и эффективности этого «абсолюта» вполне оправдано и понятно. Но поиск продолжается. Порою власть находит нужную ей форму «абсолюта», часто тоже в форме триады – «Самодержавие, Православие, Народность» или «Свобода, Равенство, Братство». Живет обычно такая формула в масштабах истории, конечно, относительно недолго. Потом, как говорится, отсыхает и отваливается. Поиск продолжается. И в нем воплощен прямой материально-экзистенциальный собственный интерес власти.
Будет ли единая в своем многообразии Вселенная бесконечно осмысливаться тернарным человеческим мозгом только в рамках продуцируемых им тернарных моделей? Думается, да. Так ли уж это страшно – жить, бесконечно множа асимметричные бинарные оппозиции в бесплодной попытке приблизиться к истинному воплощению в человеческих деяниях и в человеческой мысли целостности мира? Конечно, страшно. Давайте задумаемся о возможных перспективах дальнейшего житья-бытья человечества в окружении асимметричных, а значит до конца не гармонизируемых оппозиций, таких как «человечество и природа», «власть и народ», «богатство и нищета», «мы и они». Как жить со всем этим? Есть ли ответ? Можно ли найти ту медитативную единицу, тот абсолют, который гармонизирует эти оппозиции? Вся история человечества – это война оппозиций и попытки их гармонизировать. Культура предлагала разные медитативные единицы и возводила их в ранг абсолюта. Это был, да и до сих пор им является ритуал, это была судьба, единый Бог. Что бы ни говорили по их поводу разные люди, два последних достаточно устарели. Их несостоятельность со всей очевид-ностью проявляется в тех глобальных кризисах, в которых оказалось человечество. Ритуал, конечно, бессмертен. Но он только форма, способная принять самое разное содержание. Существует ли некая универсальная медитативная единица, способная соединить распадающуюся цепь времен? Да, существует. И существует столько же, сколько существует человек и его сознание. Это то, что Н.В. Гоголь назвал «единственным честным лицом» в своей комедии, а мы берем на себя смелость назвать единственной медитативной единицей с честным лицом в лукавом и двусмысленном мире человеческого сознания. Этим лицом является смех.
Как тут не вспомнить более чем двусмысленную фразу «русского мудреца» Козьмы Пруткова: «Продолжать смеяться легче, чем окончить смех».
Глава IV ПРОСТО СМЕХ

Нет, смех значительней и глубже, чем думают.
Н. В. Гоголь. Театральный разъезд после представления новой комедии
…самосцы, едва увидели Эзопа, как начали хохотать и кричать: «Давайте нам другого толкователя знамений! Да этот сам дурное знамение! Ах, он, дикобраз этакий, горшок толстопузый, обезьяний староста, мешок наизнанку, собака в корзинке, кухонный огрызок!»
Жизнеописание Эзопа
И ангелы – рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю – вам сказать, как они сейчас рассмеялись?
В. Ерофеев. Москва – Петушки
Ныне покойный профессор филологического факультета Самарского государственного университета, добрую память о котором хранят многие выпускники, Л.А. Финк, вообще очень остроумный человек, шутил по поводу заочного образования:
– Кто такой воробей?
– Это соловей, закончивший консерваторию заочно.
Вряд ли профессор филологии был знаком с исследованиями орнитологов, которые, изучая формирование песни у певчих птиц, пришли к выводу о том, что, например, канарейки и зяблики обучаются пению, копируя звуки, издаваемые своими старшими сородичами, и что если в первый период размножения изолировать молодого самца зяблика от объекта подражания, переводя его, таким образом, на «заочное отделение», то у него сформируется ненормальная, дефектная песня. Даже если впоследствии возможность подражания возникает, то песня «полноценной» не станет никогда, а певчий-заочник так и останется фактически воробьем.
Это указывает по меньшей мере на два важных обстоятельства. Во-первых, на наличие у певчих птиц особо значимого для формирования песни как средства внутривидовой коммуникации периода, исключительное значение которого типологически схоже с сензитивным периодом развития речи у человека. Во-вторых, это говорит и о том, что формирование песни у певчих птиц, как-то связанное с функциональной асимметрией полушарий головного мозга, во многом определяется внешними факторами, важнейшим их которых является внутрипопуляционная коммуникация. Это очень напоминает онтогенез речи у человека. Одинокий поросенок, лишенный общения с другими свиньями, и сам захрюкает, одинокий щенок, который вырос, не видя и не слыша других собак, – залает. Одинокий зяблик останется без песни, как человеческий Маугли без речи.
В своей монографии «Асимметрия мозга животных» В.Л. Бианки пишет: «Онтогенетическая динамика межполушарной асимметрии у животных находится, по-видимому, в известной мере под контролем окружающей среды» [89]89
Бианки В.Л. Указ. соч. С. 169.
[Закрыть]. Сходное мнение высказывает и исследователь проблемы доминирования в межполушарных отношениях Аннетт. Согласно модели Аннетт, праворукость у людей рассматривается как следствие «социальных причин» [90]90
Цит. по: Бианки В.Л. Указ. соч. С. 176.
[Закрыть].
Для подобного рода предположений есть, вероятно, свои основания, так как вопрос о генетической детерминированности асимметрии полушарий у людей для большинства исследователей не является окончательно решенным и полностью закрытым [91]91
Там же. С. 177.
[Закрыть].
Существует устойчивое мнение о том, что значительную роль в развитии, по крайней мере, некоторых аспектов функциональной асимметрии мозга играет фактор среды, а у людей, особенно в ранние периоды онтогенеза, – социальнокультурный фактор. А известный экспериментатор в области изучения мозга животных Э.А. Костандов напрямую связывает асимметрию полушарий головного мозга человека с развитием речи, объединяя эти два явления не просто типологически, но и генетически: по его мнению, речь порождает асимметрию полушарий [92]92
Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое восприятие. М., 1983.
[Закрыть].
В наиболее значительной попытке обобщения результатов исследований асимметрии мозга и различных интерпретаций ее причин Уокер приходит к радикальному и, казалось бы, парадоксальному выводу: функциональная асимметрия «больших полушарий мозга существует скорее всего только у людей и канареек» [93]93
Цит. по: Бианки В.Л. Указ. соч. С. 31.
[Закрыть].
Во всех предшествующих главах этой книги мы не раз говорили о том, что мозг человека отличается от мозга высокоразвитых животных, наряду со всем прочим, и тем, что является функционально асимметричным, тогда как у животных он в принципе симметричен. Правы ли мы были в столь однозначном и кардинальном утверждении? И да, и нет. С одной стороны, правы, потому что такой яркой, явной, устойчивой и многоаспектной асимметрии у других живых существ просто нет. С другой стороны, это радикальное утверждение, как и всякое утверждение, порожденное крайне асимметричным, а значит склонным к продуцированию бинарных оппозиций мозгом, в «мыслительном мусоре» которого часто даже «третьего не дано», является не столько истиной, сколько отражением закономерностей функционирования человеческого мозга.
Исследования проблемы функциональной асимметрии головного мозга животных, проводившиеся в последней четверти XX века, убедительно показали, что у различных видов животных в большей или меньшей степени проявляется тенденция к дифференциации функций полушарий головного мозга. Действительно, даже на самом примитивном уровне само наличие двух полушарий, в морфологическом строении которых есть некоторые различия, и даже сам факт их, если так можно выразиться, зеркального противостояния задают тенденцию к асимметрии, по крайней мере, ее возможность. Исследователями обнаружены различные формы моторных и сенсорных асимметрий в мозгу животных, которые часто носят не только индивидуальный, но и внутривидовой характер, то есть асимметрии проявляют явные признаки устойчивости внутри популяции. Такие тенденции к асимметрии обнаружены у эволюционно далеких друг от друга видов животных. Мозг животных по-своему асимметричен. Иначе и быть не может. Мы предполагаем, что само противопоставление симметрии и асимметрии является не столько отражением объективной реальности, сколько результатом моделирующей деятельности человеческого мозга, порождающего идею симметрии как бинарную оппозицию объективно существующей асимметрии. Истинно симметричной может быть только мертвая материя (например, кристаллическая решетка), живое – всегда так или иначе асимметрично. Широко распространенные у животных моторные и сенсорные индивидуальные и даже внутривидовые асимметрии, по всей видимости, являются отражением одной из наиболее фундаментальных психофизиологических закономерностей функционирования билатерального мозга. Таким образом, асимметрия человеческого мозга должна рассматриваться не в сравнении с симметрией мозга животного, которой не существует в принципе, а в сравнении, как выяснилось, с разнообразными и разноуровневыми асимметриями мозга животных.
Появление моторной асимметрии обнаруживается и у далекого предка современных людей – человека прямостоящего. Каменные орудия, которые он изготовлял примерно 1,4–1,9 млн лет назад, показывают, что в популяции человека прямостоящего преобладали правши. Означает ли это, а также то, что моторная асимметрия широко распространена у животных (крысы, мыши, опоссумы, кошки и др.), что наша гипотеза о роли речи в формировании функциональной асимметрии у человека неверна? Отнюдь нет. Видимо, можно говорить о том, что дифференциация различных по сложности функций происходит на разных уровнях организации головного мозга.
Интересно, что обширные повреждения сенсорных и моторных зон коры больших полушарий у животных не приводят у них к смене доминирующей лапы. Это означает, что даже при значительных повреждениях коры головного мозга моторная асимметрия у животных сохраняется. Исходя из этого можно предположить, что дифференциация сенсорных и моторных функций у млекопитающих осуществляется на подкорковом уровне. Это наталкивает на мысль о том, что специфика функциональной асимметрии человеческого мозга базируется на процессах, происходящих в его коре. Видимо, именно этим объясняется чрезвычайная значимость для развития функциональной асимметрии мозга у человека влияний социально-культурной среды, что отмечают очень многие исследователи.
Эволюционно сложившиеся элементы латеральной специализации головного мозга животных во многом стали той базой, на которой сформировалась своеобразная, свойственная только человеку функциональная асимметрия полушарий.
Мы считаем, что своеобразие чисто человеческой функциональной асимметрии возникло и развивалось в уникальных условиях, когда мозг вынужден был воспринимать и обрабатывать гетерогенную информацию, поступающую одновременно по двум каналам, передающуюся разными способами и требующую принципиально разных алгоритмов обработки. Выбор конкретной формы реагирования, принятие решения, актуализация адекватных стратегий поведения в условиях, типологически сходных с ситуацией двойного послания, были чрезвычайно затруднены. В таких исключительно жестких условиях мозг был вынужден кардинально меняться.
Вероятнее всего, основные изменения, обеспечившие в конечном итоге не просто выживание, но и глобальное господство вида homo sapiens, были связаны с возникновением новых и перераспределением старых функций коры больших полушарий головного мозга и развитием комиссур. Интересно, что этот стремительный в масштабах эволюции вида в целом и кардинальный процесс практически никак не отразился на морфологическом уровне. Данные о возможной связи слабо выраженных морфологических асимметрий с латеральной специализацией мозга немногочисленны и крайне противоречивы. Получается, что функционально асимметричные структуры мозга могут быть почти «симметричны» морфологически. Нечто подобное наблюдается и у певчих птиц, в частности у канареек. В связи с этим логично предположить, что функциональная асимметрия необязательно должна быть связана с асимметрией морфологической. Это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что функциональные асимметрии детерминированы не столько внутренними (генетическая причинность), сколько внешними факторами, важнейшим из которых у человека и, вероятно, у певчих птиц является внутривидовая коммуникация и, прежде всего, способность к членораздельному звукопорождению.
Размышляя о факторах формирования специализации полушарий головного мозга у человека, Ф. Симеон и его коллеги приходят к выводу о том, что важнейшую роль в этом процессе играет не столько способ переработки информации (аналитический или синтетический, последовательный или параллельный), сколько природа и характер анализируемого стимула [94]94
Simion F., Bagnara S., Bisiacchi P., Roncato S., Umilta C. Laterality Effects, Levels of Processing and Stimulus Properties // J. Exp. Psychol. (Human Percept.) 1980. Vol. 6. № 1. P. 184–195.
[Закрыть]. Таким образом, возникшая в результате мутации у предков человека способность к членораздельному звукопорождению привела к изменениям в информационном поле, в котором появились специфические стимулы. Если гипотеза Ф. Симеона и его коллег верна, то именно эти стимулы, которые мы называем протословами, и являются основным фактором функциональной специализации полушарий головного мозга у человека. В связи с этим еще раз напомним о типологической близости звуковых сгустков, из которых состоит «боботание» ребенка на определенной стадии его развития, и сохранившихся в современных языках слов типа «лютость» и «бобушка», которые явно восходят к протословам.








