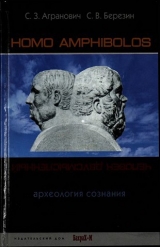
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
В этом примере мы видим еще один канал, по которому наше, еще детское, сознание, в данном случае через сказку, сообщалось с мифологическим сознанием архаики, пополняясь тем «сырым» материалом, который и стал базой его становления. Есть все основания полагать, что речь идет об усвоении глубинных моделей человеческого сознания, возникших, вероятно, на самых ранних этапах его формирования и выступающих как фундаментальная и, похоже, единственно возможная основа так называемого адекватно функционирующего человеческого сознания. Следует заметить, что эта информация строится на основе асимметричных бинарных оппозиций, на которых и базируется древнейшее мифологическое сознание. Наиболее универсальной, вероятнее всего, здесь является оппозиция «жизнь – смерть».Например, это явно фиксируется в игре в жмурки. А вот другая игра, которой мы обычно не придаем большого значения, потому что ее участники с одной стороны, как правило, дети от года до двух, а с другой – старшие представители семьи или рода. Показательно, что фольклор сохранил и донес до нас далеко не такую невинную, детскую, бессмысленную, как теперь кажется, песенку:
Ладушки! Ладушки!
– Где были?
– У бабушки!
– Чего ели?
– Кашку.
– Чего пили?
– Бражку.
Кашка сладенька,
Бражка пьяненька.
Сохранившийся в этой песенке ритуальный диалог вводит нас в обстановку тризны и ритуального общения с предками при помощи касания ладонями. Таким образом, детские «ладушки» (ладошки) – это и вербальная, и жестовая имитация древнейшего представления о встрече, соединении, общении живых и мертвых при помощи касания ладоней. Большой исторический и этнографический материал доказывает правомерность такого суждения. [21]21
Подробнее об этом см.: Агранович С.З., Стефанский Е.Е. Указ. соч. С. 59–88.
[Закрыть]
Все мы в детстве не только слышали замечание, но и порой получали по рукам за попытку, задавая какой-то вопрос, указать на человека пальцем. Нам объясняли, что это некрасиво, неприлично. Мало кто из нас решался задать ответный вопрос, например: «А почему неприлично?» И обычно по-настоящему объясняющего ответа, конечно, не получал. Мы слышали: «Хорошие, воспитанные дети так не поступают!» Или что-нибудь в этом роде. Став взрослыми, большинство людей, не задумываясь, воспроизводят этот паттерн по отношению к собственным детям. «Разгадать» подобную мыслительную модель в общем-то нетрудно. Вытянутый указательный палец является явным фаллическим символом. И данный жест в архаическом ритуале, вероятнее всего, являлся оплодотворяющим жестом, который должен сопровождаться смехом. Причем фаллос, явно связанная с физиологией размножения часть человеческого материально-телесного низа, и смех, как аффективный референт первобытного представления об основном признаке, носителе и дарителе жизни, тесно связаны в человеческом сознании ассоциацией по смежности функции и поэтому почти неразделимы. Отрицательное отношение к этому жесту, восприятие его как глумление над личностью вторично. То, что в архаике было добрым пожеланием, выражавшимся в формах положительной магии, позже, с появлением личностного сознания, стало расцениваться как оскорбление, издевательство. И наши родители по отношению к нам, да и мы по отношению к нашим детям в конечном итоге правы. Мы передаем концентрированную и нерасшифрованную культурную информацию не только о первичной мифологической маркировке человеческого тела и мира, не только о месте смеха в человеческом сознании и культуре, но и о том, что некоторые модели человеческого поведения, воспринимающиеся в архаике как положительные, по отношению к личности приобретают форму недопустимого сексуального посягательства.
Один из авторов этой книги в молодости коллекционировал анекдоты, причем те, которые безусловно не считаются «похабными», то есть в которых не упоминается так или иначе материально-телесный низ. Это делалось не в силу ханжества или брезгливости, а потому, что именно эти анекдоты являются относительно редкими. Их действительно мало. В этом отношении нам становится понятным мнение 3. Фрейда о том, что смех возникает как реакция на особого рода двусмысленность, выстроенную как оппозиция сексуальный инстинкт – культурный запрет, Оно и Сверх-Я, контроль сознания и непосредственность бессознательногои т. д. При всей кажущейся глубине этого суждения оно, с нашей точки зрения, абсолютно неверно. Смех является аффективной реакцией на другую, куда более значительную оппозицию: жизнь – смерть.Назойливое присутствие мотивов, кажущихся чисто сексуальными, порождено тем, что формирующееся человеческое сознание и в нижней части собственного тела, и в нижней, хтонической части осмысляемого им мира наиболее круто замесило эти оппозиции, связанные с идеей поглощения, пожирания, уничтожения, с одной стороны, и рождения, возрождения, воскрешения – с другой.
Как бы ни свивались нити человеческого мышления, какие бы сложные петли, узлы и сплетения они ни делали, рано или поздно мы приходим к некоей конечной точке, в которой смыкается человеческое и дочеловеческое, принимающее в сознании форму некоего первоначала, хаоса, неструктурированного мрака, «Большого взрыва» и так далее. То есть, в конечном итоге, сколько веревочке ни виться, она всегда приводит к мифу…
Любопытно, что драматизм становления человеческого сознания, воплотившийся во множестве образов, модельных построений, концептов и так далее, нашел свое воплощение и в образе бесконечно вьющейся нити или веревки.
Бабушка одного из авторов, пережившая свое девяностолетие, неграмотная деревенская женщина, мудрость которой тесно сопряжена с основами народного сознания, давно отдала своему внуку-коллекционеру все принадлежавшие ей старинные вещи, так или иначе связанные с ушедшим бытом и, в принципе, не нужные ей сейчас (рубель, старинную ступу, кое-какую самодельную деревянную посуду). Единственная вещь, с которой она отказалась расстаться, – прялка, хотя она, прялка эта, давно уже не используется и нужды в прядении и пряже старая женщина не испытывает. Любопытна фраза, которой она объяснила свой поступок: «Может быть, пока я живу, еще попряду, а может и жить буду, пока пряду». Определенно, она не знает об античных парках, прявших нить судьбы, однако мыслительная формула точно совпадает с интеллектуальной моделью одного из наиболее архаических античных мифов.
Если в осенние и зимние месяцы внимательно присмотреться к людям, надевшим разнообразные вязаные свитера, джемперы, жилеты и т. д., то нельзя не обратить внимания на весьма популярный орнамент, который называется «веревочка» или «косичка». Это перевитые между собой две или три плоские или рельефные пряди ниток, расположенные на одежде параллельно друг другу и всегда вертикально. Этот орнамент является конкретно-чувственным следом древнейших представлений о верхе и низе, хаосе и космосе, жизни и смерти, о мужчине, спасающемся от смерти и воскресающем к новой жизни, о женщине-спасительнице, помогающей ему проложить путь в чужом, мертвом, хаотическом мире, о дороге как некоем пространственном ориентире, маркирующем Вселенную, и еще о многих представлениях древнего человека о себе, о других и о мире.
Веревка или нить всегда является даром женщины: баба-яга дает герою русской народной сказки клубок, который поведет его по лесу настолько темному, что дорогу там разобрать совершенно невозможно; Ариадна даст такой же клубок Тезею, чтобы он нашел обратный путь из лабиринта; из девичьих волос якутский шаман сплетет миниатюрный аркан-оберег, который дает возможность обладателю выйти из безграничного тумана, равного смерти и хаосу. Иногда роль такой веревки или нити будет играть просто женская коса, вероятно, наиболее архаическая форма этого концепта. Именно на косах благородная калмыцкая царевна вытащит из глубокой ямы героя узбекского эпоса Алпамыша, который спал вечным сном в этой яме. Представления о связи косы со спасением может присутствовать и не явно. Когда главного героя русской былины «Ставр Годинович» его мудрая жена-богатырша спасет от гибели «в погребах глубоких» у князя Владимира, Ставр, с трудом узнав ее, переодетую татарским воином, спросил: «А где косы твои русые?» – и былинная героиня ответит: «А на косах своих русых я тебя из погребов вытащила». Хотя слушатели былины знают, что косы острижены героиней, как кажется, только с целью травестирования.
Так естественно сплетаются в художественной ткани русской эпической героической песни два архаических мотива – травестирования (оборотничества, связанного с превращением в хаосе всего во все) и спасения женщиной мужчины, вытягивание его из хаоса в космос, из смерти в жизнь, из хтонического низа вверх на косе, веревке, нити.
Характерным мотивом международного фольклора, да и традиционного сознания вообще, является то, что женщина-пряха окружена особым уважением, прядение является для женщины в быту неким, если так можно выразиться, «знаком качества». Это, вероятно, восходит к архаическому пониманию пряхи как существа сакрального. Так, например, по представлениям русской старины, если женщина засыпает с веретеном в руках и продолжает прясть, то за нее прядет Прасковья Пятница, а по более архаическому представлению – Мокошь. Посланец Петра застает чудную деву Февронию и будущую святую за прядением. Даже Жанна Д’Арк поговаривала, что, если выживет, в монастыре станет прясть. Героиня одной из французских сказок, обработанных в придворно-манерном духе Шарлем Перро, Спящая Красавица, должна заснуть почти вечным сном, уколовшись о веретено. До шестнадцати лет она не видит веретена и ничего о нем не знает, но в день своего рождения просит случайно встреченную старушку обучить ее мастерству прядения, и предсказание сбывается. Этот список можно продолжать довольно долго. Следует заметить, что Пресвятая Дева Мария тоже была пряхой и в день благовещения встретила архангела Гавриила с прялкой в руках. Несмотря на обилие и разнообразие упоминаний в мифе, фольклоре, литературе образа пряхи (именно пряхи, а не ткачихи, швеи и т. д.), концепта, связанного с представлением о клубке, веревке, нити, косе как об орудии спасения и избавления мужчины от смерти, специальные тексты, разъясняющие мифологическую природу этих представлений, практически отсутствуют. Хотя в жизни мы сталкиваемся с ними постоянно, начиная с веревочки-оберега, свободно завязанной вокруг запястья или шеи, и заканчивая мифологическим образом парки, прядущей и обрывающей нить жизни каждого человека, этот концепт как бы ускользает, он лишен определенности и четкости. Логика именно такого понимания этого культурного явления довольно легко прочитывается в образе женщины-роженицы, производящей, то есть дарящей, жизнь и прядущей нить судьбы.
Человеческое сознание вообще вещь уникальная. В его существовании, в том, что оно есть, не сомневается практически никто. Его изучению посвятили свои исследования С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и многие другие замечательные ученые. Однако ни обилие работ на эту тему, ни множество весьма разноречивых и порой взаимоисключающих терминологических определений, ни попытки экспериментальных исследований до сих пор не дали возможности четко ответить на кажущиеся простыми вопросы: что такое сознание? каково соотношение сознания и когнитивных процессов? это одно и то же или совсем не одно и то же? в какой точке эволюции живой материи оно появляется? каковы его критерии? Как это ни смешно, определенно мы знаем одно – сознание есть и его даже можно потерять. И тем не менее, до сих пор нет ответа на вопросы: куда оно исчезает и каковы механизмы его нового обретения, если оно, конечно, происходит?
В работе Ч.А. Измайлова, Е.Д. Шехтера и М.М. Зимачева сделана очередная попытка уловить соотношение сознания и информационных процессов мозга. В качестве эмпирических объектов, на которых проводился эксперимент, были выбраны моллюски, лягушки и человек. Это было сделано потому, что исследователи не сомневались в том, что моллюски и лягушки сознанием не обладают, а человек уж точно является носителем неуловимой сущности. Заметим, что исследователи отказались от экспериментов с высокоразвитыми млекопитающими, например с кошками, так как не могли быть априорно уверены в том, что сознание у них отсутствует. Исследуя реакции живых существ на световые раздражители и фиксируя биопотенциалы мозга с помощью энцефалографа, ученые пришли к выводу, что «сознание не встроено в сенсорный механизм, а выступает как внешний фактор по отношению к зрительному образу» [22]22
Измайлов Ч.А., Шехтер Е.Д., Зимачев М.М. Сознание и его отношение к мозговым информационным процессам // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 2001. № 1. С. 34–51.
[Закрыть]. Сознание в очередной раз не удалось поймать и зафиксировать хотя бы в виде изменений во всплеске биопотенциалов на экранах приборов или на ленте записи. Запись биопотенциалов человека и моллюсков была удручающе одинаковой. Любопытен здесь не столько результат, когда наш «неуловимый Джо» в очередной раз ушел, не оставив никаких улик, а то, к какому выводу пришли психологи: «Перспективы познания психологических и нейробиологических механизмов сознания достаточно пессимистичны» [23]23
Там же. С.49.
[Закрыть].
Кто-то как бы проклял человечество, сказав: «Не видать тебе твоего сознания как собственных ушей». Но уши увидеть можно. В зеркале. Исследователи завершают статью, и эта самая увлекательная ее часть, изложением «великой психологической мечты» об обретении этого зеркала. Им, определенно, не может быть никакая самая современная фиксирующая аппаратура. Что же нужно, чтобы увидеть свое сознание? Какое зеркало? Им, по мнению психологов МГУ, может стать только более высокий, чем сознательный, уровень развития мозга, так как сознание не может изучать само себя. Для этого нужен выход за его пределы. Таким образом, перед наукой, как богатырем на распутье, встает камень с тремя вариантами пути, каждый из которых не только сложен и тяжел, но и достаточно двусмыслен – «куда ни пойдешь, обязательно что-нибудь да потеряешь».
Вариант первый. Человеческий мозг на земле совершает гигантский и сжатый во времени качественный скачок. Появившееся в результате этого небывалое новое сознание разворачивается на 180 градусов, изучает старое и наконец-то отвечает на вопрос, каким оно было. Хотелось бы, но маловероятно. Путь второй: к нам наконец-то прилетают инопланетяне (или мы к ним). Маловероятно, но возможно. Однако это, пожалуй, тоже будет неэффективно, потому что если мы их, да и они нас смогут понять, они, скорее всего, окажутся достаточно на нас похожими, особенно в области сознания. Вариант третий известен хорошо – о нем мечтал еще Экклезиаст. Это диалог с Богом. Но у Бога сознание другое, совсем не как у человека. И ему-то, может быть, и удастся со своей точки зрения понять человеческое сознание, а вот удастся ли нам через Его сознание понять себя? Это еще менее вероятно в силу многих причин. Боимся признаться, но, прежде всего, в силу простого отсутствия Сознания Абсолюта. А для людей, верующих в наличие этого сознания, Господние дела, перестав быть чудными, станут абсолютно непривлекательными, потому что перестанут быть делами Господними («Чудны дела твои. Господи»!). Следовательно, человеческое сознание на неопределенный промежуток времени застраховано от познания себя другим, от возможности увидеть себя в зеркале.
Однако, как нам кажется, есть и другой, четвертый путь, которым мы пытаемся следовать. Этот путь – выход за пределы сознания в пространство культуры, этим сознанием порожденной, которая, подобно угольным пластам, хранит отпечатки моделей, в какой-то мере отражающих и его генезис, и его природу, и его функционирование. С некоторым преувеличением можно было бы сказать, что сознание и есть целокупность неких бинарных моделей, обнаруживающихся в мифах, вербальном языке и других сигнальных системах, текстах, артефактах культуры. Представим себе современных сыщиков, идущих по следу подозреваемого, оставившего огромное количество улик: отпечатки обуви, пальцев, Материальные объекты, по которым можно провести анализ ДНК, подробную медицинскую карту, образцы почерка, записи голоса, словесное описание, и более того – откровенные и подлинные дневниковые записи и т. д., и т. д. Весь этот массив материалов даст возможность восстановить внешний облик человека, создать психологический портрет, здраво рассудить о его физиологических особенностях и личностных пристрастиях и даже довольно точно построить прогноз его дальнейшего поведения. Однако, если поимка его невозможна (например, он умер), все это не дает самого главного – возможности регенерировать подозреваемого по имеющимся данным, чтобы подвергнуть его допросу.
Мы находимся в еще более сложном положении: наш «подозреваемый», несмотря на обилие оставленных им следов, не только теоретически, но и практически неуловим, по крайней мере, в исторически обозримый период. Он не просто оставил разнообразные и порой противоречивые, сбивающие с толку следы, он продолжает их множить. Вместе с тем, во всем многообразии следов, оставленных в истории культуры человечества, наш «неуловимый Джо» – человеческое сознание – соблюдает некоторое постоянство алгоритмов, которое вселяет надежду познакомиться с ним хотя бы заочно.
Идя по следам человеческого сознания, пытаясь понять, какое оно, мы вольно или невольно выходим на необыкновенно сложный вопрос. Это вопрос о возникновении и рождении человеческого сознания, который несет в себе еще больший массив проблем: как возник язык, миф, культура человечества и, наконец, сам человек? Легко ли нам? Трудно. Сделаем что должно, и будь что будет.
Более столетия назад ответ на вопрос о возникновении человека, его сознания, языка и культуры попытался дать Ф. Энгельс в своей знаменитой статье. Энгельсу было трудно, и не только потому, что он не располагал теми данными, которыми располагает современная наука, и не только потому, что его работа была изначально глубоко идеологизирована, а поэтому и вывод нужно было делать такой и только такой. Вряд ли помехой ему могла служить и последовавшая после его смерти сакрализация имен ученых, входивших в мощный и необыкновенно плодотворный тандем – Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Пытаясь дать окончательный ответ на фундаментальный вопрос о происхождении человека, Энгельс не учел того, что научные ответы на кардинальные вопросы бытия всегда таят в себе опасность, заложенную еще на самой заре формирования человеческого сознания – сотворить миф, вернее, нечто, что соответствует модели мифа.
Лет через двадцать с небольшим в подобную ловушку попал другой ученый, уже не экономист и социолог, а врач, физиолог и психолог – 3. Фрейд. Он сотворил миф об основных мотивах человеческого поведения. Понимая, что человек происходит от животного, он вполне естественно обратился к главным детерминантам поведения животных – основным инстинктам. Впрочем, инстинкт пищевой, да, честно говоря, и инстинкт самосохранения его интересовали мало. У него, как и у Энгельса, проявилась тяга к поиску некоего единственного кардинального момента, определяющего закономерности функционирования всей исследуемой системы. И если у Энгельса это был труд, то у Фрейда – сексуальный инстинкт. Фрейд выстраивает свой миф на двух фундаментальных ошибках. Первая заключается в том, что все детерминанты поведения человека он свел фактически к одной причине – постоянной устремленности пусть даже и к широко понимаемому им сексуальному наслаждению. Вторая, главная ошибка заключается в том, что биологическое в человеке, как его понимал 3. Фрейд, продолжает оставаться чисто биологическим и в процессе антропогенеза не социализируется, ведя свою бесконечную битву с абсолютно чуждыми и враждебными ему социальными табу.
На базе своих убеждений 3. Фрейд пишет довольно талантливую фабулу, которую сам принимает за научную реконструкцию истории человеческой культуры, но которая фактически является записанным текстом индивидуального мифа. Эта фабула о сексуальных страданиях неких юных, но уже половозрелых самцов то ли полуобезьян, то ли людей, которые ненавидят некоего хозяина то ли рода, то ли стада, обладающего правом на всех самок и являющегося их отцом. Восстав против него и сожрав его тело, они вдруг ни с того ни с сего испытывают целую гамму разнообразных чувств, которые и порождают культуру. Однако 3. Фрейду было мало собственного мифа, и по законам мифотворчества, которые он знать не мог в силу их теоретической неразработанности в то время, начинает искать архаическую мифологическую структуру, аналогичную его мифу. И он, как ему кажется, ее находит. Миф об Эдипе был воспринят Фрейдом, а затем и огромным количеством его читателей и почитателей как древняя метафора, адекватно отражающая перипетии становления уже не первобытного человеческого сообщества, а отдельной человеческой личности, направляемой, в принципе, теми же поведенческими мотивами и идущей теми же путями.
Интересно, что в 1944 году В.Я. Пропп опубликовал статью «Эдип в свете фольклора», где доказал, что миф об Эдипе является относительно поздним и уж точно не восходит к той седой древности, когда по земле бродили стада обезьяноподобных пралюдей. Это вообще не сюжет об инцесте и даже не сюжет об убиении отца сыном. Сюжет Эдипа, по Проппу, – это сюжет о власти, вернее, передаче власти. Особый интерес для нас статья В.Я. Проппа представляет, в первую очередь, не тем, что совершенно уничтожает «Эдипов комплекс» или, вернее, его сопряженность с общеизвестным мифом, а тем, что автор в ней реконструирует и воспроизводит не только модели человеческого сознания и закономерности их происхождения, но и, в какой-то мере, конечно, механизмы интеллектуального моделирования.
По мнению В.Я. Проппа, сюжет об Эдипе, то есть о сыне, убившем отца и женившемся на матери, ни в коей мере не является отражением какой-то жизненной ситуации. Впрочем, он признает, что такая единичная ситуация и могла возникнуть, однако коллективное сознание никогда не сотворило бы из нее сюжета, потому что оно работает только с тем, что бывает со всеми и всегда (под «всеми» может пониматься определенная часть социума, а под «всегда» – обозримая для современников эпоха). Фабула мифа об Эдипе является порождением мыслительных процессов. В.Я. Пропп даже указывает, что она возникла в результате наложения исторически более поздних форм передачи власти на более ранние. Власть древнего царя-жреца [24]24
См.: Фрезер Дж. Дж. Указ. соч.
[Закрыть]передавалась наследнику-пришельцу через его брак с дочерью царя. Только так он становился царем. Когда эта форма передачи безвозвратно ушла в прошлое, ее заменила другая, более прогрессивная. Общество кардинально изменилось. Ритуальная фигура царя-жреца, который не обладал реальной властью, а только был магическим «супругом» природы и, ритуально оплодотворяя ее, становился универсальным подателем пищи для первобытного коллектива и его спасителем от голодной смерти, уходит в прошлое. Следы представления о царе-жреце, конечно, фиксируются в коллективной памяти и не могут не оказывать воздействия на представление о появившемся в реальной жизни «настоящем» царе – правителе, обладающем реальной военной, политической и экономической властью.
Следы представления о царе-жреце довольно долго портили жизнь реальных правителей. Так, например, Бориса Годунова всенародно обвиняли в отравлении жениха его дочери Ксении, которого сам Борис долго искал и неожиданная смерть которого в Москве была для него большим горем. Если бы Борис не был царем, абсурдное обвинение на него никогда бы не пало. Но с детства все люди воспитывались на сказках, многие из которых начинались со слов: «Жил-был царь, который убивал всех женихов своей дочери…». Так в этой сказочной формуле зафиксировалось древнее представление об отношении царя-жреца к своему будущему зятю-убийце. Власть настоящего царя передавалась сыну после естественной смерти ее носителя, и никакие нарушения этого нового правила (а они могли возникнуть и возникали порою, когда сын «убыстрял» передачу власти, став преступником и убив отца) не могли отразиться в канонических фольклорных представлениях, ибо, как уже говорилось, фольклор не интересуют исключения из правил, даже если они многочисленны.
Древняя форма долго сохранялась в коллективной памяти в силу того, что несла в себе весьма интересные сюжетообразующие конфликтные ситуации, открывающие широкое поле для непрагматической коммуникации внутри человеческого сообщества. Наложение полузабытой древней фабулы на новую, актуальную, но в отношении сюжетообразования абсолютно не плодотворную, потому что почти бесконфликтную, породило некий гибридный сюжет, в котором совместились функции царя и царя-жреца, убийцы-пришельца, зятя, становящегося наследником, и царского сына, дочери царя-жреца, выполнявшей функции женщины-передатчицы власти, и жены правителя, ставшей добычей победителя. Такое совмещение функций возможно только в сознании, но не в жизни. Произошло почти как у А. Платонова – «жить некуда, вот и думаешь в голову».
Так ломается универсальная отмычка, которую 3. Фрейд пытался применить для объяснения не только мотивации человеческого поведения, но и природы движущих сил социальных процессов, и истоков культуры человечества. Вообще универсальные отмычки опасны, даже тогда, когда в качестве них пытаются использовать гениальные ключи. Они имеют тенденцию превращать научное исследование в прямое мифотворчество.
Фабула мифа, описывающего вялотекущий эволюционный процесс превращения «наших лохматых предков» в людей, весьма напоминает фабулу мифа, написанного Фрейдом. И главным сходством является стремление объяснить «все» через «одно»: у Фрейда через сексуальность и стремление к удовольствию, а у Энгельса – через труд и насущные потребности.
Если бы Энгельс пошел путем Фрейда, начав искать аналогию среди мифологических и мифоподобных сюжетов мировой литературы, ему пришлось бы обратиться либо к древнегреческому мифу о Пигмалионе и Галатее, либо к знаменитой средневековой легенде пражских евреев о Големе, либо к сюжету романа Мери Шелли о великом и ужасном ученом Франкенштейне. Энгельс не стал искать таких аналогий, мало того, он приостановил работу над книгой «Три формы порабощения», ограничившись лишь введением, которое должно было стать теоретической основополагающей ее частью. Все это дает возможность предполагать, что сам ученый весьма критически относился к своим выкладкам, в которых единственным творцом и созидателем человека становился труд. Поражает различие и одновременно сходство судьбы двух чрезвычайно отличных друг от друга попыток, предпринятых Фрейдом и Энгельсом с целью объяснить происхождение человека и культуры человечества. Объединяет их только ярко выраженная материалистическая направленность и уверенность в том, что истоки человеческой культуры надо искать в биологической эволюции. Во всем остальном судьбы этих теорий сложились по-разному. Общность их судеб заключается в том, что на протяжении всего XX века эти учения были подвергнуты своеобразной сакрализации. Сакрализация работы Энгельса базировалась на политической и идеологической основе, воспринималась как важная часть неоспоримого, универсального и глобального учения. Сакрализация идей Фрейда, агрессивно заполнивших определенную часть интеллектуального пространства XX века, строилась по большей части на основе закономерностей рождавшейся и формировавшейся поп-культуры, которая и теперь продолжает их эксплуатировать.
Подводя итог нашим рассуждениям, мы должны еще раз констатировать, что, конечно же, труд, возникший из сложного инструментального поведения высокоразвитых животных, сыграл огромную роль в формировании человека и человеческой культуры. Он был одним из важнейших, если не важнейшим явлением, суть которого заключалась в переходе от биологического к социальному, от животного к человеку, от инстинкта к сознанию. Однако труд не был первопричиной того толчка, в результате которого возник и стал набирать силу процесс антропосоциогенеза. Что же было первотолчком, если не труд для удовлетворения насущных потребностей стада, эволюционирующего в социум? Мы надеемся в этой книге изложить свою гипотезу на этот счет.
Так же, как Энгельс и Дарвин, мы абсолютно уверены, что человек произошел от животных, и, пытаясь раскрыть суть этого процесса и природу первотолчка, мы вынуждены будем ответить на целый ряд вопросов. К сожалению, по большей части гипотетически. Кто мы? Как животные и авторы этой книги, и ее читатели относятся к отряду приматов. Имеется у нас и горделивое самоназвание – Homo sapiens, т. е. остальные жители Земли являются неразумными. Однако есть все основания полагать, что это не совсем так. Высокоразвитые животные тоже обладают определенным разумом. И тут важен вопрос: где кончается самое умное животное и начинается самый глупый человек? Когда можно сказать знаменитую страшноватую фразу, сказанную фарисеями о Христе: «Се – человек!»? Ясно одно: отличие мышления человека и животного не только и не столько количественное, сколько качественное. Наше сознание другое. Не хуже и не лучше, а другое. Его отличие, как нам кажется, состоит в способности производить непрагматические и нефункциональные мыслительные модели, которые с точки зрения прямолинейной, вульгарной адекватности не несут непосредственной функциональной нагрузки.
***
Вот пример мыслительного мусора, образовавшегося в наших головах в процессе попыток образно представить себе отличие сознания высокоразвитого животного и человека. Высокоразвитое животное мы представили себе в виде необыкновенно крупной, красивой, благородной собаки, царственно лежащей перед нашим взором, а ее сознание – в виде прекрасной крупной кости, полностью соответствующей ее потребностному состоянию. Собака крепко и абсолютно адекватно держит эту кость зубами и передними лапами. Она вместе с костью идеально «вписана» в среду и ни на минуту не задумывается, кто она, зачем она.
С образом человека было потруднее. То, что нам представилось, честно говоря, не совсем человек, а герой архаического мифа палеоазиатов и североамериканских индейцев – ворон Кутх. Он сам точно не знает, кто он: то ли зооморфный тотем, то ли человек, то ли величественный демиург, то ли шут-трикстер. Да и сознание его рисуется нам не краше. Это – сотворенная им из собственных испражнений красотка, которую и держать несладко, и бросить жалко.







