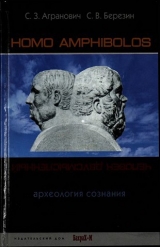
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Любопытно, что у православных славян в слове «лютость» сохранилась коннотация жестокости, звериной беспощадности, а у славян-католиков – коннотация жалости, обиды. Правда, следы прежних значений нигде до конца не утрачены. Так, например, в северных русских говорах сохранился глагол «лютиться», употребляемый обычно по отношению к ребенку, который хнычет, капризничает, как бы желая вызвать жалость к самому себе («Не лються!»), а в польском языке самый жестокий зимний месяц, февраль, до сих пор называется «лютень». Для нашей работы такой бинарный и в некоторой степени амбивалентный смысл архаических концептов, так же как и их более позднее разделение, крайне интересен и важен, поскольку является одним из свидетельств изначальной двойственности, двусмысленности человеческого сознания.
Заинтересованные этим явлением, исследователи обратились к более древним, индоевропейским истокам этимологии праславянского корня *ljut, от которого произошло у славян столь двусмысленное слово «лютость». Наиболее убедительной можно считать связь этого корня с индоевропейским *leu – «камень». Такая семантика, по мнению большинства исследователей, во многих случаях развивается на базе глаголов, обозначающих разрушительные действия, или на базе слов со значением «камень», «скала». Таким образом, этот концепт обозначает нечто каменное и одновременно колющее, режущее, рубящее, разрушающее. По этому описанию легко можно представить себе предмет. Это, вероятно, то, с чем знаком каждый, кто хотя бы раз посещал экспозицию исторического музея, посвященную быту людей каменного века, – каменное рубило. Естественно, возникает вопрос: почему с этим древним орудием связаны такие разноречивые и как будто несовместимые представления? И если ассоциация каменного рубила с жестокостью и беспощадностью кажется более или менее естественней и очевидной, то ассоциация его с жалостью на первый взгляд выглядит парадоксальной. Как такой предмет, такое орудие может быть связано с представлением о жалости и пощаде? Следуя за лингвистами, наблюдая интереснейшие закономерности, связанные с архаическими формами языка и историческими изменениями, происходящими в нем, можно обнаружить едва различимые следы того процесса, который современный человек напрямую никогда не сможет наблюдать, – процесса формирования вербального языка и человеческого сознания.
В слове «лютость» поражает его изначальная глубинная двусмысленность, соединение в нем оппозиционных смыслов. Оно, конечно же, не является словом языка первобытных людей. Однако в нем в какой-то мере отразились закономерности архаических форм языка и особенности формирования человеческого сознания. Острый, колющий, рубящий камень с его твердостью, способностью к разрушению, который функционально применялся еще архантропами, оставаясь «для себя» все тем же, постепенно начинает наделяться сознанием формирующегося человека вторым «смыслом», который отражает уже не столько его функциональные возможности, сколько отношение человека к миру, осмысливаемое через это орудие. Наличие уже двух смыслов становится основой возможности моделирования картины мира. Эта первичная модель, правда, уже невероятно усложненная, обнаруживается в архаических мифах, дошедших до нас или реконструированных учеными.
Сейчас практически невозможно однозначно сказать, что было первично: использование «умнеющими» обезьянами остроты и твердости камня для рубки и резания или его «очеловечивание», введение его из области тактильных ощущений и зрительных впечатлений в сферу чувств и переживаний. Вероятнее всего, это были синергичные процессы. Этимология славянского концепта «лютость» непосредственно соотносится с древнейшими мифами творения, которые несут в себе одновременно две идеи – разрушения и созидания. Мифологическая космогония начинается с разрушения хаоса, который может быть представлен как тело первозверя (часто это бывает змей) или антропоморфного первосущества. Вторым этапом космогонии становится созидание космоса из частей, обломков, членов разъятого мирового тела. Мифологическую космогонию славян интересно и убедительно реконструировали Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров. Это реконструкция мифа о поединке Перуна и Волоха (Волоса, Велеса) – богов, о которых с уверенностью можно сказать, что они являются праславянскими ипостасями представителей индоевропейского пантеона Воруна и Индра. Противостояние Волоха и Перуна отражает оппозицию хаоса и космоса, мрака и света, земли и неба, лютого зверя (змея, медведя, волка и т. д.) и небесного громовержца, причем Велес явно выполняет функцию тотемного зверя-оборотня. Недаром Велес у славян генетически восходил к медвежьему тотему, имел облик медведя и сначала выполнял функцию божества охоты и только затем – божества скотоводства и богатства.
Следы Велесова культа легко обнаруживаются в славянском фольклоре, даже непосредственно в русском. Это и многочисленные сказки, где медведь выступает как тотемный зверь, и ряженье медведем с сопутствующими ему полуритуальными игровыми текстами и действиями. Следы этого культа сохранились и в игрищах с ручным медведем, где его жестово-речевой диалог с поводырем выделял и ритуально-смеховой аспект отношений человеческого коллектива к своему универсальному оплодотворителю и подателю пищи, и древний тотемный статус именно этого зверя.
Ритуальное почитание медведя долго сохранялось даже в быту. Например, еще в конце XIX – начале XX века охотники, убившие медведя, могли довольно выгодно продать кисть его лапы, явно не имевшую никакой хозяйственной ценности. Она высушивалась и прикреплялась над скотным двором, называлась «скотий бог» и должна была способствовать размножению скота и умножению богатства хозяев. По всей вероятности, идиоматическое выражение «иметь мохнатую лапу», что означает «обладать сильным покровителем в верхах общества», возникло из почитания этого древнего мифологического символа. До сих пор существует если не гадание, то воспоминание о гадании, в котором мужчина с кистями рук, покрытыми волосами, осмысливается будущими невестами как потенциальный хороший кормилец, богатый жених, удачливый добытчик.
Среди русских народных сказок сохранились тексты, где отец отправляет свою дочь в лесную избушку, в которую ночью является медведь. Медведь играет с героиней в жмурки, то есть в смерть. Героиня, которой оказывает помощь мышь-медиатор, выигрывает, ей удается выжить, таким образом, она проходит инициацию, и медведь провожает ее во взрослую жизнь, даря сундук с богатым приданым. Конечно, в пересказе этой народной сказки мы допустили некоторую вольность, обнаружив под текстом произведения народного искусства (сказки) признаки древнего мифа, из которого сказка возникла как раз в результате утраты ритуально-мифологических признаков. Конечно же, в сказке девушка попадает в страшную избушку уже не для инициации, а по воле злой и жадной мачехи, а медведь одаривает ее за трудолюбие и доброту. Но следы древнего почитания медведя как тотема, как универсального оплодотворителя и подателя пищи остались даже в сказке.
Любопытно, что еще в конце XIX века во время народных гуляний медвежьи поводыри, наследники древних скоморохов, происхождение которых многими учеными возводится к славянским шаманам-волхвам, после представления с ручным медведем устраивали сеанс лечения, явно восходивший к пришедшим из глубокой древности представлениям и обрядам. Вожатый фиксировал ручного зверя, а люди, страдавшие болями в определенных частях тела, прикасались к голове, лапам, спине животного за определенную плату. Особенно любопытно выглядело лечение от бесплодия. Женщина плясала, а вожатый заставлял медведя двигаться в ритме, напоминающем танец, на безопасном от нее расстоянии. Таким образом, воспроизводилась ритуальная пляска, символизирующая собой сексуальный акт. Женщина буквально оплодотворялась тотемом.
В знаменитой сказке «Медведь на липовой ноге» зафиксировано древнейшее табу на поедание кисти медвежьей лапы: зверь приходит к деду и бабке, чтобы отомстить им не за свою смерть (убивать тотема разрешалось), а за попытку использовать в быту кисть его лапы. Медведь распевает страшную песню об обреченном человеке, нарушившем первобытное охотничье табу и в результате нарушения ритуала безвозвратно уничтожившем зверя: «А все села спят, и деревни спят. Только бабка не спит. Мое мясо варит. На моей коже сидит. Мою шерстку прядет».
В единственном месте на Земле – центральном ресторане г. Саранска – вы можете заказать фирменное блюдо, рецепт которого восходит к архаической кухне древней мордвы. Таким образом, вы безнаказанно нарушите древнейшее табу человечества. Сложная котлета из разных сортов мяса домашних животных имитирует своим внешним видом табуированную пищу – медвежью лапу. Не исключено, что это вкуснейшее блюдо мордовской национальной кухни возникло как кулинарный отзвук умирающего обряда. Так профанное победило сакральное. Но и в самой победе слышится отзвук страха и почтения.
Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров довольно убедительно реставрировали характерный для мировой мифологии сюжетный архетип мифа о Перуне и Волосе. В результате поединка Перун убивает Волоса (Велеса) молнией, однако смерть его, по всей вероятности, не может быть осмыслена как однозначно отрицательный акт. Смерть от молнии в народной традиции почитается знаком избранничества [14]14
Топоров В.Н. Предыстория и история литературы у славян. М.: РГГУ, 1998. С. 246.
[Закрыть]. Тело убитого Волоса Перун расчленяет. Именно этим страшным кровавым актом, согласно реконструкции Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова, заканчивается поединок носителя хтонических черт – медведя, змея и т. д. Волоха – и небесного змееборца Перуна. Перун и Волох кажутся фигурами оппозиционными, однако за явной оппозиционностью просматривается глубокий изначальный синкретизм. Точно так же и понятия «жестокость» и «жалость», явно оппозиционные, оказываются исконно слиты в древнем славянском слове «лютость».
В.Н. Топоров отмечает, что в одном из героев наиболее архаической, так называемой довладимировой, части русского эпоса, Волхе Всеславиче, князе-оборотне, соединились черты мифологического громовержца и его хтонического, тотемного противника. Волх Всеславич, с одной стороны, изображается в былинах как оборотень, и эти черты сближают его со Змеем, Огненным Волком (Вуком), он рожден княгиней от змея и является предводителем стаи волков. С другой же стороны, этот эпический богатырь своим рождением потрясает природу. Рождение Волха подобно появлению бога-громовержца: гремит гром, сотрясается мать-сыра земля, бушует море. Так, Волх Всеславич оказывается носителем черт обоих мифологических противников. В нем Волх слит с Перуном почти так же, как Аполлон и Дионис в греческой мифологии. Убивая и расчленяя Волоса (Велеса), Перун, таким образом, убивает и расчленяет самого себя. Такой поступок мифологического героя, исходя из архаических представлений, не содержит в себе никакого парадокса, ибо двойственность, двусмысленность генетически свойственна мифу, как форме архаического сознания.
Подобная ситуация постоянно повторяется в многочисленных мифах творения у разных народов, где некое первосущество строит Вселенную из частей собственного тела, причем иногда в результате саморасчленения. Таковы, например, индоевропейский Пуруша или китайский Пан-Гу. Лютый, зверино-жестокий акт расчленения, разрубания, разрывания тела первосущества (в древнейшем варианте – тотемного зверя, в более позднем – существа антропоморфного) хорошо известен в мифологии. Герой, осуществляющий это деяние, например Аполлон, разрубающий первозмея Пифона, Гильгамеш, расчленивший другого чудовищного мирового первозмея – Хумбабу, и т. д., в этом кровавом акте фактически творит из первичного хаоса неупорядоченной до-жизни структурированный, упорядоченный космос, жизнь, мир людей. Этот космогонический акт соединяет в себе крайнюю разрушительную жестокость в форме звериной стихийной лютости и одновременно творческое, в буквальном смысле жизнеутверждающее, глубоко человеческое начало, полное пощады и жалости. Здесь, в космогоническом акте, древнее сознание синкретически соединяет добро и зло, смерть и жизнь, деструкцию и конструкцию, звериное и человеческое.
Древним человеком космогонический миф воспринимался буквально. Метафорическое его восприятие, а затем оценка его как артефакта, как акта поэтического творчества появилась гораздо позднее. Однако в самом изображении мифологического акта творения мира, по-видимому, отразились и конкретные реальные события древности – ритуал жертвоприношения. Жертвоприношение было глубоко синкретично. Туша тотемного зверя, например медведя, разрубалась человеком, считавшим себя потомком этого тотемного зверя (то есть тоже медведем), и приносилась в жертву тотемному зверю (опять-таки медведю). Так, например, во время медвежьего праздника у нивхов на пиршественном столе во главе его кладется уже отделенная голова медведя и рядом с ней – две его передние лапы, т. е. та часть туши, которая будет сохранена, чтобы медведи продолжали размножаться. Перед мордой медведя выставляется разнообразное угощение, среди которого почетное место занимает большая миска со свежесваренным дымящимся мясом этого же медведя. Участники ритуала предлагают тотему вместе с ними причаститься его же телом, чтобы подтвердить свое родство и единство, свою близость в плоти и крови. Смысл этой первобытной евхаристии заключался в первую очередь не в принесении дара более сильному с целью заручиться его поддержкой, а в том, что тотемный зверь (как и любая жертва) мыслился как воплощение мира, воплощение Вселенной, ее первичная зооморфная модель, пространственная и в какой-то мере смысловая, сущностная модель мира. Она воплощала в себе одномоментность материальной и сенсорно-чувствен-ной модели мира и открывала перспективы интеллектуально-понятийного моделирования. Этот мир сам приносил себя в жертву самому себе, чтобы вечно существовать, умирая и возрождаясь.
Очевидной поздней аналогией этого является гибель и возрождение бога плодородия (Диониса, Осириса и т. д.) и даже такой фигуры поздней мифологии, как Христос, который несет в себе функцию спасителя уже не биологического, а интеллектуально-нравственного. И с этой точки зрения потрясает глубоко человеческая и психологически тонкая евангельская сцена, описывающая Тайную вечерю, праздничный пасхальный ужин, на который собрались друзья и единомышленники Иисуса, где Он предлагает им приобщиться к символическому действию – евхаристии. Поедание хлеба и вина, осмысливаемое как приобщение к плоти и крови Учителя, базируется на древнейшей культурной традиции человечества, восходящей к истокам человеческого сознания, к самому началу наделения акта еды сакральным, а значит и социальным смыслом.
Древнейшим орудием, используемым человеком для расчленения, разрубания, разрывания жертвы и был заостренный камень – каменное рубило. Историки и археологи очень многое могут рассказать о реконструированных, открытых и исследованных ими методиках изготовления и технологиях использования первых каменных орудий. Нам интересно не это. Нас интересует, как в жестоком и беспощадном мире, в процессе экстремального выживания пробуждающееся человеческое сознание моделировало мир, очеловечивало свое тело, свои орудия, свое пространство и включало все это в процесс интеллектуального моделирования. Человек стал человеком тогда, когда кусок мяса стал для него чем-то большим, чем просто кусок мяса, а количество содержащихся в нем питательных веществ, способных поддержать физиологическое функционирование его организма, стало менее значимым, чем, если так можно выразиться, моделирующая потенция этого куска.
Показательно, что начало широкого использования металлов для бытовых целей не вытеснило каменных орудий из сферы ритуальной практики. На протяжении длительного времени жертвоприношение, обрезание и другие знаки инициации еще производились каменными орудиями. В использовании каменных предметов человеческое сознание зафиксировало их изначальную глубокую двойственность, оппозицию: природа – культура; практическое применение – ритуал как древнейшая форма осмысления практики; звериная жестокость – жалость, пощада; разрушение и уничтожение – созидание, творчество. По всей вероятности, эта двойственность особенно отчетливо фиксируется в ритуальных предметах. Не исключено, что примером этого может быть знаменитый двойной ритуальный критский топор лабрис, форма которого неоднократно на протяжении веков воспроизводилась в боевом и ритуальном оружии разных цивилизаций.
Ф. Энгельс в революционном для своего времени исследовании показывает, что труд возник для поддержания биологического существования наших далеких предков и сыграл, таким образом, решающую роль в процессе формирования человека. Он подчеркивал, что именно благодаря труду развились функции рук и органов речи, произошло постепенное превращение мозга животного в развитый человеческий мозг и усовершенствовались органы чувств. Труд расширил круг восприятий и представлений. Весь процесс становления человека есть не что иное, как образование его трудом. Вчитываясь в работу Ф. Энгельса, неизбежно приходишь к выводу: труд как некая изначальная, дочеловеческая, самодостаточная творческая сила творит человека с его разумом, чувствами, волей и т. д. Труд по отношению к человеку, по крайней мере так прочитывается в тексте, выполняет ту же функцию, что и Пигмалион по отношению к Галатее. По логике Ф. Энгельса, витальные потребности живого существа первичны. Действительно, прежде чем заняться искусством, философией и т. д., человек должен был выжить как биологическое существо. Необходимо учитывать еще и то, что в своей статье Ф. Энгельс не только объясняет происхождение человека, но и ставит перед собой другую, не менее важную для него задачу, выходящую за контекст исследования: опровержение идеалистических установок своих предшественников и оппонентов.
«Всю заслугу быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, развитию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое владело умами в особенности со времени гибели античного мира. Оно и теперь владеет умами в такой мере, что даже наиболее материалистически настроенные естествоиспытатели из школы Дарвина не могут еще составить себе ясного представления о происхождении человека, так как в силу указанного идеологического влияния они не видят той роли, которую играл при этом труд» [15]15
Энгельс Ф. Указ. соч. С. 76–77.
[Закрыть]. Вполне естественно, что проблема материалистического объяснения происхождения человека для Ф. Энгельса весьма важна. Хочется заметить, как и для нас.
Решая поставленные в статье проблемы, Энгельс, последовательный материалист и критик идеалистических учений, ищет объяснение природы того первотолчка, который запустил процесс антропогенеза. И он его, как ему кажется, находит в великом открытии К. Маркса в области экономики. Марксу действительно удалось перевернуть уже довольно развитую до него политэкономию с головы на ноги. Его открытие природы капитала, возникающего из прибавочной стоимости, которая создается трудом, объяснило фундаментальные явления цивилизации. Учение К. Маркса уже более века доказывает свою верность и глубину понимания проблем экономики. Труд действительно является основной и структурообразующей категорией экономики. Категория труда объяснила так много и так сразу, и не только в области экономики, но и в области политики, человеческих взаимоотношений, культуры, психологии человека и т. д., что не могла не оказать, если так можно выразиться, гипнотически-чарующего воздействия на каждого, кто освоил эту теорию и проникся ей.
Гениальность, мощь, громадная научная ценность и одновременно простота не могли не породить ощущения уникальности идеи, воспринимавшейся как ключ к любой проблеме, связанной с бытием, сознанием и природой человека. Дарвинисты пришли к однозначному выводу: человек сформировался из животного. Однако они не смогли ответить на очень важный вопрос: как это произошло? Энгельс был прав, утверждая, что во многом помехой им была идеалистическая методология. Опираясь на материализм, он пытается ответить на вопрос, недосягаемый для дарвинистов: как?!
Вводя категорию труда в объяснение природы антропосоциогенеза, Энгельс пытается решить одновременно две задачи: интерпретировать открытие Дарвина с точки зрения материализма и гармонично завершить его учение объяснением процесса превращения животного в человека. Интересно, что рассматриваемая нами работа Энгельса является частью задуманного, но не реализованного большого замысла. Она создавалась как введение к более обширному исследованию «Три основные формы порабощения». Ответить на вопрос, почему исследование не состоялось, трудно, но можно предположить, что талантливый философ почувствовал: создаваемая им безмятежная картина постепенно, идущей шаг за шагом эволюции животного в человека заводит его в логический и идеологический тупик. Прежде всего, ему так и не удалось объяснить причин, по которым в отношении наших далеких предков в некоей уникальной ситуации не сработал всегдашний, универсальный механизм естественного отбора. Он не ответил на два вопроса сразу. Во-первых, в чем была уникальность этой ситуации, принципиально отличающая ее от других природных катаклизмов, в которые попадали на протяжении всей истории планеты другие живые существа? А во-вторых, почему наши предки не пошли проторенной и отработанной эволюцией дорогой естественного отбора и приспособления, которая не раз спасала или не спасала другие виды? Отсутствием ответа на этот вопрос вольно или невольно подчеркивалась необъясненная исключительность человека (или «будущего» человека) по отношению к другим живым существам, его изначальная избранность.
Пытаясь всеми силами подчеркнуть приоритет труда в формировании человека, Энгельс невольно придает ему статус самодостаточного, могущественного демиургического субъекта, некоего абсолютного творящего начала, телеологически направленного на создание человека. В этом нам видится идеологический тупик, в который заходит творческая мысль Энгельса.
Логический тупик возникает в первую очередь из подмены задачи научной статьи (объяснение происхождения человека) сверхзадачей (борьбой с идеалистическими воззрениями на антропосоциогенез). В борьбе с идеализмом, с его «головными», «мыслительными» приоритетами, когда все выводится из системы мышления, Энгельс абсолютизирует биологические потребности. Он оказывается между Сциллой идеализма и Харибдой ползучего материализма: биологические потребности неплохо удовлетворяют и животные.
Возникает вопрос: что же действительно первично для антропосоциогенеза – биологическая потребность, которую необходимо удовлетворить прежде, чем возникает человеческое мышление как моделирование мира, или сама мысль, само моделирование? С первого взгляда кажется, что потребность. И в «малом времени» это действительно так. Но если рассуждать в контексте «большого времени», то животное вообще не нуждается в моделирующей деятельности, а потребности свои удовлетворяет в достаточной для выживания мере. С утилитарной точки зрения удовлетворения насущных биологических потребностей индивидуума и коллектива многие деяния человечества, его представления, его мыслительные модели, формы ритуальной практики сказались бы не просто пустыми, непрактичными, бесполезными, но и явно неадекватными и даже безумными.
Так, явно безумными с этой точки зрения оказываются человеческие жертвоприношения, которые воспринимаются «здравым» современным мышлением порой как ошибка человеческого сознания, некий «мыслительный сбой», как выбивание из популяции далеко не самых слабых и нежизнеспособных представителей, как формирование неадекватной коллективной психологии, поскольку, на первый взгляд, утверждают агрессию и жестокость внутри формирующегося человеческого сообщества. Однако жертвоприношение изначально не мыслилось как некий дар слабого социума противостоящей ему опасной и агрессивной силе с целью задобрить ее, откупиться. Приносимый в жертву мыслился сначала как тотемное, а позже как антропоморфное мировое тело, которое приносит себя в жертву самому себе, чтобы, вечно умирая, вечно возрождаться. Таким образом, жертвоприношение моделировало космогонию, закрепляло представление о ней, которое во многом дошло как мыслительная форма до очень позднего времени и на котором до сих пор базируются многие представления, например о самоотверженных героях, защищающих правое, благородное дело ценою своей жизни.
Следует заметить, что, кроме космогонических представлений, с жертвоприношениями связано, по всей вероятности, и формирование одной из кардинальных категорий человеческого сознания – оппозиции «жизнь – смерть». Эта оппозиция до сих пор выполняет фундаментальную функцию в построении философских, религиозных и других мировоззренческих систем. В природе есть только жизнь и умирание как одна из стадий процесса жизни. Когда этот процесс завершается, начинаются другие биохимические процессы. Смерть как оппозиция жизни, во всем на нее похожая, но только с обратным знаком – целиком и полностью порождение человеческого сознания. Оппозиция «жизнь – смерть» является одним из фундаментальных конструктов человеческого сознания и культуры человечества. Создавая свои замечательные притчи, Иисус Христос, рассуждая о Царствии небесном, никогда не говорил: «Как опишу Я Царствие небесное» или «Как изображу Я Царствие небесное», а говорил «С чем Я сравню Царствие небесное…» или «Чему Я уподоблю его…» И сравнивал с чем-то земным, например с садом, виноградником и т. д. А Иоанн Богослов в своем знаменитом «Видении на острове Патмосе» придает Царствию небесному облик золотого града, правда, с неизвестно для чего построенными мощными оборонительными сооружениями.
Что могло быть безумнее и неадекватнее, чем убиение молодой, здоровой женщины, способной к труду и деторождению, для отправления ее в мир смерти за погибшим мужем? Но этот ритуал, через который прошли все народы на стадии формирования социальных отношений патриархата и который в некоторых странах, например в Индии, сохранился до начала XX века, тоже был не чем иным, как попыткой осмысления и закрепления такого нового для человечества явления, как личная собственность, принципиально отличающаяся от коллективного владения.
Не менее абсурдными выглядят и некоторые мифологические представления древних охотников Африки о природе и поведении животных. Кажется, кто как ни охотник саванны для того, чтобы выжить в суровых условиях первобытного общества, должен был передавать молодому поколению в период инициации точные представления о повадках животных, накопленные вековым опытом практических наблюдений за ними. Однако некоторые мифы африканских охотников поражают своей, с точки зрения непосвященного в их природу человека, бредовой фантастичностью. Человек, проживший всю свою жизнь в саванне, должен знать, что кролик – существо абсолютно беззащитное, спасающееся от врагов только прячась в норы. В африканских мифах кролик – существо крайне опасное, коварное и кровожадное. Хитростью, пообещав вылечить больные зубы, он проникает в рот крупного животного, через глотку проскакивает вовнутрь, сжирает сердце и печень, а затем в туше погибшего зверя прогрызает ход, выходит наружу и исполняет победную пляску. Очевидно, что трансляция таких представлений должна дезориентировать молодых охотников, искажать их видение мира и мешать их будущей практической деятельности по добыванию пищи и удовлетворению потребностей коллектива. В передаче такой информации не только не содержится ничего полезного для выживания, но она, как кажется, по меньшей мере абсурдна, а в утилитарном смысле просто вредна. В любой стае хищников детеныши учатся охотиться, опираясь не только на врожденный инстинкт, но и на индивидуальный опыт старших особей. Этот опыт никогда не выходит за границы самого охотничьего поведения, в нем нет ничего лишнего, того, что могло бы затруднить добывание пищи.
Во время обряда инициации африканские охотники, знакомя абитуриентов с мифологическими представлениями, не только передают им практический опыт по овладению добычей, но и вводят их в круг прототеоретических, если так можно выразиться, представлений об окружающем мире.
Это, например, представление о классификации животных. Животные делятся на плотоядных, травоядных и так называемых медиаторов. К последним относятся все животные, которые, по представлению древних людей, соединяют миры: мир живых и мертвых, а иногда и небесный мир с земным и подземным. К медиаторам относится, например, кролик, потому что он роет норы и живет одновременно в верхнем и нижнем мире. Следует заметить, что в европейских сказках эту функцию обычно выполняет лиса. Медиатор одновременно является и трикстером: плутом, обманщиком, шутом, хитрецом. Таков он уже в силу классификационных особенностей. Поэтому в европейской культуре лисе приписывается не свойственная ей биологически невероятная хитрость и коварство. Так, в русской народной сказке лиса не только обманывает и обкрадывает людей (крадет рыбу с воза, сжирает труп старухи), но и губит волка, жестоко насмехаясь над ним. Традиционная боязнь мышей у женщин Европы тоже связана с представлениями о них как о медиаторах и трикстерах, существах потенциально опасных в силу своей связанности с двумя мирами одновременно.
В одной из древнейших русских народных сказок, «Курочка Ряба», именно мышь разбивает золотое яйцо – символ смерти. Дед и бабка, которые только что сами безрезультатно пытались уничтожить это яйцо, впадают в отчаяние и горько плачут. В полном тексте сказки после этого начинается «разрушение мира». Гибнет природа, гибнет и человечество, представленное в образе семьи попа (вероятно, в древности – семьи шамана). Поповские дочки бросают ведра, ломают коромысла и бегут домой. Попадья кидает тесто и начинает размазывать его по полу. Поп отрезает себе косу, рвет церковные книги и поджигает храм. Мир рушится. Однако жуткая эсхатологическая картина всеобщей гибели и безумия останавливается при появлении мифологического символа жизни – «яичка простого». Того самого яичка, из которого в мифах народов мира возникает Вселенная. Мир спасен. Человечество обрело устойчивость. «Дед рад. Бабка рада».







