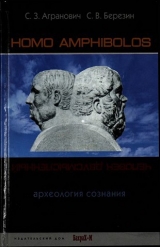
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Так старухи, старухи-матери и кормилицы, божественный ребенок и воскресающий, оживляющий, дарящий жизнь смех, связанный с образами материально-телесного низа, объединяются в мифе о Деметре в единый комплекс.
Отсутствие смеха явно связно в этом мифе с представлением о смерти. В своей статье «Элевзинский смех Деметры: Опыт семантического анализа» Ольга Аране отмечает:
Визит Деметры в Элевзин метафорически воспроизводит «катабасис» богини – нисхождение в подземное царство, где Ямба/Баубо – лиминальная фигура инициаций и оголенная vulva Баубо – мистический аналог descensus Averno, врата смертей и рождений.
Еще В.Я. Пропп связал с мифом о Деметре русскую сказку о царевне Несмеяне. Несмеяна не способна смеяться, потому что она мертва, так же как спящая царевна и мертвая царевна. Чтобы пробудить ее от смертного сна, необходим жених-оплодотворитель, способный ее рассмешить, то есть оживить. В.Я. Пропп, анализируя сказки европейских народов на эту тему, отмечает, что в них упоминаются два способа рассмешить царевну: при участии свинки – золотой щетинки или золотого гуся [134]134
Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре. С. 180–185.
[Закрыть]. Присутствие свинки в арсенале будущего сексуального партнера сказочной «богини плодородия» В.Я. Пропп объясняет очень точно – свинья является священным животным Деметры, ее зооморфной ипостасью. Нам кажется, что вполне возможно объяснить и происхождение знаменитого золотого гуся, к которому прилипает целая череда прохожих, что и вызывает у царевны смех, делая ее живой, а хозяина гуся – ее будущим оплодотворителем: гусь является священным животным Приапа. Поистине, даже пословица «гусь свинье не товарищ» начинает вызывать интерес уже в силу того, что эти животные объединены в мифологическом сознании как ипостаси богов, связанных с плодородием и смехом.
Мотив, связанный в мифе с образом богини плодородия, а в образовавшейся на базе древнего мифа волшебной сказке с образом несмеющейся, то есть спящей или, точнее, мертвой царевны, в более позднем фольклоре может ожить, например, в рамках анекдота. Один из авторов этой книги слышал от отца старинный солдатский анекдот, который тот, в свою очередь, слышал от своего отца, николаевского солдата, участника боев под Плевной.
Герой анекдота, солдат, прослуживший десять лет и отпущенный в отпуск, попадает в деревню дураков. Плачущие сельчане хоронят умершую три дня назад сельскую красавицу. Солдат понимает, что девушка жива и только погружена в глубокий сон. Он с трудом отнимает ее у процессии дураков, которые так и рвутся опустить ее в могилу. Солдат пытается пробудить «спящую красавицу»: заставляет всех громко кричать, раскачивает гроб, бьет в барабан и даже стреляет из ружья. Ничего не помогает. Тогда он приказывает всем отвернуться и будит героиню известным способом. В результате солдат лишается одного уса, чуба и половины бакенбардов, но результат достигнут – девушка спасена. Дуракам не удается похоронить ее заживо. Сказка пересказана почти полностью, но анекдот продолжается, ибо поэтика его требует неожиданного, парадоксального финала.
На обратном пути солдат возвращается через ту же деревню дураков, жители которой, особенно мужчины, пребывают в глубокой печали и прострации. На вопрос солдата о случившемся они отвечают, что у них опять большое горе. Умерла самая мудрая старуха девяноста пяти лет, без советов которой деревня не представляет себе дальнейшей жизни. Пребывающие в глубоком унынии мужики сообщают солдату, что уже третью неделю пытаются оживить умершую старуху способом, который переняли у него, но ничего не получается.
В самом тексте анекдота никто не смеется. Ритуальный смех, приняв обличив фарсово-комического, вынесен за пределы текста. Смеются рассказчик и слушатель.
В этом анекдоте мы видим и присутствие поздней привязки фабулы к некоторому историческому времени, довольно позднему, и явные следы сказки, в частности следы известного цикла бытовых сказок о деревне дураков, и несвойственную волшебной сказке, а более характерную для архаического мифа открытость в описании сексуальных действий, которые осмысливаются уже, правда, не как часть священного ритуала, а как фарсово-фаллические действия. Поистине, этот сюжет почти бессмертен, как и большинство сюжетов, возникших на базе архаических моделей, отражающих представления человека о мире.
Смех Деметры у ворот смерти, замечает Ольга Аране, действительно символически означает воскресение из мертвых. Аране делает еще одно любопытное замечание. Геракл веселится и пьянствует в погруженном в траур доме гостеприим-ца Адмета, утратившего любимую жену. А так как, по определению О.М. Фрейденберг, гостеприимство – признак бога смерти, это предопределяет то, что Геракл возвратит Адмету умершую жену, отняв ее у Аида.
Для нас необыкновенно значимо и другое наблюдение Ольги Аране. Рассказывая об Элевзинских таинствах, она говорит, что, возвращаясь после завершения ритуала, участники процессии, переходя мост через речку Кефис, шутили и обменивались насмешками. Этим они как бы воспроизводили элевзинский опыт самой богини, которая так ликовала, добившись возвращения дочери в мир живых хотя бы на полгода. Именно за это Деметра получила прозвище «Богиня моста». Переход богини плодородия через мост знаменовал смеховое воскрешение Персефоны и всей природы. Исследовательница приводит интереснейший фрагмент из разрозненных античных источников, где сохранилась одна строчка песни процессии, возвращающейся из Элевзина:
Смех Деметры, таким образом, это мост между мирами, а переход через мост означает пересечение границы миров, разделяемых «мертвой водой».
Уже давно замечено необыкновенно яркое типологическое сходство древнегреческого мифа о скорбящей и смеющейся Деметре и японского мифа о скорбящей и смеющейся богине солнца Аматэрасу. Великая священная богиня, сияющая на небе, у японцев является не только солярной богиней и прародительницей японских императоров, главой пантеона синтоистских богов. Она богиня плодородия, сама ухаживает за своими полями, устраивает празднество «первого риса». Согласно «Кодзики», Аматэрасу рождена богом Идзанаки из капельки воды, которой он омывает свой левый глаз во время очищения, совершаемого им после спасения из страны мертвых.
Глубоко обиженная неэтичными поступками своего брата, огорченная и разгневанная солнечная богиня укрывается в гроте, оставляя вселенную во тьме. Лишенная солнечного света, вселенная гибнет и угасает. Ей грозит вечный хаос, уничтожение и смерть. Боги, чтобы вернуть миру свет, порядок и жизнь, выманивают Аматэрасу из пещеры и заставляют ее засмеяться. Этому предшествуют длительные приготовления. Небесный кузнец Амацумара и богиня-литейщица Исикорида-мэ изготовляют священное зеркало, в котором должен дробиться и множиться свет. На ветви священного (мирового) дерева вешают магическое ожерелье из резных яшм и, главное, приносят «долгопоющих птиц» – петухов, крик которых возвещает наступление утра, приход света. Вызвать смех Аматэрасу удается богине А Мэ-но Удзуме, уродливой девушке, с помощью своеобразного жеста. Она влезает на перевернутый чан и пляшет, распуская завязки своей одежды. Боги громко хохочут. Услышав эти звуки акта творения, удивленная Аматэрасу выходит из грота, и бог А Мэ-но Тад-зикарао за руку вытаскивает ее наружу. Таким образом, мир оказывается спасенным от тьмы, хаоса и смерти, земля плодоносит и смех снова делит вселенную на хаос и космос, жизнь и смерть, свет и тьму. Смех снова «поднимает шлагбаум» для сил жизни, уже почти поглощенных смертью. Бинар-ность мира восстановлена, и смех, как всегда, оказывается в центре как великий демиург, медиатор и трикстер.
Основная идея, сюжетика и образная система мифов ни генетически, ни путем заимствования друг с другом не связанных, удивляют своим сходством. Сходство, конечно, порождено свойственными всему человечеству особенностями сознания. Но что породило именно такое двусмысленное и лукавое сознание? Мы предполагаем, что столь схожие картины мира всех народов, отразившиеся в их мифологиях, в первичных моделях сознания, родились в одном горниле – это было горнило исходного великого двойного послания, которое запустило перманентный процесс моделирования мира, как первовзрыв запустил динамику Вселенной. Особое, значительнейшее место в этом процессе занимает смех. Он всегда связан с асимметричной бинарностью миромодели, с ритуализированной рефлексией человека и человечества по поводу границ, он является медиатором, соединяющим и разделяющим оппозиции и определяющим их отношения. Говоря о мифологическом герое – носителе смеха, трикстере, Е.М. Мелетинский пишет: «Такой двойственный персонаж, как культурный герой (демиург) – трикстер, сочетает в одном лице пафос упорядочения формирующегося социума и космоса и выражение его дезорганизации и еще неупорядоченного состояния» [136]136
Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл ворона. М.: Наука, 1979. С. 186.
[Закрыть].
Мифы о предках, культурных героях (трикстерах) – не только одна из важнейших разновидностей мифов, но и, по мнению многих исследователей, наиболее архаические мифы, восходящие к моменту возникновения человеческого сознания. Трикстер является медиатором, соединителем миров. Самые ранние зооморфные трикстеры – это животные, в силу своих поведенческих особенностей принадлежащие как бы двум мирам. Эти представления устойчиво и последовательно повторяются в мифологиях самых отдаленных и почти не имеющих культурных связей народов Земли. Медиатор является трикстером, то есть носителем смеховой стихии, уже в силу того, что он медиатор, в силу своего пограничного положения. И зооморфные, и более поздние антропоморфные трикстеры являются своеобразной персонификацией смеха. Причем «переклички» мифов разных народов в этом отношении поражают воображение: так, например, образ ворона-медиатора, демиурга и трикстера, распространен на Чукотке, Камчатке, Аляске, на американском континенте южнее Аляски. Но древнейшее письменное упоминание ворона в этом аспекте можно обнаружить и в вавилонском эпосе о Гильгамеше, где он связан с мифом о всемирном потопе. Именно ворон соединяет хаос (водную стихию) и космос (сушу).
В русских сказках ворон связан с живой и мертвой водой, то есть с идеей разграничения хаоса и космоса. Именно ворон является спутником Одина, весьма двойственного божества, и Асклепия, разграничивая болезнь и здоровье. Он красуется на шлеме Афины Паллады, которая несет миру и порядок, и хаос войны. Если наиболее ранний зооморфный трикстер соединяет в себе одновременно черты творца и шута-трикстера, то более поздний, антропоморфный, несет иное качество двойственности и двусмысленности, он является отрицательным вариантом культурного героя, неумело подражающим своему брату-близнецу – положительному культурному герою. Он является антитворцом и создает «дурные предметы»: смерть, вредных животных, болота, горы, чащобы и т. д. Если демиург творит пчел, то трикстер – мух. Недаром одна из кличек Сатаны – Повелитель мух. Дублер культурного героя наделяется плутовскими чертами, чертами озорника, элементами жестокости и беспощадности, свойственными параллельному миру. Проделки трикстера обычно служат для удовлетворения его прожорливости и похоти. Иногда трикстер прибегает к обману, он нарушает самые строгие запреты (табу), нормы социального поведения внутри общины, а порой и законы природы. Таким образом, смех, причастный фигуре трикстера, оказывается весьма своеобразным и далеким от позднего понимания веселья, радости, юмора и т. д. Действуя асоциально, профанируя сакральное, трикстер торжествует над своими жертвами, хотя порой и терпит неудачи. Трикстер – фигура победительная и обреченная одновременно – несет в своем образе некий великий смех, универсальный комизм, универсальное утверждение законности существования бинарности мира. Этот смех распространяется и на одураченных жертв плута, и на его асоциальность и невоздержанность, и на самые высокие общинные ценности и самые значимые ритуалы, на жизнь и смерть в равной мере.
Часто трикстер является оборотнем. Например, у индейцев сиу-дакотов мифологический герой Иктоми может принимать буквально любой облик и использует это для бесконечных розыгрышей. Таков скандинавский насмешник Локи, добытчик-похититель, прибегающий к хитрости и обману. Он постоянно мечется между организованным миром богов и стихийным миром великанов, способствуя циркуляции ценностей между мирами. Таков Легба, дагомейский «толмач богов», знаток всех языков и сеятель ссор. Таков древнегреческий Гермес, соединяющий людей и богов, друг воров и торговцев, и т. д, и т. д. Материал, связанный со смеховыми героями, необозрим и громаден. Существует множество исследований, посвященных природе шутовства, клоунады, смеховым формам жизни, характерным для разных стадий развития мировой культуры и разных национальных культур. В православной культуре значительное место занимает такое явление, как юродство.
Институт юродства, возникший в раннем Средневековье в Византии, характерен только для православной культуры, католичеству он неизвестен. Католики, которых привлекала стезя юродивого, переходили в православие и лишь после этого начинали свою деятельность в этом качестве. Например, в Великом Новгороде был юродивый-немец, который до этого был ганзейским купцом, а юродивый Вавила Молодой, казненный в 30-е годы XVII века вместе с другими представителями секты капитоновцев, был французом и получил образование в Сорбонне. Фигура юродивого тесно связана со смехом, смехом своеобразным и неординарным. Задача юродивого, этого святого невысокого ранга, состоит в том, чтобы, «играя с толпой», «смеяться суетному и горделивому миру», утверждая тщету земного существования. Задача изначально двойственная. Сама фигура юродивого Христа ради (его следует отличать от просто юродивого, то есть сумасшедшего или дурачка от рождения, который лишен присмотра и «скитается меж двор») тоже двойственна.
Юродивый – средневековый человек, одновременно как бы принадлежащий двум культурам: официальной, христианской, церковной культуре, исполненной величия, пафоса и серьезности (в православном мире в особенности), и культуре народной, площадной, смеховой, уходящей корнями своими в глубины родового сознания, во времена язычества. Мало того, место юродивого в средневековом обществе явно медитативно, то есть полностью не принадлежа ни одной из этих культур, он соединяет их, разделяет и определяет их отношения. Он посредник, занимающий по отношению к этим культурам положение включенности/вненаходимости. А.М. Панченко писал: «Юродивый балансирует на грани между смешным несерьезным, олицетворяя собою трагический вариант „смехового мира“. Юродство – как бы „третий мир“ древнерусской культуры» [137]137
Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М. Указ. соч. С. 93.
[Закрыть].
Это очень хорошо понимал A.C. Пушкин. Персонаж его трагедии «Борис Годунов», юродивый Николка Железный Колпак, может бродить повсюду, однако, выйдя из церкви на площадь, он занимает место на земле, рядом с папертью. Сесть на паперть для него означает причислить себя к самой низкой категории людей официальной культуры – нищим, всегдашним врагам юродивого. Сесть непосредственно на территории площади означает уподобиться скоморохам, носителям и квинтэссенции народной смеховой культуры, всегдашнему объекту его проклятий, агрессии и осмеяний. Юродивый занимает акцентированно пограничное место между теми и другими, между серьезностью и безудержным смехом, между церковью и площадью, между властью и народом, между сакральностью и профанностью, между официозом и комплексом языческих смеховых традиций, между абсолютной нормальностью и разыгрываемым театрализованным сумасшествием, безумием.
Приемы, которые использовали юродивые, по большей части жестового характера, заимствовались почти напрямую из народной смеховой культуры. «Язык юродивых – это по преимуществу язык жестов», – писал А.М. Панченко, объясняя дальше свое понимание термина «жест». Под жестом А.М. Панченко подразумевает«…коммуникативный акт посредством всякого невербального знака – жеста как такового, поступка или предмета» [138]138
Там же. С. 128.
[Закрыть]. По мнению исследователя, именно с помощью жеста, игравшего чрезвычайно важную роль в средневековой культуре, «преодолевалось противоречие между принципиальным безмолвием», присущим общению юродивого с толпой, с народом, с площадью, и необходимостью получения отклика от зрителя. Словесные же пояснения, часто просто подразумевавшиеся, относились к культуре христианской.
«Слово» юродивого очень редко было прямым, информативным, четко и однозначно выражавшим понятийно-смысловую сторону сообщения. Зачастую прямое высказывание, слово заменялось молчанием. Молчание юродивого, по определению А.М. Панченко, это «своеобразная автокоммуникация», речь-молитва, обращенная к себе и к Богу [139]139
Там же. С. 123.
[Закрыть]. Поэтому для языка юродивого молчание было всегда одним из основных принципов, исходных пунктов речи. Молчание как неозвученный жест, чреватый словом, будучи одной из древнейших форм коммуникации, одним из архаических средств становящегося языка человечества, дошедшего до исторических времен, весьма естественно и для юродивого, и для его медитативной функции в средневековом обществе, и для его почти пророческой роли осуществления связи людей с божественной истиной. Выполняя глубоко содержательный и значимый жест, юродивый часто молчит, делегируя задачу интерпретации этого жеста толпе зрителей. Причем прочтение жеста двойственно уже изначально. С одной стороны, жесты присущи народной культуре, ибо заимствованы из нее и имеют в ней устоявшееся традиционное прочтение, но, с другой стороны, «расшифровка» их требует дополнительного усилия, ибо смысл, вкладываемый в них юродивым, делает их причастным христианским ценностям.
Так, византийский юродивый Авва Симеон, в святых местах пребывая, в городе Эмесе,
«…увидев на гноище под стенами сдохшую собаку, снял с себя веревочный пояс и, привязав к ее лапе, побежал, волоча собаку за собой, и вошел в город через ворота, расположенные вблизи школы. Дети, заметив его, закричали: „Вот идет авва-дурачок!“ – и бросились за ним бежать, и били его. На следующий день – это было воскресенье – он-запасся орехами и, войдя в церковь при начале службы, стал бросаться ими и гасить светильники. Когда подошли люди, чтобы его вывести, Симеон вскочил на амвон и начал оттуда кидать в женщин орехами. С большим трудом его вывели на улицу, и тут он опрокинул столы пирожников, которые до полусмерти избили его. Увидев, как сильно он побит, Симеон сказал себе: „Истинно, истинно смиренный Симеон, в руках людей этих тебе не прожить и одной седмицы“. По устроению Божию его видит один харчевник и, не зная, что Симеон показывал себя юродивым, говорит ему (он считал, что авва в трезвом рассудке): „Хочешь, почтенный авва, вместо того чтобы бродить с места на место, продавать у меня бобы?“ И тот сказал ему: „Хочу“. В первый же день, когда харчевник приставил его к делу, Симеон стал раздавать всем бобы и сам поедал их в большом количестве, ибо всю седмицу ничего не ел» [140]140
См.: Жизнь и деяния Аввы Симеона, юродивого Христа ради, записанные Леонтием, епископом Неаполя Критского // Жития Византийских святых / Пер., вступит, статья, примеч. С. Поляковой. СПб.: Изд-во «Terra Fantastica» Издательского дома Корвус, 1995. С. 154–155.
[Закрыть].
Поняв, как торгует юродивый, хозяин, «оттаскав его за бороду, выгнал вон». Череда безумств продолжается. Юродивый бьет кувшины в трактире, притворяется, что собирается изнасиловать жену хозяина, отправившись со знакомым в баню, он раздевается еще на площади и, умышленно пройдя мимо мужского отделения, устремляется в женское.
Почтенный Иоанн закричал ему: «Куда идешь, юродивый? Остановись – это купальня для женщин». Пречудный, обернувшись, говорит ему: «Отстань ты, юродивый: здесь теплая и холодная вода и там теплая и холодная, и ничего более ни там, ни здесь нет». И побежал, и вошел к женщинам, словно в славе Господней, а они все накинулись на него и выгнали его с побоями [141]141
Там же. С. 158.
[Закрыть].
Число безумств множится, но все они имеют объяснение. Так, например, Симеон тащит по городу дохлую собаку, чтобы утвердить тщету земного существования, сознательно разбивает кувшин в трактире, потому что только он с помощью своей святости способен увидеть змею, излившую в него яд, только он видит грехи женщин, пришедших в церковь, и поэтому пытается изгнать их, бросая орехи. Его появление в обнаженном виде в женской бане тоже легко объяснимо: он так свят и чист помышлениями, что для него, действительно, мужское и женское отделение ничем не различаются. Он говорит Иоанну, спросившему его о том, что он чувствовал нагой в толпе обнаженных женщин:
Автор жития резюмирует:
Двойственность, двусмысленность фигуры юродивого тем более актуальна при ярко выраженной неоднозначности отношения христианства, и особенно православия, к смеху. Отрицание смеха в православии, утверждение его принадлежности дьяволу особенно сильно. Католичество относится к смеху более терпимо. По всей вероятности, это обусловлено различием соотношения официальной и народно-смеховой культуры в эпоху Средневековья в православных и католических обществах. Культура и православного, и католического мира в эпоху Средневековья, согласно утверждениям М.М. Бахтина, была разделена на две культуры: официальную (церковную) и народную (площадную, смеховую). Жить в абсолютной изоляции друг от друга в границах одного сообщества, как территориального, так и идеологического, они не могли и должны были как-то соотноситься, взаимно проникая друг в друга и взаимовлияя друг на друга.

Если у католиков народная культура воспринимала влияние христианской, церковной, то и официальная культура католического мира, открыто критикуя и проклиная язычество народной культуры, находилась под ее мощным влиянием. Здесь можно вспомнить хотя бы так называемый пасхальный смех, когда католические священники в конце Великого поста с амвона в открытую использовали приемы народной площадной культуры, чтобы, рассмешив прихожан, психологически подготовить паству к радости наступления весны и воскрешения Христа. Можно вспомнить также и католические крестные ходы, начинавшиеся всегда торжественно, серьезно и пафосно, но постепенно превращавшиеся в карнавальное шествие, наполненное стихией смеха. Взаимное влияние и взаимное проникновение двух культур, из которых складывается одна общая культура – культура Средневековья – вероятно, неизбежно. Однако в православии, сформировавшемся в Византийской империи, где, в отличие от католического Запада, всегда была необыкновенно сильная и влиятельная светская власть, где церковь фактически находилась на положении идеологического института этой власти, где земным Христом, «тленным Богом» был не патриарх, а император, культ всегда отличался непререкаемой сакральной серьезностью. Сам весьма активно стихийно вторгаясь в плоть народной культуры, православный официоз ставил все возможные заслоны на пути проникновения народно-смеховых традиций в религиозный канон. Невозможно вообразить себе православного священника, произносящего что-то хотя бы отдаленно напоминающее шутки по поводу материально-телесного низа в церкви на излете утомительного Великого поста или несерьезный, с элементами карнавальности крестный ходу православных. Хотя, с другой стороны, и в православии, где святые всегда серьезнопафосны, некоторые из них имеют явно восходящие к народной, языческой культуре «профанные» функции. Так, святой Георгий в народе осмысливается как волчий пастырь, и в день его праздника, двадцать третьего февраля, волки, по фольклорным представлениям, «приобретают» право убить человека. Христианские врачи-бессребреники Фрол и Лавр отвечают за лошадей, а о женщине, задремавшей за пряжей и продолжающей сучить нить в полусне, говорят, что за нее прядет Параскева Пятница, сменившая на боевом посту языческую Мокошь.
Если в рамках одной средневековой культуры функционируют две, то при отсутствии связи между ними или при односторонности этой связи вся культура эволюционировала бы в направлении социальной шизофрении. Однако этого не случилось. Функцию поддержания гармонии средневекового коллективного православного сознания выполнил, судя по всему, сложившийся еще в Византии институт юродства, первым описанным представителем которого и является Авва Симеон.
Действительно, в православии всегда преобладала та линия, которая считала смех греховным. В XVI–XVII веках на Руси происходит расцвет юродства. В это же время официальная культура особенно яро отрицала смех, боролась с любыми его проявлениями, изгоняла скоморохов. В это время происходит укрепление светской власти в форме самодержавия, идеологической базой которого является официальное православие. Неудивительно, что официальная культура, пафосная и серьезная, с абсолютно несвойственной ей до этого яростью (особенно в середине XVII века) обрушивается на народную культуру, пытаясь ее просто уничтожить. Например, накладывается запрет на исполнение свадебных песен, девичьи весенние хороводы, арестовывают и высылают на север московских скоморохов, в Зарядье горит огромный костер, в который кидают бубны, гудки, гусли, скоморошьи маски, куклы петрушечников. Народная культура, для которой смех является глубинным основанием, оказывается репрессированной. Смех мыслится как проявление, недостойное христианина, как возврат к язычеству [144]144
См. об этом подробнее: Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973. С. 196–199; Он же. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. С. 337–355.
[Закрыть].
Конечно, уничтожить народную культуру было невозможно, и основная часть репрессий обрушилась на московских скоморохов. В провинции мало что изменилось, а юный тогда протопоп Аввакум, сторонник реформ, пытавшийся коренным образом уничтожить на месте своей службы все проявления народной смеховой культуры, был отвергнут, жестоко избит и изгнан паствой. Единственной не преследуемой официально, не отвергнутой властью, хотя бы на словах, формой смеха оставался смех юродивых. И не удивительно, что на фоне конфликта двух культур фигура юродивого, которая изначально стояла между ними, оказалась особо выделенной, как бы самоакцентировалась. В это время юродивых не просто стало много, их роль в жизни общества необыкновенно возросла. Именно в этот момент – на границе Средневековья и Нового времени.
Все поведение юродивого, основные стереотипы и паттерны которого сформировались еще в Византии и были обогащены многовековой русской традицией: и жестовый язык, восходящий к смеховым народным, скоморошьим традициям, и своеобразный прием молчания, восходящий к архаическим ритуалам, маркирующий жизнь и смерть, и загадочная косноязычная речь-лепет (боботание), ритмизированное членораздельное звукоизвержение в виде протяжных междометий, и, главное, стоящий на границе культур смех – становится в этом контексте неким двойным посланием, обращенным к толпе, с которой «играет» юродивый. С самого начала, с первого появления в православной культуре уже в силу своего положения в ней, в силу своей основной задачи, юродивый становится генератором двойных посланий. Это его основная работа, и в этом заключается суть его существования. Используя коммуникативные средства народной культуры, юродивые утверждали идеологию официоза. Не сам официоз, а его идеологию, то есть христианские ценности, в очищенном, идеализированном утопическом понимании.
Смеховые приемы, заимствованные юродивым в народной площадной культуре, насыщались им иным, часто диаметрально противоположным смыслом. В этой двойственности заключается суть двойных посланий, адресуемых юродивым толпе. Применяя почти те же приемы, что и юродивый, скоморох смешил толпу, утверждая этим мирскую жизнь в самых разных ее аспектах. Задачей юродивого было вызвать отрицание плотской жизни, понимание ее суетности и тщеты. Поведение юродивого отрицает человеческих представителей как официальной культуры (светская власть, князья церкви и рядовые церковники и даже нищие на паперти), так и культуры народной (от рядовых обывателей до скоморохов), поскольку все они греховны и весьма далеки от христианского идеала. Юродивый ставит толпу в ситуацию нравственного выбора. Смех толпы в ответ на «шалование» юродивого маркирует ее непонимание смысла его посланий. Смех толпы служит лишь средством преодоления напряженности двойного послания, отражающего противоречия двух культур. Идеальной реакцией толпы были бы слезы раскаяния в греховности земной жизни и полного отказа от ее соблазнов. Однако такая реакция в житиях не зафиксирована. Толпа играла с юродивым так же, как он играл с ней. Она его дразнила, преследовала (особенно дети и подростки), могла помять; правда, не было ни одного случая, чтобы толпа нанесла юродивому серьезные телесные повреждения или убила его. Кстати, с нищими, которых травили авторитетные юродивые, направляя на них злобу и агрессию толпы, такое случалось. Впрочем, такое отношение толпы к юродивому было нужно и ему самому – ведь при жизни юродивого никто не мог определить, является он просто сумасшедшим и дурачком или настоящим юродивым Христа ради. Об этом можно было говорить только после его смерти, после того, как на его могиле произошли и были официально зафиксированы чудеса, после того, как произошла его канонизация. Таким образом, «правильная» реакция толпы на поведение живого юродивого была практически невозможной. И тайны «кода» юродивого, его особой коммуникативной системы, обращенной к людям, раскрывались только постфактум, в тексте жития.
С окончанием эпохи Средневековья, когда конфликт двух культур перестал быть одним из основных и структуроопределяющих, когда на первый план вышли другие противоречия жизни, фигура юродивого Христа ради в ее классической, подлинной форме практически исчезла.
Однако фигура юродивого в православной, в первую очередь русской-культуре была столь значительна, имела столь глубокий структурообразующий смысл, что еще весьма долго продолжала существовать в виде не только культурных представлений, своего рода воспоминаний или «теней прошлого», но и во вполне плотском выражении «наследников» этого средневекового института – юродивых «чрева ради», юродствующих. Впрочем, последняя юродивая Христа ради, Ксения Петербургская, жила уже в просвещенном XVIII веке и культ ее, особенно среди юных девушек, переживающих любовные трагедии, существует до нашего времени.
Огромной популярностью в середине XIX века пользовались символические пророчества Ивана Яковлевича Корейши, образ которого можно обнаружить на страницах произведений А. Островского, Ф. Достоевского, Н. Лескова. Иван Яковлевич, однако, давал советы по большей части в области личной жизни, консультируя по матримониальным проблемам, комфортно проживал в двух палатах знаменитой Канатчиковой дачи, обильно снабжая всех обитателей этого знаменитого московского сумасшедшего дома весьма дорогим в то время сахаром, которым и брал гонорары. В литературе XIX века появляются фигуры юродивых «чрева ради» – особенно запоминается Фекпуша, героиня драмы А. Островского «Гроза», постоянно пугающая окружающих наступлением «последних времен» и обильно питающаяся со столов богатых купеческих домов.








