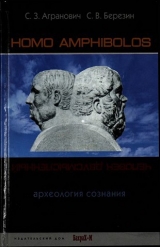
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Князь Мышкин в романе «Идиот» – фигура смеющаяся. Он не только постоянно попадает в смеховые ситуации, но и сам смеется, признавая за собой черты смехового героя, смешного человека. Он Идиот, обладающий разумом, то есть почти юродивый, а это – своеобразное соединение шута и святого, по крайней мере, такая фигура православной культуры, которая постоянно провоцирует шутовскими действиями смех, в идеале ожидая от толпы слез и раскаяния. Юродивый – фигура крайне двойственная. Однако кардинальное, сущностное противоречие образа князя Мышкина заключается, на наш взгляд, не в этом.
Если первоначальный замысел Ф.М. Достоевского заключался в том, чтобы показать второе пришествие Христа на Землю, Христа, воплотившегося на этот раз не в личности сына иудея-плотника, простолюдина весьма благородного происхождения, одного из отдаленных, обедневших потомков царского рода Давида, жившего на закате античного мира на окраине Римской империи, а в последнего представителя обнищавшего знатнейшего русского княжеского рода, живущего на переломе русской истории и русского сознания, на окраине Европы, то замысел явно не удался. Это произошло потому, что Христос сам – Логос (Слово). Главная его задача – прийти в мир, чтобы быть услышанным и понятым. Если Христос – Логос, то речения князя Мышкина (а роман Достоевского изобилует его монологами и диалогами) – это, если можно так выразиться, Мифос, беспорядочное звукоизвержение, лишенное еще понятийной определенности и четкости, только устремленное к преобразованию в Слово. Постоянно проповедуя, князь сам понимает, что сказанное им, в силу рокового несоответствия слова и жеста, не может быть адекватно воспринято людьми. Он не проповедник, вносящий ясность в умы, передающий людям суть своего учения, свой «Завет», а «палач» двойного послания, ставящий свои «жертвы» в логический тупик и вынуждающий их искать из него выход «правый», «шизофреноподобный» (например, как Настасья Филипповна), или «левый», свободный, личностный, ответственный (например, как Аглая), или снимать тупик и путаницу двойного послания смехом. Так происходит своеобразная подмена, и, если отвлечься от сознательного намерения Мышкина, то деяния, которые он творит, это деяния не Христа, но Антихриста. Вообще, мы невольно приходим к выводу, что для Достоевского двойное послание является и одним из основных объектов художественного изображения, и ведущим способом общения с читателем. По крайней мере, многие его произведения могут быть, по нашему мнению, прочитаны как двойные послания, адресованные непосредственно читателю, да и всему человечеству.
Действительно, Раскольников, например, в словах, теоретически, выражает высоко гуманные идеи, смотрит на человека, живущего здесь и сейчас, как на меру всех вещей. Однако основной поступок, его «жест» чудовищен и бесчеловечен. Действующие в романе «Преступление и наказание» герои, все без исключения, да и сам автор, посылают читателю тревожащие его сознание, почти неразрешимые двойные послания, реакции на которые всегда пребывают в сфере личной ответственности читателя. Наверное, именно это привлекает к творчеству Достоевского и русского, и иностранного читателя, создает вокруг его имени особую ауру тайны и непостижимости, уже более века рождает споры вокруг его творчества.
Такой подход к анализу творчества Ф.М. Достоевского кажется нам любопытным, однако он требует серьезной работы и отдельного исследования. В данном случае рассмотренный нами текст из романа «Идиот» интересен тем, что весьма четко и рельефно выражает суть двойного послания во всей его полноте и проясняет его отношение к жесту, слову и главное – смеху.
Постоянно сталкиваясь с ДП-ситуациями разного вида и масштаба на протяжении своей жизни, человек не может не заметить особой роли, которую играет в них смех. Смех маркирует двойственность и двусмысленность ситуации, становясь своеобразным посредником, медиатором между «палачом» и «жертвой», между «шизофреническим» тупиком и возможностью конструктивной развязки, между словом и жестом. Если слово и жест в двойном послании изначально состоят в отношении противоречия и конфликта и воспринимаются «жертвой» именно так, то спонтанный (самоза-рождающийся) смех преобразует их отношения, своеобразно гармонизируя и соединяя их.
Завершение ДП-ситуации возможно, если так можно выразиться, по правостороннему, «шизофреноподобному» типу, когда ответная реакция «жертвы», не находящей выхода, полностью исчерпывается эмоционально-двигательной активностью (подобной истерике) либо ее блокадой (подобной ступору). Такие же реакции можно наблюдать и у животных, когда они получают противоречащие друг другу информационные стимулы (лабораторный невроз по И.П. Павлову). Выход из ДП-ситуации возможен и по «левостороннему», чисто человеческому типу, когда главную роль играет личностное, ответственное, субъектно окрашенное слово. Место смеха – между жестом и словом, между шизофреническим тупиком и человеческой свободой выбора. Если внимательно присмотреться к смеху в ДП-ситуации, то можно заметить, что он стоит не просто между словом и жестом. Смех – это жест озвученный, но пока не семантически, а чисто эмоционально. Смех – это озвученный жест, прорывающийся в статус слова. Даже смех в современной культуре со всеми его поздно приобретенными особенностями и оттенками, не говоря уже об архаическом смехе, тесно связанном с мифом и ритуалом, о котором писал Пропп, представляет собой исключительный интерес как один из находящихся в состоянии постоянного развития атавизмов человеческого сознания.
В мифологии многих народов одной из центральных фигур является бог или божества, которые, смеясь, творят мир или напрямую творят мир смехом. Если наша гипотеза о месте смеха в «сотворении» человеческого сознания и культуры человечества верна, то поражает удивительная точность и сила памяти мифа. Ведь если это было так, то рождение смеха и рождение человека – две стороны одного процесса. И именно смех разделил в человеке животное, инстинктивное, рефлекторное, неосознанное и человеческое, осознанное, рефлективное, сознательное. И если Энгельсу генезис человеческого сознания виделся как тихий, медленный, постепенно набирающий силу рассвет, освещающий лучами рождающегося разума тьму животной психики, то для нас момент возникновения человеческого сознания – это первый, еще очень напоминающий истерику раскатистый хохот несчастного существа, преодолевающего Страх и боль двойного послания, порожденного кардинально изменившимся информационным полем, и в процессе принципиальной функциональной перестройки мозга, его бинарной поляризации начинающего осознавать двусмысленность мира, в котором оно оказалось и в котором ему предстояло жить дальше.
Место и роль смеха в антропосоциогенезе запечатлены и в языке, и в мифологии. Так, в языке фиксируется медитативная, соединительно-разделительная функция, которую смех играет в моделировании мира. Именно это порождает соотношение значений «смеяться» и «смерть». М.М. Маковский в «Сравнительном словаре мифологической символики в индоевропейских языках» указывает на семиотическую близость лат. ridere – «смеяться» и авестийского riө «смерть», русского смеяться, соотносящегося с др. – инд. smaya. С другой стороны, смех связан с рождением: он сравнивает лат. ridere «смеяться», но русское «родить» и др. – инд. ret – «мужское семя». По утверждению исследователя, слова со значением «смеяться» в индоевропейских языках соотносятся со словами, имеющими значение «бездна». Он предлагает для сравнения др. – индийское слово has – «смеяться» и латинское cassus – «пустой»; двернеанглийское hlahan – «смеяться» и английское диалектное colk – «пропасть», «прорубь» [119]119
Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 1996. С. 300–301.
[Закрыть].
Слова, связанные в индоевропейских языках с понятием смеха, соотносятся со словами, означающими «гримаса», «жест», «ужимка».
Точно так же детские игры зафиксировали древние представления о смехе, его связь с рефлексией по поводу границы миров, соединением и разделением живого и мертвого царства, представления о смехе как об основном признаке, носителе и дарителе жизни. Так, до сих пор существует незамысловатая игра, во время которой два участника садятся друг против друга и пытаются гримасами и жестами вызвать смех у противника. Засмеявшийся первым – побежден. Нетрудно представить себе, что игра зафиксировала остаточные представления, связанные с инициацией. Подростки, проходящие через инициацию, считались в момент обряда умершими. Они должны были в ходе него проникнуть в царство смерти и не быть там узнанными. Смех был одним из основных признаков живого человека. Нельзя было выдавать своей истинной природы – это грозило настоящей смертью. Как сообщают этнографы и историки, во время обряда инициации абитуриентов специально смешили, тогда как они должны были сдерживать смех и внешне его никак не проявлять. В описанной нами игре сохранилась именно эта часть древнего испытания – испытание смехом.
Функция смеха, маркирующего жизнь, живого, проводящего грань между жизнью и смертью, ярко выражена в знаменитом полинезийском мифе о герое-трикстере Мауи. Герой мифа постоянно балансирует между жизнью и смертью, приобретая в силу этого магическую мощь. Он является порождением природы в той же мере, в какой и порождением человеческого социума. Его мать Таранга родила Мауи недоношенным, запеленала в свои волосы и положила на океанские волны. Порожденный людьми, Мауи вынянчен духами природы, богами, которые дают ему магические знания. Его культурные деяния в человеческом мире несут на себе явный след деяний по упорядочиванию природных явлений: он ловит в специально изготовленную ловушку солнце и заставляет его светить, увеличивая продолжительность дня, усмиряет бурные ветры, устанавливает регулярную смену сезонов, поднимает слишком низкое небо, с помощью особого рыболовного крючка извлекает с морского дна рыбу-остров, на котором и поселяются люди, он уничтожает чудовищ. Именно Мауи первым приносит людям огонь, изготовляет орудия труда, то есть становится собственно культурным героем.
Гибель Мауи во многом объясняет архаическое представление о смехе. Мауи намерен уничтожить смерть навсегда. Он собирается произвести действия, моделирующие обряд инициации, совершив первую инициацию: Мауи подкрадывается к спящей богине смерти и, намереваясь влезть ей в пасть, пройти ее тело насквозь и выйти с другой стороны, как бы возродившись. Мауи предупреждает все живое о том, что при его вхождении в пасть смерти смеяться нельзя, а при выходе – необходимо. Маленькие попугаи не слушают Мауи. Смерть сжимает зубы, и Мауи становится первым мертвецом на свете, возглавляя бесконечную череду умерших.
Нарушение попугаями запрета на смех выдало сущность Мауи как живого нарушителя границы жизни и смерти, как существа, попытавшегося ликвидировать бинарность мира. Он опознан и убит. Его целью было не возвращение из мира смерти, а полная ликвидация бинарности модели мира, в чем и проявилась его трикстерская сущность.
В волшебной сказке запрет смеха выглядит несколько по-иному. В сюжетах, где отразились уже, конечно, десакрализованные и ушедшие на задний план представления об инициации, главной задачей героя является переход через границу жизни и смерти, добывание в царстве предков магической силы, волшебных предметов, невесты и возвращение назад – в мир живых. При переходе нельзя смеяться или создавать смеховые ситуации (например, оборачиваться), чтобы герой, который в подлинном ритуале был абитуриентом инициации, не выдал своей сущности живого в чужом параллельном мире, мире смерти.
В.Я. Пропп приводит в качестве примера текст русской сказки и сказки народа коми. В русской сказке один из героев говорит другому перед входом в избушку Яги: «Ну смотри, братец, когда придешь в избушку – не смейся». В сказке коми у входа в избушку сестра говорит брату:
В.Я. Пропп отмечал, что сказка занимает свое место в той серии фактов, в том историческом ряду, в котором можно анализировать смех как культурное явление. По мнению ученого, именно сказка оказалась последним звеном, где задействован смех в своей архаической, ритуальной форме.
Представление о смехе как признаке живого и факторе разделения миров настолько устойчиво, что из народной сказки переходит в авторскую. Так, например, в сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» юный герой, проходящий своеобразную нравственно-дидактическую инициацию, перемещается в иной мир через комнату, где вместо Бабы-Яги, фигура которой в народной сказке явно связана с представлениями о мифологическом царстве смерти и обряде инициации, присутствуют некие две старушки-голландки, родственницы директора пансиона, которые всегда спят (т. е. мертвы), и яркий попугай в клетке, который изо всех сил старается рассмешить мальчика. Как только герой этой сказки смеется, к нему начинают угрожающе приближаться пустые латы европейского рыцаря, стоящие в этой же комнате.
Запрет смеха распространяется в сказке и на некоторые жесты, которые может произвести герой в чужом мире, мире смерти. Очень часто в тексте народных сказок, в частности русских, можно встретить предупреждение: «А по лесу пойдешь, не оборачивайся». Герой сказки всегда выполняет этот наказ. Это странно звучащее для современного человека предупреждение можно легко интерпретировать как запрет на создание жестовой ситуации, порождающей двусмысленность, за которой логически должен следовать смех. В мировом фольклоре существует устойчивое представление о том, что существа царства мертвых не поворачивают головы. Так, одному из авторов в середине 70-х годов старая женщина в мордовской деревне Исаклинского района Самарской области объясняла, как отличить встреченную в лесу веряву (то есть женщину-лешего) от обыкновенной девушки. Нужно зайти ей за спину и окликнуть. Человек повернет голову, верява же обернется всем телом, как волк. Поворот головы ставит лицо человека и его зад в одну пространственную плоскость, что должно, исходя из представлений древних людей, вероятно, отождествить одухотворенный верх и материально-телесный низ, чем вызвать смех, который свойственен только живому. Таким образом, оборачивание оказывается равно известному жесту Ямбо.
Исходя из всего этого, легко понять причину гибели великого певца и великого шамана Орфея, отправившегося в царство Аида за свой умершей женой Эвридикой. Орфей допустил роковую ошибку, обернувшись, чтобы еще до перехода границы миров увидеть прекрасную Эвридику. Ошибка шамана принесла ему гибель. Здесь жест, способный вызвать смех, оказывается равен самому смеху.
В сходную ситуацию попадает герой мифа племени зуньи, женатый на орлице и проникший в самый ужасный из всех городов – «город обреченных». Жена предупреждает его: «Там ты увидишь удивительные вещи. Но не смейся и даже не смей улыбнуться». Человек приходит на праздник в страну мертвых. Мы приводим текст Ф. Боаса в переводе В.Я. Проппа:
Там красивые девушки пляшут и кричат: «Мертва! Мертва! Она! Она! Она!», показывая при этом друг на друга и повторяя это восклицание, несмотря на то, что они прекрасны, полны жизни, радости и веселья.
Контраст этого восклицания с теми, кто его произносит, нелепость представления, что прекрасные девушки мертвы, поражают героя, и он смеется.
В.Я. Пропп замечает, что запрет смеха в сказке тесно связан и с запретом речи. В качестве примера он приводит сказку № 9 из сборника братьев Гримм, в которой рассказывается о девушке и ее двенадцати братьях. Героиня сказки получает приказание: «Ты семь лет должна быть нема, не должна ни говорить, ни смеяться». Любопытно, что смех здесь как бы равняется речи. И смех, и речь в равной мере являются не только признаком живого, но и признаком человека.
Мы уже писали о типологической близости молчания и смеха, об их общем жестовом характере и общей устремленности к слову. Мы отмечали, что смех, как нам кажется, уже ближе к слову, чем к жесту, и не только в силу своей озвученности голосом, но, прежде всего, в силу своей еще более глубокой значимости для выражения человеческой мысли, чем молчание. В этом отношении очень близкую нам позицию выражает М.М. Бахтин в своих записях 1970–1971 гг. Он пишет:
Молчание возможно только в человеческом мире (и только для человека). Конечно, и тишина и молчание всегда относительны. Условия восприятия звука, условия понимания/ узнавания знака, условия осмысливающего понимания слова. Молчание – осмысленный звук (слово) – пауза составляют особую логосферу, единую и непрерывную структуру, открытую (незавершенную) целостность. <…> Ирония как форма молчания. Ирония (и смех) как преодоление ситуации, возвышение над ней. Односторонне серьезны только догматические и авторитарные культуры. Насилие не знает смеха. <…> Все подлинно великое должно включать в себя смеховой элемент. В противном случае оно становится грозным, страшным или ходульным; во всяком случае – ограниченным. Смех подымает шлагбаум, делает путь свободным [122]122
Бахтин М.М. Из записей 1970–1971 годов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М: Искусство, 1979. С. 338–339.
[Закрыть].
В своей работе В.Я. Пропп отмечает, что кроме запрета смеха существует и завет смеха, принуждение к нему. Исследователь пишет: «Мышление идет и еще дальше: смеху приписывается способность не только сопровождать жизнь, но и вызывать ее» [123]123
Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре (По поводу сказки о Несмеяне). С. 184.
[Закрыть]. Не случайно Мауи просит все живое хохотать при его выходе из тела смерти с другой стороны, когда смерть будет окончательно побеждена и жизнь станет вечной.
Наблюдая за поведением младших подростков, можно заметить удивительные сценки. Обычно они происходят в компаниях девочек, когда по самым разным причинам они начинают смеяться. Все начинается, как правило, с одной-двух шуток, смешных жестов, гримас. Интенсивность смеха нарастает настолько, что для его поддержания не нужны больше никакие внешние стимулы. Смех как бы становится само-поддерживающимся. Происходит то, что называется «смешинка в рот попала». На пике разгула смеховой стихии одна из девочек, обычно самая старшая, произносит фразу, всегда одну и ту же, смысла которой не осознает: «Хватит. Кончайте смеяться. Как бы чего плохого не вышло».
В последние десятилетия такое встречается все реже и реже, поскольку из современной жизни постепенно уходят разновозрастные детские группы: многодетные семьи, дворовые ватаги, объединения по «концам» деревни и т. д. Дети все больше и больше вырастают в коллективах ровесников: в группах детских садов, школьных классов и т. д. Передающееся из поколения в поколение представление о коллективном смехе легко объясняется следующим текстом, описывающим реально существующий якутский обряд.
На третий день после родов собираются женщины для проводов богини Ийехсит до дома роженицы. Во время обрядовой трапезы одна из присутствующих начинает безудержно хохотать, что вызывает всеобщую радость, так как предвещает беременность и будущее рождение ребенка у смеющейся. В этом случае говорят: ее навестила Ийехсит [124]124
Якутский фольклор / Тексты и переводы A.A. Попова; Лит. обработано Е. Тагир; Общ. ред. М.А. Сергеева. М., 1936. С. 132.
[Закрыть].
Конечно, современные девочки-подростки, живущие на территории России, не знают ни якутского мифа о богине Ийехсит, ни связанных с ее именем якутских народных родильных ритуалов. Источником их полуигры, полуритуального поведения, которые уже, конечно, ни как ритуал, ни даже как игра не осмысливаются, является другой давно забытый миф (вполне вероятно, что это миф о Мокоши) и другой давно ушедший в прошлое ритуал. Но след смеха, его причастности к жизнедарению в самых разных формах зафиксировался в коллективном сознании человечества – и в форме развернутых мифологических сюжетов, ритуальной практике, фольклорных и литературных произведениях, и в виде слабых, едва различимых сознанием скоплений «мыслительного мусора».
В.Я. Пропп отмечает, что смех, связанный с рождением, дарованием жизни, – это явление магического характера и что, например, песнь шаманки, пытающейся возвратить душу умершего, также связана с магическим смехом-жизнедателем, как и сначала насильственный, а затем спонтанный смех женщин во время якутского праздника родин.
Орфей совершает ошибку во время своего шаманского путешествия, и ему не удается переступить порог жизни и смерти. Представление о смехе всегда связано с пространственными параметрами мира, с идеей перехода из одного мира в другой. Вот как тувинский шаман разговаривает с мертвыми:
Вы – мои высохшие, вы – мои сломанные,
Вы – мои снова воскресшие.
Вы, которые умирали и пропадали,
Чей потухший огонь снова загорелся,
Переплывем же реку, через которую запрещено плыть,
Перейдем хребет, осилим перевал,
Куда запрещен подъем,
Чтобы вместе утонуть в золотом озере [126]126
Кенин-Лопсан М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Конец XIX – начало XX века. М.: Наука, 1987. С. 104.
[Закрыть].
Золотое озеро, в которое погружаются шаман вместе с душами оживляемых им мертвецов, – это смех. Именно как сияние солнца, сияние света, рождение жизни, космоса семантизирует смех О.М. Фрейденберг [127]127
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Изд-во «Лабиринт», 1997. С. 93.
[Закрыть].
Связь смеха с оппозицией «жизнь-смерть» необыкновенно прочна и в культуре интерпретируется весьма и весьма разнообразно. Так, например, второй патриарх Библии, Исаак, носит имя «он смеется», то есть «смеющийся». Смеющийся герой – это носитель жизни. Недаром Бог обещал его отцу, Аврааму, не имевшему наследника, заключая с ним завет, что он станет родоначальником великого народа. И действительно, один из Троицы, явившийся Аврааму у дубравы Мамре, то есть в священном, возможно еще языческом, урочище, предрек ему и его жене Сарре, людям весьма преклонных лет, рождение сына. Услышав это пророчество,
Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын. Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, ты рассмеялась [128]128
Быт., 18: 12–15.
[Закрыть].
И столетний Авраам тоже рассмеялся:
И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? [129]129
Быт., 17: 17.
[Закрыть]Именно Бог дает Исааку имя «смеющийся» и оповещает, что от Авраама благодаря этому сыну произойдет великий народ [130]130
Быт., 26: 2–5.
[Закрыть].После рождения героя по имени Смех снова возникает смеховая ситуация:
<И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью [131]131
Быт., 21: 6–7.
[Закрыть].
Сами герои Книги Бытия осмысливают свой смех как смех комический, вызванный некоей двусмысленностью того сообщения, которое они получают от Бога – оплодотворение, роды и кормление грудью для столетних и девяностолетних людей физиологически невозможны, и рассказ о них звучит парадоксально. Их смех вызван двусмысленным сообщением, которое воспринимается, по крайней мере авторами Книги Бытия, как сообщение, касающееся сферы сексуальных отношений людей. Почти по Фрейду. Уже авторы Книги Бытия утратили представление о смехе как магическом дарителе и признаке жизни. Однако изначально именно смех Авраама и Сарры, как смех ритуальный, вызывает роды и знаменует рубеж, с которого начинается жизнь будущего великого народа. То, что будущая роженица поразительно стара и дряхла, тоже легко объяснимо с ритуально-магической точки зрения. М.М. Бахтин рассказывает в своей знаменитой книге о Рабле о произведениях античной мелкой пластики, которые представляют собой изображения беременных старух. Эти вызывавшие смех у людей античности комические скульптурки являют собой некую позднюю модель соединения жизни и смерти.
В 1940 году была опубликована книга Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». Герой этой книги, молодой, весьма продвинутый американский гуманитарий Роберт Джордан, и пожилая испанка из простонародья, большой знаток фольклорного сознания, в частности связанного с корридой, Пилар, постоянно ведут друг с другом беседы. Особенно интересен их разговор о запахе смерти. В знаменитом своей пластичностью, глубочайшей и конкретной чувственностью описании запаха смерти испанская партизанка Пилар, отталкиваясь от вполне заурядного рассказа о том, как нищие старухи, тощие, страшные и внешним обликом своим похожие на смерть, но еще совсем недавно ходившие беременными, выходят рано утром из ворот мадридских боен у Толедского моста, напившись даровой свежей крови только что забитой скотины, создает блистательный по совершенству, пропитанный бахтинским понимание карнавальности образ смерти, беременной жизнью. Пилар предлагает Джордану неожиданно схватить одну из этих старух и поцеловать в губы. Именно в этот момент герой может в полной мере вдохнуть и навек запомнить запах смерти.
Хочется заметить, что в это время книга М.М. Бахтина еще не была издана. Первая ее публикация появилась в 1965 г. Впрочем, и книга Хемингуэя на русском языке вышла только в 1967 г. Писатель и ученый одновременно точно поняли и почувствовали глубинную сущность стихии народной жизни, несущей в себе древнее представление о смехе. Для них обоих смех маркирует границы жизни и смерти и является одной из важнейших, если не кардинальных, единиц человеческого сознания, связанных с присущим только человеку моделированием мира, с человеческой рефлексией по поводу границы материально-телесного низа и духовного верха, границы собственного и «народного» тела, границы тела и мира, жизни и смерти, космоса и хаоса и любых других границ.
Старухи-матери, рожающие старухи, старухи-кормилицы, демонстрирующие свой материально-телесный низ с целью вызвать ритуальный смех, являются основными фигурами и общеизвестного мифа древних греков о смеющейся богине плодородия Деметре.
В знаменитом гомеровском Гимне Деметре, созданном, как полагают исследователи, в 650–550 гг. до н. э., рассказывается о богине плодородия, злаков, античного Олимпа Деметре, которая бредет по миру, приняв облик старухи, с горящим факелом в руках. Она ищет свою дочь Персефону-Кору, похищенную властителем подземного царства Аидом. Именно миф о скорбящей и смеющейся Деметре был положен в основу Элевзинских таинств и в этом контексте известен всему античному миру.
Образ Деметры изначально двойствен. С одной стороны, это фигура священная, весьма серьезная и значимая – «святая владычица». Деметра – скорбящая мать, подательница хлеба, кормилица, а мистерии, связанные с ней, были, начиная с древнейших микенских времен, центром возвышенной духовной культуры античного мира. С другой же стороны, именно эти ритуалы овеяны духом непотребства и крайней непристойности. Именно о ритуалах почитания Деметры Диодор Сицилийский говорил, что люди, посвященные в них, делаются богобоязненны, справедливы, становятся лучше во всех отношениях. Но именно там, во время проведения этих ритуалов, участники, особенно женщины, оголялись, демонстрировали срамные места, вели себя разнузданно. Кульминацией таинств Элевзинского ритуала является архаический жест обнажения материально-телесного низа. Жест обнажения – не только идеологический центр ритуала, вокруг которого застраивается довольно сложная сюжетика и образная система. Можно предположить, что изначально ритуал именно этим и ограничивался. Культ Деметры всегда был связан со смехом.
В Элевзине справляют некое празднество женщин, где обмениваются множеством шуток и насмешек. Женщины приходят одни и могут беззастенчиво говорить, что вздумается. И в самом деле, в это время они говорят друг другу самые бесстыдные вещи, а жрецы, подходя, по секрету нашептывают женщинам на ухо прелюбодейские советы, будто какие-то святые тайны. И все женщины произносят друг перед другом постыдности, и носятся с непристойными, оскорбительными образами мужских и женских членов [132]132
Цит. по: Аране О. Элевзинский смех Деметры: Опыт семантического анализа: Рукопись. Б. г. Б. п.
[Закрыть].
Миф объясняет начало таинств приходом в Элевзин Деметры, которая, прикинувшись старухой, сидела у колодца на «несмеянном» камне, на котором, по преданию, сидел Тезей перед тем, как сойти в Аид. В этом мифе старухой является не только сама Деметра, известная как богиня вечно юная, но и царица Элевзина Метанейра, на старости лет родившая ребенка, и основная носительница стихии смеха, кормилица Ямба (Баубо). Именно три старухи, связанные со смехом, родами, смертью и возрождением, являются центральными фигурами этого мифа. Скорбящая богиня Деметра становится нянькой в царском доме, но отказывается от пищи и питья, впадает в глубокую печаль, и это оказывает весьма пагубное влияние на природу. По вине богини плодородия, тоскующей по похищенной хозяином царства смерти дочери и переставшей смеяться, плодоношение прекращается и человечеству грозит голодная смерть.
Спасителем мира становится старуха Ямба (Баубо), своими насмешками и непристойными действиями заставляющая богиню сменить гнев на милость – сначала вкусить еды и питья, а затем и рассмеяться. Любопытно, что античная традиция представляет Ямбу как дочь Эхо и Пана. Ямба – эпоним ямбического метра в поэзии. Она как бы сама является воплощением поэтики ритуальной инвективы. В ряде источников, по замечанию О. Аране, Ямба бросает свои шутки ямбами, приплясывая в их ритме и обнажаясь. Та же исследовательница цитирует фрагмент из Климента Александрийского (II в. до н. э.), представителя раннего христианства, критически относящегося к языческому ритуалу, связанному с жизнедарящим смехом Деметры:
Оказав гостеприимство Деметре, Баубо подносит ей питье; и, поскольку богиня отказывается принять и выпить, будучи в трауре, Баубо обижается, думая, что та ее презирает, и выставляет свой стыд на показ богине. Деметра же рада зрелищу и, наконец, принимает питье, довольная представлением. Таковы сокровенные мистерии афинян. Так и Орфей написал. Вот, передаю тебе буквально слова Орфея, чтобы ты услыхал свидетельства бесстыдства от самого мистагога:
Так сказав, задрала подол, на показ выставляя
тела вид непристойный; там был ребенок Иакхос;
ринулся к Баубо, смеясь, и ручонкой к груди потянулся;
виду такому богиня, в душе просияв, улыбнулась,
и приняла, наконец, поднесенный ей кубок с напитком [133]133
Цит. по: Там же.
[Закрыть].
Любопытно, что мистический младенец Иакх – в мифе фигура довольно сложная и многозначная. Он одновременно является сыном старой царицы Метанейры, а в некоторых вариантах мифа осмысливается как сын то Деметры, то Персефоны, известен как «Дионис у груди» и появляется у Аристофана во главе мистической процессии, посвященной Деметре.







