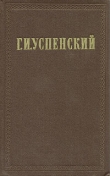Текст книги "Лесная глушь"
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– И, нет, дева, кажись, опосля бурмистрина-то овина. Матушка, а матушка! – закричала большуха и повернулась к печи, откуда немедленно послышался глухой, раскатистый кашель с перхотой, оханьем и вздохами, наконец раздался шепелявый старушечий отзыв:
– Меня, что ли, бабы?
– Который годок внуку-то пошел, помнишь аль нету? – опять крикнула большуха, и опять начался кашель да оханье:
– Не слышу, девоньки, не слышу, что хошь, не слышу. Одолел проклятый кашель, да и уши словно куделей завалило. О чем ты тут спрашиваешь? Кому годок?
– Вот Петровану-то? – и мать указала на сына.
– Ему-то? – и бабушка задумалась. – Ровно бы пятнадцатую зиму живет, – начала она наконец, – вот сёмая пошла, как я ничего не слышу, да пятая, как кашель начал долить. Кажись, так, бабы, аль шестая пошла, как я кашлять-то начала?
– Больше никак будет. Да не в том толк, бабы! – перебил большак и подвинулся к сыну поближе, наказавши своим не спорить, а слушать хозяйские речи.
– Вот об чем разговор будет, – начал Дементий Сысоич. – Невесту присмотреть пора, Петруня! Походи-ко по супрядкам: не приглянется ли какая, а там, на поседках, и переговорите друг с другом. С нашей стороны никакой помехи не будет; коли на то пойдет – сам пойду сватом. А есть у нас про тебя, Петя, клевая девка на примете – Матвея Чижа дочка, Матрена. Эдаких-то, поди, у вас и в Питере мало, а тебе самому, чай, и не снилась такая.
– Было дело! – ответил питерщик, – об ней, признаться, и дума-то у меня была.
– Вот и ладно, коли так! – решил Дементий. – Коли сойдетесь миром да согласием – и спорить не станем. А перечить да неволить я, брат, сам не хочу: тебе с ней жить. Девка она честная, ведется хорошо, и семья, ведь сам знаешь, хорошая. Мы, признаться, брали уж ее после Кузьминок на испытание: ничего, братец, не грублива, не перекорщица и к работе приобычна. Так ли я, бабы, говорю?
Решила семья взять Матрену, и дело не за многим стало: походил молодец по поседкам, заручил невесту подарками да похвальбой столичной – и стал женишком. Образом сговорен благословили, на другой день девишник да покоры поезжанам, чтобы больше девкам подарков давали, не скупились. Лишь кончились Святки и начали затеваться по соседям свадьбы, и из Дементьевой избы потянулся длинный поезд с колокольцами, прямо на горку, в приходскую церковь. Приехали молодые за свадебный стол: хмелем обсыпали, под образ и хлеб подошли, сели в передний угол, и началось чествованье да угощенье, подслащалась горькая водка сладкими поцелуями, кланялись в пояс и молодые, и родители. Дружка носит да потчует, другой стоит у притолки, подле печи, да приговоры ведет, словно по писаному: не то для смеху, не то уж так следует по заветному обычаю. Вынесли ребятам браги – и хорошо, спокойно было; еще из ружей на всполье стреляли.
Через день красный стол, для ребят да девок, развернулся. Словом – сделалось все по старине да по обычаю. По обычаю же пошел молодой с ребятами в приход свой в первое воскресенье после свадьбы; здесь купили водки и пили посередь улицы. Вытащил Петруха из-под полы балалайку, засучил рукава серого кафтана и тешился напоследях с товарищами, провожая свою молодость за тридевять земель в тридесятое.
Пришел он домой и принес жене с подругами орехов да пряников сладких. И у них стало так, что вот-де тебе, паренек, – женушка-лапушка, а вот-де тебе, девка, кокуй – с ним и ликуй. Дай же вам Бог любовь да совет, живите да богатейте!..

Велся в той стороне обычай, чтоб выезжать молодым в посад на Масленице, кататься в посадском поезде. Так сделали и наши молодые. Петр Дементьич запряг лошадку в казанские саночки и коврик на задок выбросил. Сам надел синий армяк, зеленые перчатки, повязался шерстяным шарфом; платок желтый шелковый высунул из кармана, как будто ненароком. Сидит рядом с ним Матрена Матвеевна, словно куколка, в штофной душегреечке и в новенькой кичке с разноцветными подвесками из крупного бисеру на висках и на лбу. Катались они вплоть до прощального воскресенья, пели с посадскими песни и ездили шажком по середке широкой, как поле, посадской улицы. Медленно тянулась песня, и слышался в ней звонкий и бойкий голосок Матрены Матвеевны. Подпевал козелком и муженек ее, питерщик.
Но вот подошло время расставанья с молодой женой.
Слеза в этих случаях идет больше женская. У рабочего с отхожим промыслом по большей части и самая женитьба не такой обряд, чтобы щемил он после сердце при разлуках. Из Питера приходят всегда переделанные, с форсом, с похвальбой, хвастуны и охолоделые. Мужнина ласка – за стыд, женина – в большое неудовольствие, особенно если при людях. Сплошь и рядом случается, что столичные сударки выучивают так, что вызывают на другой стороне прохожих молодцов, а отсюда такая пропасть сказок и рассказов, песен и загадок про отхожего отца и прохожего молодца, что бойкому сказочнику-швецу и в два вечера не пересказать. У новобрачных только и радости и наслаждений по первопутью, когда все свежо и все новенькое.
На эту тему у тех же питерщиков имеется ими же самими сложенная песенка, которую, конечно, они в деревнях своих не поют (разве в подпитии и ради шутки), но которую можно слышать и на костылях при ремонте наружных стен столичных домов, и на лесах с потолков, и от извозчиков, беззаботно возвращающихся с выручкой к хозяевам в Ямскую, и на невских лодках от перевозчиков. Мы слышали незатейливую песенку эту на огородах между Петергофом и Ораниенбаумом и передаем ее в таком виде, как там записали:
Ну, не полно ль те, Ванюша,
С долгохвостыми гулять?
Не пора ль тебе жениться:
Ты не будешь баловать.
Наконец Ваню женили:
Ну, об чем тут толковать?
Посылали в Питер жить,
Снова денежки копить,
Один годик постарался —
Сот пяток рублей достал,
Ему мил домик достался.
Свою женочку достал;
Когда, денежки пославши,
Сам по Невскому пошел,
Свою прежнюю нашел,
Ну, нечаянно сошлися —
Поздоровкалися.
Как сказал он, что женился,—
Разговор другой пошел:
«Ох ты, Ванюшка-дружочек!
Вспомни рощу и лесок.
Как во рощице гуляли,
Ты с Катюшой баловал.
Катя песенки запела,
Ты в гитару заиграл».
Как вот Груня восставала,
Поправляла фартук свой,
Всем подружкам рассказала:
«Беспокойный милый мой!»
Не московский был трактирщик,
Не последний был красильщик:
Разны ситцы набивал.
Получал денег немало:
По восьми сот рублей в год,
Во деревню не хватало
Двадцати рублей в оброк;
Из оброку была нужда,
Он имел в своих руках
В белом фартучке красотку,
Во сафьянных башмачках.
Придет праздник – в душегрейке,
Сарафанчик с галуном;
У нас последняя копейка
Вылетала кверх орлом.
Мы войдем тогда в избушку,
Когда мать с отцом войдет,
Мы сделаем пирушку,
Только дым столбом пойдет.
Приезжал домой без денег,
Отец с матерью ругал:
«Ты, раск….н сыр, бездельник,
Где ж ты денежки девал?
Как товарищи приходят,
По три ста рублей приносят:
Шестьдесят в оброк относят,
Двести сорок на расход.
От тебя мы не видали
Лет пять больше ничего,
Нам недавно рассказали:
Теперь знаем, отчего».
* * *
Вот сходил наш питерщик в Питер. Зимой, исполняя желание молодухи, опять наведался в деревню, но не тот уж стал. Жена все ему сделай – и дров наколи, да вот он в посад хочет съездить – так и лошадь впряги, навяжи и вожжи, и супонь подтяни. Ребятишки помогут, коли сама не сможешь. Его дело приодеться только, приосаниться, сесть в праздничном наряде да и ехать.
– Да скорей, жена, одевайся: по-нашему, по-питерски. Залежались вы здесь, зажирели, а мужья про вас ломом ломай на чужой стороне. Уж коли в деревню едем, значит, отдохнуть хотим – и все тут!
С этих пор Петр Дементьев всю зиму ничего не делает и лежит себе на полатях, ни рукой, ни ногой не шевельнет, словно другой Илья Муромец на печи родительской во селе Карачарове.
– Обедать готово! – скажет жена.
– Иду сейчас; да что ж вы хлеба-то не нарушали, – чего зеваете? Ваше, бабье, дело за домашним хозяйством блюсти. А поила ли, Матрена, лошадей, а убрала ли, Матрена, шлею-то? Супони не подшила: клочья торчать начали.
– Подай-ко мне трубочку, да уголек принеси из горнушки. А поставьте-ка, Матрена Матвеевна, самоварчик да сливочек принесите. Я полежу вот маненько, что-то всего разломало. И кто ее поймет, эту болесть какую: не то угорел в избе от бабьей стряпни да ребячьего крику, не то поел много жирного? Ох-хо-хо! – проворчит Корега, и затрещат под ним полати.
Будет ходить Корега в Питер, а разбогатеет ли он?
– Да ведь это, батюшка, человеком ведется, – ответит любой из его хозяев. – Коли не пьет, известное дело – приживет с достатком. Летом у хозяина, а посмышленей кто да попроныристей – и подрядец маленький может снять. Зимой, когда глухая пора настает, работы у нашего брата маляра мало, так и к обойщику может наняться, это дело нехитрое. А то со стеклами ходят да посматривают: нет ли где битых. Все на надобности хватит, а об выпивке оставь думать. В нашем ремесле всего больше уменье значит, ну, известное дело, и черезвым быть следует, а пуще того грамотным. Вывески славное дело, коли умеешь грамоте! Все наше дело, да в других мастерствах также, портит кутеж этот, с горя и так себе, а нет – так с похмелья. Пропьет все денежки-то, какие накопил, да и поет, что коза на привязи, а там зиму-то за свою глупость с крохи на кроху мелкотой и перебивается. А ведь если правду говорить, на ушко да по секрету: так уж мы хозяйство-то с большими деньгами начинаем, да со своими, с готовенькими.
СОТСКИЙ (Очерк)
В квартиру станового пристава между многими просителями и другими мужичками, имеющими до него дело, или, как говорят они, касательство, пришел один, приземистый, коренастый, в синем праздничном армяке и в личных сапогах, от которых сильно отшибало дегтем. Опросив по очереди каждого, становой и к нему обратился с обычным вопросом:
– А тебе что надо?
– Да так как теперича значит… дело мирское, мир выходит…
Проситель при этом дергал урывисто плечами, переступал с ноги на ногу, разводил руками: видимо не приготовился и тяготился ответом. Становой понял это по-своему:
– Что же, обидел тебя мир?
– Это бы, к примеру, ничего: мир в праве обидеть человека, потому как всякой там свое слово имеет, и я…
– Ты, пожалуйста, без рассуждений: говори прямо!
Становой видимо начал досадовать и выходить из терпения.
– Вот потому-то я и пришел к твоему благородию, что так как у нас сходка вечор была и сегодня слитки были по этому по самому по делу…
– Это я вижу; не серди же меня, приступай! Вас много – я один: толковать с вами мне некогда, – всех и всего не переговоришь.
– А вот я сказываю тебе, что я, к примеру, в сотские приговорен. Положили, выходит, сходить к тебе: что-де скажешь?

При последних словах становой поспешил осмотреть нового сотского с головы до ног раз, другой и третий.
– Ты такой коренастый, драться, стало быть, любишь?
– Пошто драться, кто это любит. Драться по мне – надо бы тебе так говорить – дело худое…
– Я тебя, дурака, рассуждать об этом не просил. Рассуждать у меня никогда не смей. Не на то ты сотским выбран, чтобы рассуждать. Твое дело исполнять, что я рассужу. Ты и думать об этом не смей.
– Ладно, слышу. Сказывай-ко, сказывай дальше. Я ведь темной, не знаю… Поучи!
– Если не любишь драться, так по крайней мере умеешь?
– Ну, этого как не уметь, этому уж известно с измалетства учишься…
– Водку пьешь?
– Да тебе как велишь сказывать, бранить-то не станешь?
– Говори прямо, как попу на духу.
– Водку пью ли, спрашиваешь? – занимаюсь.
– А запоем?
– Загулами больше, и то когда денег много, жена…
– Об этом ты и думать не смей. Выпить ты немного можешь, хоть каждый день, потому что водка и храбрости, и силы придает. Это я по себе знаю. На полштоф разрешаю!
– Это… Покорнейше благодарим, ваше благородье, так и знать будем. Сказывай-ко, еще что надо?
– Палку надо иметь, держать ее всегда при себе, но действовать ею отнюдь не смей.
– Это знаем, что-де именины без пирога, то сотский без падога. Пойду вот от тебя к дому, вырежу. Еще что надо?
– Значок нашей на груди подле левого плеча; на базарах будь, в кабаках будут драки – разнимай; вызнай всех мужиков… Ну, ступай, принеси дров на кухню ко мне! Марш!
Становой при последних словах повернул сотского и толкнул в двери. Сотский обернулся и счел за благо поклониться. Таким образом утверждение кончилось. Умершего (и почти всегда умершего) сотского сменил новый, которому тоже износу не будет, как говорят обыкновенно в этих случаях люди присяжные, коротко знакомые с делом.
– Ну что, как, ты, Артемей, со своим со становым: привыкаешь ли? – спрашивали его вскоре потом добрые соседи и ближние благоприятели.
– Ничего, жить можно! – отвечает им новый сотский, почесываясь и весело улыбаясь.
– Чай, бранится поди, да и часто?
– Бранится больно часто!.. Да это что… Горяч уж очень.
– А за што больше ругает, за твою вину, али свою на тебе вымещает?
– Да всяко. Ину пору сутки трои прибираешь в уме, за что он побранил, никак не придумаешь. Так уж и сказываешь себе: стало быть так, мол, надо; на то, мол, начальник – становой.
И слушатели, и рассказчик весело хохочут.
– Ну, а как, охотно ли привыкаешь-то?
– Известно, была бы воля – охота будет. Пo хозяйству-то по его правлю должность. – Угождаю, довольны все!.. Одно братцы, уж оченно-больно тяжело!
– Грамоте, что ли, учит?
– Этого не надо – говорит. – С неграмотным-де в нашем ремесле легче справляться. А вот уж оченно тяжело, как он тебе стегать виноватого которого велит, тут… и отказаться – так в пору.
– Нешто уж тебе привелось?
– Кого стягали-то? – спрашивали мужики.
– Не из наших. Тут уж больно тяжело с непривычки-то было. Мужичоночко этот, слышь, оброк доносил к управителю. Принес. Высчитали, дали сдачи, рад, значит, в кабак зашел. Выпил и крепко-накрепко. В ночевку попросился. Отказали: «Нет-де, слышь, знаем мы таких, что коли-де в ночевку попросился, пить затем много станешь, – облопаешься. Ступай-де туда, откуда пришел». Ну, и не выдержал он тут: пьяное-то, выходит, зелье силу свою возымело как следует; ругаться стал, его унимать – он за бороду того, да другого, да третьего. Полено ухватил; резнул за стойку – с двух полок посудину как языком слизнул. Тут известно платить бы надо. Стали в карманах шарить, а у него и всего-то там заблудящий полтинник. Исколотили его порядком; к нам привели.
Поверенной – слышь, к барину ездил, жаловался. Он у нас сидел над погребом три дня. На четвертой и сошел барский приказ: дать-де ему с солью – и вывели. Мне велели розог принести. Принес. Раздевать велели, – стал. Да как глянул я ему в лицо-то, а лицо-то такое болезное, словно бы его к смерти приговорили… слеза проступает – и Господи! – Так меня всего и продернуло дрожью! Опустил я руки и кушачишка не успел распутать. А он стоит и не двигается. Мне спустили откуда-то – я опомнился; распутал кушак и армяк снял, и в лицо не глядел: боялся. Только бы мне дальше… как взвоет сердобольной-от человек этот, да как закричит: «батюшки, говорит, не троньте, лучше, говорит, мне всю бороду, всю голову по волоску вытреплите, не замайте вы тела-то моего: отец ведь я, свои ребятенки про то узнают, вся вотчина!!» Как услышал я это самое – махнул что было мочи-то обеими руками от самых от плеч от своих, да и отошел в сторону. Становой на меня. «Нет, говорю, не стану, не обижайте меня!» Получил я за то опять раз, другой!.. С той поры я и пришел в послушание.
– Смекаешь, мол, теперь-то?
– Да что станешь делать, коли на то призван? Своя-то спина одним ведь рублем дороже…
И опять все смеются, хотя далеко и не тем искренним, честным и простодушным смехом.
Через несколько времени наш сотский рассказывал уже вот что:
– В одном, братцы, на его благородье хитро потрафлять: сердится часто. А уж сердится он на которого на бурмистра, с тем ты человеком и на улице не смей разговоров разговаривать, и в избу к нему не входи. Эдак-то вон онамедни Соснинской, досадил что ли нашему-то, и поймай меня у себя на селе: «зайди, говорит, Артюша ко мне: угощенье-де хорошее будет да и поговорить, мол, надо. Отчего думаю не зайти к куму, коли зазыв он тебе такой ласковый сказывал? «Спасибо, мол, на почестях на твоих». И зашел. Выпили. Груздей поставил. Гуся, пирогов поели. Полтинник давал на дорогу, – отказался. Барским сказывал – взял.
Пошел это домой, шапочку на ухо, песенки запел: весело мне таково на ту пору было. Прохожий человек как-то встренулся, – шапку ему снять велел: «Сотский, мол, идет, почтение давай-де и всякое уважение!» Шутил, значит. Да с веселого-то ума своего пройди в становую квартиру: со становенками, мол, поиграю! Дух, мол, такой веселый нашел: за одно уж; все же и на предки, мол, пригодится ласка эта. Зашел. Сказали самому, что пришел-де Артемей-от. Вышел он ко мне в сердцах, подбоченился. Плохо, думаю, дело: знаю – мол, я ухватку твою. Я молчу; он и начал:
– Где, говорит, это ты шуры-то разводишь? Подруги, говорит, сутки ищут тебя, не найдут. Что, говорит, не жаль тебе обреза-то своего, не купленной что ли? Знаешь манеру мою: люблю чистить.
– Как, мол, не знать порядка твоего, чего другого? – думаю себе.
– Сказывай, где налимонился.
– А так, мол, и так… Все и поведал. Так он и досказать мне слов моих не дал: так и заревел… Я оправился, стряхнул волосья и ни слова не говорю противу этого. Потому, как уж не в первый раз, и знаю: отвечать станешь, опять заревет. Такой уж обычай имеет. Стал он опять сказывать:
– Вот, говорит, владыка на попов выезжает, подводы ему сбивать надо. Двенадцать лошадей под него, шесть под певчую братью, тройку протодиакону, шесть архимандриту, шесть-де под ризницу, три под исправника, три под меня и под все другое.
– Где соберешь? А пора летняя, рабочая, все лошадки в поле, работают…
– Загуляевской, мол, вотчине черед, ваше благородие, знаю мол! И угодил, думаю, сказом этим. Так нет вишь: опять зарычал еще пуще…
– Ты, говорит, рассуждать не смей, когда начальство говорит. А ступай-де в Соснинскую вотчину, да там и сбивай, а загуляевского бурмистра ко мне пришли. Да так, – слышь, и сделай по-моему. Послал я загуляевского, да и к соснинскому-то зашел. Старое угощение помню и сказываю: «Становой, мол, противу тебя сердце имеет, не в черед вотчину выгонять велел, да я до времени-де не стану: шел бы ты к нему, да поклонился».
Он так и сделал. Так становой-от его и на глаза к себе не пустил, а велел позвать меня, да и спрашивает:
– Ты, говорит, зачем опять своим умом жить стал, и рассуждение имеешь?
Молчу.
– Не надо, – говорит, – не надо.
И говорит-то все это мирно таково, и ничего не делает.
Молчу.
– Ступай, – говорит, – на кухню; обожди.
Пошел я, по его по приказу, куда велел. Сижу я там долго, ничего это такова худова не думая. Вижу кучер его Гаранька приволок из сарая розог, да и положил в воду. Посмотрел на меня, усмехается да и спрашивает:
– Знаешь, – говорит, – к чему это все клонит?
– Как, мол, не знать, Гарасим Стефеич?
– Смекай, – говорит, – про тебя ведь все это. Так-де приказано, и за сотскими послали-де на село.
У меня так и захватило сердечушко-то мое, защемило его, и в глазах помутилось. Вспомнил, как это в мальчиках было это дело: и еще того горше от думы от этой стало! Сижу сам себя не ведая; на розги на те, что мокли, и не взглядывал. И пошли мне тут разные такие мысли: и про мужичоночка-то про того про сердобольного вспомнил, и барского холуя… Разных я тут вспомнил: как один молитвы вслух зачитал, как другой удрал было из сарая-то. Вспомнил бабушкину молитву, что читать наказывала, коли сердится на тебя кто: «Помяни, мол, Господи, царя Давида и всю кротость его». Что коли-де припомнишь ее, отойдет человек тот. Так и решил.
Пришли на тот час и наши сотские Василий да Микита. Взглянули на розги, спрашивают:
– Али-де стегать кого хотят? У меня опять ухватило сердечушко-то поперек. Смолчал.
– Не тебя ли-де, Артюха? – они-то.
Смолчал.
– За что? – говорят, – какая такая провинность вышла. Али-де пьян был да подрался с кем? Красть-де ты не крадешь, кабаков не бьешь и господам грубостей не говоришь никаких.
Проняли.
– Сам, мол, говорю, братцы, не знаю за что.
Ребята головушками покачали, тронули пуще. Сказываю все как было. Молчат оба и опять головушками покачали. Хотел было я им тут просьбу свою сказать, чтобы полегче накладывали, – да удержался. Совесть не поднялась. Сидим опять и молчим все. У меня опять сердечушко-то мое нет-нет да и обдаст всего его варом. Пытку я тут выдержал, братцы, такую, что никому не дай Господи! И за тем было… уж порядочно таки было. Сердечушко так и опустилось все на ту пору – на самое – надо быть – на донушко. Оправился это я – сердце в злобе больной, сокрушения накопилось много. Поднес становой рюмочку, другую; ласково потрепал, сказывал много хорошего – простил я ему, забыл злобу. И с той поры и я к нему, и он ко мне как будто и разладу никакого не было – друзьями стали. И правлю я ему, братцы, должность, как следует: боюсь уж.
И действительно, что было у Артемья на словах в мирских беседах, то было и на деле, в мирских собраниях. Разведет ли где православный народ базар, ярмарку, и, по обычаю, подольет и зашумит к ночи, пропивая без оглядки, без сожаления трудовой грош, не всегда лишний и всегда честный – сотский мирит пьяных. Велит ему становой запереть в сарай вышедших из возможных границ буйства и пропойства – Артемий прежде приложит руку, потешит себя и потом уже поспешит буквально исполнить приказание. Понадобится ли сбить народ на мирскую сходку для толков о подушном, о дорогах, о починке мостов, о размежеваньях и обо всем другом – Артемий действует спешно и послушно, не забывая ни значка своего, ни кулаков, на которые уполномочил его становой пристав своею властью, своим правом и приказом. И спросят его бывало:
– Что блажишь, Артюха? Смирной такой прежде был, а теперь словно белены объелся.
– А то, скажет, брат, что выбрал меня мир на такую на должность на собачью – стало быть, не уважил. А не уважил мир Артемья, и Артемий угождать ему не станет.
В этом был весь его ответ и все объяснение дальнейших поступков. Через полгода его узнать нельзя было: из мужика он сделался решительным сотским.
Прошла между тем ненастная осень со слякотью, заметелями, падью и другими ненавистными проявлениями непогодой.
Наступила зима. По большим торговым селам начались очередные еженедельные базары: в одном по воскресеньям, в другом по четвергам, в третьем по вторникам. Кое-кто из домовитых толковых мужиков-трудников считал уж в мошне за лишнюю копейку, полученную за проданный избыток из предметов домашнего хозяйства, и, лежа на полатях в теплой избе, толковал с доброхотным соседом дружелюбно и миролюбиво:
– Все-то пошло у нас, кум, хорошохонько…
– Зима встала такая кроткая; снежку накидал Господь вдосталь; и на базары выезжать спорко и лошаденки не затягиваются, – добавлял от себя кум и сосед.
– И мир-то промеж себя зажил таково ладно: хоть бы те же базары взять. Наклевался на товар твой купец – не бойсь, не перебьют: тебе ему и отдать свое и почин получить. Хорошо, кум, Матерь Божья, хорошо пошло.
– Со становым в ладах. Опять же исправник проезжал – не обидел. К мирским толкам поприслушаешься – тоже опять всем довольны. Одним мир скучает: сотский Артюха благует.
– С каких прибытков-то, чего ему мало?
– Поди вот ты тут… озорничает.
– Обидел его что ли кто, али леший на лесу обошел?
– Дело-то это сказывают вот как было: пришел он в посадский кабак, в котором Андрюха сидит. Пришел-де, и слышь, и «здоровье» не сказывал. Мужичонко тут на ту пору такой немудрой сидел; посмотрел, слышь, на него впристаль да и крякнул. Опять же и ему ни словечка не молвил. Снял рукавицы, рукава засучил.
– Дай, говорит, мне Андрюха, балалайку.
Известно, какой же кабак без балалайки живет, и Андрюха держал ее. Дал он ему балалайку: супротивного слова не молвил. Побаловал это он на балалайке-то, выбил там трепака что ли какого, назад отдал. Опять взглянул на мужичонка-то на того впристаль и опять не спросил его… Ничего. Слушай. Перекинулся этак, слышь, через стойкую, голову-то на стойку положил, да и спрашивает Андрюху-то:
– А что, говорит, угощение мне от тебя будет сегодня?
– Какое, говорит, тебе угощение? Давно ли, парень, полштоф-от раздавил: от меня ведь он тебе шел.
– Зато тебе и «спасибо» сказывали тогда. Теперь за новым кланяемся.
– Мне, говорит Андрюха-то, давать тебе не из чего, да и часто так. Мы, говорит, на отчете, с нас всякую каплю спрашивают. А ты что больно разлакомился-то? Проси, коли хочешь, у поверенного, вон на днях поедет выручку обирать. Даст он тебе, так и я слова не скажу.
– Ладно, говорит, коли у поверенного, так у поверенного!.. А ты не дашь?
– Не дам, говорит, и не проси!
– Ну коли по закону, говорит, не поступаешь, ладно, говорит. И изобиделся Артюха, крепко изобиделся; в глаза целовальнику в упор посмотрел; перегнулся назад; взял руки в боки; ноги расставил; глядит на мужичонка-то на того, да и спрашивает его:
– Ты, говорит, какой-такой?
– А не здешной, мол.
Артюха-то к нему, и рукава засучил опять.
– Ты, говорит, если с кем говорить хочешь, так должен узнать сперва человека того. Я, говорит, могу вон этот кабак разорить. Вот оно что.
Мужичонко только замигал на слова на его, а целовальник не вытерпел.
– Да ты, говорит, с того свету пришел, али со здешнего?
Ничего Артюха ему не молвил; опять пристал, слышь, к мужичонку-то:
– Я, говорит, таков человек, что вот поставлю промеж себя и тебя палку свою – и ты со мной говорить не можешь, потому я начальник!
– Кто же набольшой-то у вас, – спрашивает Артюха, – ты, али становой.
И смеется. Мужичонко опять замигал.
– А кто, говорит, набольшой? Так вот я, слышь, станового-то и благородьем не зову, по мне он Иван Семеныч, так Иван Семеныч и есть. А ты понапрасну меня, Андрюха, не попотчивал даже на первой мой прос. Теперь уж я сам не стану пить.
И опять, слышь, к мужичоночку пристал. Много-де он ему тут всякой обиды сказывал, корил его всякими покорами. Мужичоночко на все молчал, да и выговорил:
– Мы-де не здешнее. У нас свои сотские, а ваших-де мы не больно боимся.
– А где, говорит, у тебя пачпорт?
– Дома, говорит, оставил.
– Ну так пойдем-де, слышь, к становому. А тебе, Андрюха, не закон беглых людей принимать, да паспортов у всякого у прохожего не спрашивать: об этом, брат, нигде не писано!..
Мужичоночко нейдет с ним, – он его в ухо раз… и другой… и третий.
Сталась, таким манером, драка у них. И что затем было!!.. Артюха, слышь, в снегу очнулся за околицей, в крови весь и в левом боку боль учуял, крепкую такую боль, что словно-де туда пика попала. И пилила она его беспереч, сказывали, недели две, на силу-де баней оправил, выпарил ее вениками, выхлестни, и то не всю. На левый бок свихнулся маленько, да вот с той поры и ходит кривобоким. И прозвали его ребятенки селезнем.
Так с того ли самого, али с покору целовальникова, когда тот за битаго-то мужичоночка вступился да выговорил Артюхе:
– Что коли-де ты драться стал, так знай – мол и моя отмашь не об одном суставе. Вчиню-де и я тебе нашинского!..
Испортился наш Артемей. К становому пришел. Тот заступился за своего за приспешника и пошел благовать Артемей. Да вот и озорничает. Пришел, слышь, в кабак (да не в тот уж) и сказывает:
– Люблю я Ивана Семеныча за то, что он мне во всяком моем слове послушание оказывает и почитает меня. Придешь к нему на дом по его по вызову, станешь отказ ему делать, что вот-де слава Богу кругом все хорошо, никаких таких происшествий не было, а что-де Матрена одночасно померла, так, от угару, мол. Возьмет он это меня за бороду, потреплет за нее, подлецом приласкает да накажет: ты-де в Митино пойдешь, «так от меня поклон сказывай!.. Слушаю мол!» И стриженая девка косы не успеет заплесть: Лукешка у меня в становом огородке за банями снег уминает… И что там дальше – не наше дело! Я тем часом завсегда уж у становихи детям сказки сказываю, петухом пою, опять же по-телячьи… Соловьем свищу. Барыня сама выходит, слушает, смеется, чаем, вином поит.
Наше дело такое – умей всякому угодить, а затем уж тебя никто не смей обиждать. Вон обидел меня Андрюха посадский, взял я у него мужика небеглого. Мужика этого отпустили, а посадской кабак три дня заперт стоял. Тридцать, слышь, рублев у откупщика и из мошны вон. А мне с той поры ихний ревизор во всяком кабаке по полуштофу в неделю велел отпускать без отказу. Так и знаю!..
Так объясняли себе мужики-соседи перемену в Артемье, так рассказывал и он сам о себе. Новые вести приносили немного хорошего. Артемей на все спросы говорил мало или совсем не отвечал; к соседям завертывал только за делом, и не бражничал ни с кем из них и почти нигде, ограничиваясь исключительным правом получать от откупа выговоренное угощение. В избах у соседей являлся он только по должности с словесным извещением, и то не всегда входил в дверь, а удовлетворялся обыкновенно только тем, что стучал своей палкой в подоконницу. К стуку этому, всегда урывистому и громкому, давно уже применились бабы и при первых ударах умели отличить его от стука, например нищей братии, которая стучит своими падогами обыкновенно слегка и учащенно и немедленно затем вытягивает свой оклик, не богатый словами, но глубокий смыслом. Заколотит Артемей громко-громко, изо всей силы, задребезжит стекло и взвоет в люльке разбуженный ребенок – бабы перемолвятся:
– Надо быть опять горлодер Артемей, – чего надо?
– Дома ли, большак-от?
– А на полатях спит. С мельницы вернулся, умаялся, слышь.
– Буди его поскорее, да гони к окну.
– Сказывай, чего надо, перескажем ему, когда очнется: вишь недавно захрапел только… жаль!
Сотский в ответ на это еще немилосерднее застучал в подоконницу. Бабы опять разругали его промеж себя и опять окликнули через волоковое, всегда готовое к услуге, окошко:
– Да ты бы в избу вошел, отдохнул бы, молока бы, что ли похлебал.
– Некогда… у нас дела… мы на полатях не спим, нам некогда. Буди, слышь, а то окно разобью.
– Ну, вишь ведь ты озорной какой, пошто окно-то бить станешь? Стекол-то здесь чай нетути – все из города возят, купленые ведь. Вошел бы…
Но сотский не умолим: он обстукивает оконницу со всех четырех сторон, и заставляет-таки баб будить большака. Долго тот не слышит ничего, не может понять, наконец открывает глаза, щурится, опять закрывает и, повернувшись на другой бок, опять готовится заснуть. Но новый стук и сильная брань под сеном и новые навязчивые толчки будильщиц подымают его с полатей. Чешется, зевает, еле шевелит ногами, чмокает и опять зевает и потягивается разбуженный не во время и не в доброй час. Подходит к столу, выпивает целый жбан кислого квасу, кряхтит, крутит головой, и, только теперь приходя в сознание, с открытым воротом рубахи садится к открытому окну слушать начальнические требования неугомонного сотского.