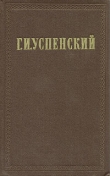Текст книги "Лесная глушь"
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Матюха взял руку нового друга и, покачавши ее, продолжал опять покровительственным тоном:
– Ладно, ну!.. ладно!.. похлопочу, – только, вишь, у нас больно крут артельный, Иван Прохоров.
– Ишь как у них знатно! Попрошусь-ко пойду к Егору Кузьмичу – не отпустит ли к ним: ему, кажись, все одно и без меня будет. А там бутылки бы вместе с Матюхой продавали! – решил этим Петруха и попросился у хозяина, но, конечно, получил отказ с неизбежным показанием, как кухарки рябчиков да кур щиплют: пора-де, глупый, баловства остановить, семнадцатый год пошел. А не то, так вот-де штука, как чухонцы масло ковыряют.
– Так, – говорит хозяин, – возьмут снизу, да и ведут-ведут, да и ковырнут: тебе, вишь, больно, а маслу-то ничего.
«Ну, нет! – думает Петрушка, – коли на то пошло, хозяин, так больно ты бьешь, хоть на разум наводишь».
И начал с тех пор заговаривать Петруха с хозяином, и довольно частенько: придет к нему и стоит, почесываясь.
– Егор Кузьмич!
– Что, небось опять к соседским?
– Нету, Егор Кузьмич, не хочу, что правда – то правда; много доволен!.. Дай, хозяин, пятак на баню.
Получит пятак, да и купит три банки моченого гороху, если дело зимой, или красного крыжовнику, если дело в урожайное лето. Там, глядишь, опять:
– Егор Кузьмич!
– Что тебе надо?
– Дай я твой полштоф-от, что в шкафе стоит, отнесу назад!
– А Москву видал?
– Видал, брат, Егор Кузьмич, – ответил Петрушка и спрятался за дверь. Но полштоф-таки взял и уже стоял на рынке и щипал киту гороху зеленого да запивал его сбитнем. А после:
– Скипидару, Егор Кузьмич, налил: вишь, белила надо было развести, поставил полштоф-от на лестнице, да вон из того дома пришла кошка и разбила. Коли не веришь, осколки тут валяются, сам посмотри!
– Егор Кузьмич!
– Опять дуришь, сорванец эдакой!
– Вахреневские ребята приходили давеча, бают, коли хозяин с работы придет, посылай скорей к нам. У них, вишь, Евсей именинник сегодня.
– Ну ладно же, смотри сиди дома; не забегай далеко да и свечей не зажигай, а то знаешь манеры мои?
С этими словами хозяин ушел со двора и пришел уже довольно поздно, приведя с собой двоих, из которых только одного узнал Митька, другой совсем был незнакомый и одет довольно чисто: в сюртуке коротеньком, при часах, и папиросы курит.
На другой день Петруха уже рассказывал своему приятелю, Митьке, следующую историю:
– Хозяин-от мой, слышь, пришел; смотрю я на него. «Вон бери, говорит, Иван Прохорыч, бери этого молодца! Поди, Петрунька, сюда». Вишь, уж они совсем в перевод сладили: я завтра перехожу, а хозяин опосля обещался – с фатерой, вишь, надо, говорит, разделаться! Гляжу, они оба целуются да обнимаются, а ваш-от жмет моему руку. «Небось, говорит, не оставим: не впервые с тобой хлеб-соль ведем; свои, говорит, земляцкие. И кто тебя, говорит, подряд-от эдакой снять сунул, да и работников-то, говорит, все выжигу нанял: у нас не жили – к тебе пришли», – говорит ваш-от, сам головой качает. Я стою около печи и все слышу: весь разговор-от их взял в толк. Вишь, нашему-то хозяину подошло-то, что хоть по миру ходить, а запрежь козырялся: целый завод, говорит, на подряд сниму и тебя, говорит, Петрунька, артельным старостой сделаю. А сам в те поры ухмыляется. Вот, вишь, Митька, они и порешили к вам; завтра совсем перейдем!
Немногим чем лучше стало Петрухе у нового хозяина, только, может быть, больше перепадало на его долю того баловства, о котором мечтал он. Все-таки незаметно протекло и для Петрухи время его ученичества, и видит артельный, что молодец и ведро окрасит не хуже другого, и фигуры наведет на полу по трафаретке, если заставят; и со шпалерами сладит.
– Могим и это сделать теперича, – хвастался Петруха товарищам. – Лиха беда в шпалере конец найти да надумать, какая фигура к какой идет, коли наставочку придется приложить. Да что, хоть бы и другие ребята: тоже иной раз артельного спрашивают! Что ж, что вывески пишут? И я бы писал, как бы грамоте-то хоть маленько мараковал. Картины, вишь, на вывесках берутся наши ребята писать, – эдак-то и я возьму, да что толку-то: принесешь – приругают только; вон как было с Матюхой, да еще и вывеску-то цирюльник назад отдал. Глаза, слышь, словно очки вывел, да и нос-то, толкует, не тут посадил.
Смиренно сознавался Петруха в своем неуменье исполнять живописную работу, но в то же время получил от хозяина первую месячную плату за житье в работниках, и незаметно перешел он за тот предел, дальше которого нет уже ни пинков, ни щелчков хозяйских: пришла пора самому о себе радеть и стараться.
Между тем подошла Масленица со своими самокатами, райками, паяцами, пушечной пальбой и другими затеями. Сказалось это время и мастеровым ребятам: крепко захотелось им позевать на потехи; к тому же работу шабашили. Но ведь вот беда: худая гулянка без денег, а их-то у всех ребят, что называется, только так.
Собрались они в кучку и калякают, как бы делу ход дать, чтоб и самим любо было, да и хозяина не обидеть, как выразился Матюха. Но где же достать денег, как не у хозяина? И тут беда: один на баню да на отсыл забрался столько, что чуть ли не всю зиму придется жить задаром; другой пошел бы просить, да армяк когда-то шить задумал и взял на это деньги, но хоть армяка и не купил, а завел сапоги личные да гармонию за двугривенный, а все-таки денег нет, да и за хозяином всего тоже очень немного. Думал было и Петруха, как делу пособить, да видит – и ему не везет: недавно денег просил на отсыл, а часто беспокоить хозяина – совсем не годится: в другой раз не поверит.
Судили да рядили ребята: и языком-то щелкали, и затылки чуть не в кровь расчесали, а видят, что ушли не дальше того, с чего начали. Стоят в кучке и молчат, и долго б так было, если бы не закадышный друг косолапый дворник Тихон, всегдашний их советник, а в случае – ходатай и покровитель. Он-то и выручил их из беды, нечаянно вспомнив одно обстоятельство:
– Да что, ребята: нешто забыли, что с Петрухи Кореги магарыч еще надо? Ведь, кажись, третий месяц берет работницкие-то?
– И впрямь, брат Петруха, что ты глыздишь? Поди к хозяину, проси у него.
Промолчал тот, как бы и не его дело.
– Поди же проси, неча отмалкиваться-то! Ишь ведь и резоны взяли. Совесть, что ли, зазрить начала?
И ребята начали поталкивать его прямо в калитку к хозяину.
– Ступай, брат; знаем ведь твои счеты с хозяином; знаем, когда брал и сколько осталось. Пихайте его, ребята, в калитку, пусть увидит хозяин да позовет, коли самого честью не упросить.
Петруху уже просунули между вереей и дверью, но он оставался непреклонен.
– Нет, ребята, пустите лучше! Скажу вам всю правду: недавно в деревню брал отсылать, – все деньги забрал, ничего, братцы, не осталось: сами спросите хозяина.
– Нету, брат, врешь, – три рубля твоих за хозяином осталось, ступай! Нешто думаешь, не отдаст, что ли?
– Уж я тебе говорю, не отдаст! Да и что вы, ребята, пристали, словно вар какой! Ступайте сами!.. Ишь и боитесь!
– Э, брат Петруха, корить начал? – Ладно, коли так, удружим сами. Небось любил наш чай-то пить, да еще и лимону раз попросил. Мы, брат, тебе ничего не говорили.
– Нешто я просил вашего чаю-то? – защищался Петруха.
– А лимону-то тоже не просил?
– Отвяжись, Матюха, что ты пристал к нему… ишь каприз взял! Правду молвит хозяин пословку-то: «Кузька, иди молотить! – Брюхо, тятька, болит! – Кузька, иди горох хлебать! – А где, слышь, моя крашеная ложка». Так-то и наш Петруха! – порешил косолапый Тихон.
– Прах его побери, коли товарищей знать не хочет. Сами удружим, когда ни на есть подвернется! Учить еще, вишь, надо, как по дружеству, в согласии надо жить с нами.
Вспылил обиженный: крепко не по нутру пришлись ему последние слова товарищей.
– Ладно, ребята, нишкните, сейчас принесу! – вскричал Петруха и пошел вперевалку к калитке. Ребята за ним и смотрят из-за косяка, что с ним сталось: идет мимо окон, и руками разводит, и, как слышно, ворчит про себя, а на хозяйские окна и взглянуть боится. Отворил вот и дверь в сени и скрылся за нею.
Вернулся Петруха от хозяина с целковым. Немного погодя в ушах ребят послышались учащенные выстрелы, уже на площади, из ближнего балагана. Эта неожиданность так поразила маляров, что они только усмехнулись, разинув рты, и взглянули друг на друга, как бы недоумевая.
Гулянье было в полном разгаре: кучками сбирались тулупы, шубы и полушубки около тех мест, где виднелись кудельные парики, бороды и пуховые шапки, подобные тем, которые надевают тороватые хозяева на огородных чучел. Примкнули и наши ребята сюда и вплоть до вечера слушали потешные остроты паяцев и смотрели, как барышни то и дело прыгают на дощечках. Немало занял их, на обратном пути, маленький мальчишка – кукла в красненькой рубашонке, которая стоит на крышке зеленого ящика и хлопает в медные ладоши. Подошли ребята и, оскалив зубы и приложив ухо, слушали веселенькую песню:
Чики-брики,
Так и быть,
Как бы теток не забыть,
Как бы теток, как бы баб,
Как бы малы-эх ребят.
Живы будем,
Не забудем,
А умрем,
Так прочь пойдем.
– Ну, ребята, хотите что смотреть? И недорого б взял – по грошу с брата! – спросил борода-хозяин по окончании песни.
– Нету, брат, неохота! – отвечали ребята и поворотили оглобли.
– Ну!.. пятак со всех: эй, вы!.. маляры!
– Мелких нету.
– Разменяю!.. сдачи дам!..
– Менять неохота; деньги, вишь, крупны: у тебя и сдачи не хватит.
Ребята, однако, пошутили только из обычая, но, наклонившись и прилипнув глазами к круглым стеклышкам, видели ярко размалеванные картины и слушали бессмертный приговор базарного остряка, на этот раз в таком тоне и смысле:
– Вот я вам буду первоначально рассказывать и показывать иностранных мостов, разных городов, городов прекрасных. Города прекрасны – не пропадут ваши денежки напрасно. Города мои смотрите, а карманы берегите.
И пошла писать:
– Это извольте смотреть-глядеть: город Москва бьет с носка и лежачих поталкивает. Ивана Великого колокольня, Сухарева башня, Успенский собор: шестьсот вышины, а девятьсот ширины, а может, и поменьше. Ежели не верите, пошлите поверить да померить.
А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как на Хотинском поле из Петровского дворца сам император Александр Николаевич выезжал в Москву – на коронацию: антилерия, кавалерия по правую сторону, а пехота по левую.
А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как от францюського Напольона бежат триста кораблев, полтораста галетов с дымом, с пылью, с свиными рогами, с заморским салом – дорогим товаром, а этот товар московского купца Левки – торгует ловко.
А это вот город Париж, не доедешь – угоришь, а кто не бывал в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.
А это вот Летний сад: там девушки гуляют в шубках – в юбках, в тряпках – шляпках, зеленых подкладках. Юбки на ватках; пукли фальшивы, а девицы плешивы.
Ребята смотрят, да не разбирают, что подчас не то видят, о чем толкуется. У раевщика не хватило картины на весь ящик, он к одной картине совсем другую приклеил. Берут ребята на веру и понимают, что тут больше слова, чем самая картина. А слова такие занятные:
– А это извольте смотреть-рассматривать, глядеть да разглядывать: город Цареград. Из Цареграда выезжает салтан турецкий со своими турками, с мурзами и татарами-булгаметами и со своими пашами. И сбирается Расею воевать, и трубку табаку курить, и себе нос коптить, а потому в Расее зимой бывают большие холода, а носу оттого большая вереда, а копченый нос не портится и на морозе не лопается.
А вот извольте смотреть, как князь Меньшиков Севастополь брал: турки палят все мимо да мимо, а наши палят все в рыло да в рыло. А наших Бог миловал – без голов стоят, промеж себя говорят, да трубки покуривают, да табачок понюхивают. И это бывает, а бывает, что и ничего не бывает.
А вот извольте смотреть-рассматривать, глядеть-разглядывать, как в городе Адесте, на чудесном месте, верст за двести, прапорщик Щеголев англичан угощает: калеными арбузами в зубы пущает.
Это московский пожар; пожарная команда скачет, по карманам трубки прячет, а Яшка кривой сидит на бочке с трубой, сам плачет да кричит: чужой дом горит.
А вот и Макарьевская ярмарка, что в городе Нижнем бывает. Московские купцы продают рубцы, сено с хреном, суконные пироги с навозом. Московский купец Левка торгует ловко, приехал на лошади: лошадь-то пегая – со двора не бегает, а другая чала – головой качает, приехал с форсу, с дымом, с пылью, с копотью, а нечего дома лопать. Привез барыша три гроша. Хотел дом купить с крышкой, а привез глаз с шишкой.
Ну, теперь будет.
Достаточно смерклось, и ребята отправились в подвал харчевни исполнить обещание – походить себя чайком-кипяточком.
Этим начались похождения Петрухи: не было ни одного праздника, когда бы не пил он чаю, от которого недалек переход к меду и пиву. Конечно, на зарабатываемые деньги не разгуляешься, потому что известна залишняя копейка мастерового: только и хватит разве чаю напиться. Выпрошен гривенник на баню, из него три копейки отдано за беленький медный билетик, а остальных, в складчине, хватит раза на два напиться горяченькой водки из-под невской лодки.
Незаметно за длинной порой гороху, гречневой каши с конопляным маслом да тертой редьки с лавочным квасом и луком наступило и то время, когда хозяин оделил трех своих работников, которые были постарше, в том числе и Корегу, деньгами, давши им по рублю серебром на гулянку. Молодцы побрели опять на качели, но не дошли туда, по простому обстоятельству. Дело это вот как случилось.
Идут ребята по Гороховой и толкуют всякий вздор, как взбредет в голову.
Видят, в одном окне хитрая штука: торчит деревянная с золотом птица и вертится кругом, а в зубах у ней бумажник, в котором господа носят деньги и сигары.
– Ведь вот, братцы! – начал Петруха, – кому какой талан дается: – Хоть бы и наше дело теперича взять: поди заставь плотника шпалер натянуть; ан нет, шалишь – не дотянет. Намнясь в Лесном на даче и сами обойщики клеили, да что вышло? Нас же, гляди, позвали, потому, значит, что все отклеилось. Выходит, что на то: мы маляры, нам и честь предлежит. Не так ли я, братцы, говорю?
– Умные речи хорошо и слушать. Как же, коли не так? Штукатуры, вишь, еще с нами в линию лезут! Да где им, глиняным лбам, сапогам плетеным, такой узор подвести, как я вечор на печи вывел? Мрамор, братец, настоящий мрамор, – никак, значит, не отличишь. Сам ведь видел, Петруха. Хорошо ведь было?
– Что и толковать, паря? Известно, штукатура одно дело: положи, выходит, настилку, примерно, – да и ступай подальше: без тебя, значит, сделаем. Так-то и обойщика дело, чтоб около карет да колясок возиться. А покажи-ка мне эту штуку хоть один раз: подведу, значит, так, что любо да два. Коли на правду дело пошло, так я бы обойщику только и дела давал, чтоб к плотничьим сапогам подошвы однотесом подбивать!.. – острил Матюха, к единодушному смеху товарищей.
– Стой, ребята!.. – громко крикнул косолапый Тихон, незаметно увязавшийся с малярами и до времени слушавший их тары-бары. – Коли так толковать будем, так, тово и гляди, попадем на площадь, а ведь дорога привалы любит и идет-то вон прямо туда! – И дворник указал на одну дверь.
– Нет, я не пойду… – начал Петруха.
– Что же, брат, так?
– Вишь, дело-то это впервые будет со мною, так оно маненько опасно. Коли хотите знать, так я не знаю, как и двери-то туда отпираются.
– Вот, лихая беда узнать единова, а уж попадешь, так оттуда силой не вытащишь. Нешто, Петруха, не пивал еще водки, а, кажись, брат, было дело? – допытывался Матюха.
– Ну, брат, нет! уж этим, значит, ты меня не кори: в чем другом, а этому греху не причастник. Уж, брат, и не кори, – дело небывалое…
– Да идешь, что ли, а то одни пойдем. Смотри, чтоб после попреков не делать. А, Петрух?
– Претит, ребята… неохота!..
– Что это, Петруха, нешто рот у тебя сахарный и водка тебе не по губам?
И ребята ввалились с Петрухой, куда желали. Немного погодя Петруха очутился впереди всех и требовал водки.
Долго морщился Петруха и вздрагивал для потехи всеми членами, словно мороз пробегал мелким горошком по телу: и плечами крутит, и ухает с перекатами да с одышкой; наконец и выпил и начал после оплевываться.
Спустя полчаса Петруха предлагал песни петь. Товарищи решились идти в полпивную, и драл же там Петруха нескладицу своим зычным разносистым голосом! Об одном жалел косолапый дворник, что забыл захватить рукавицу свою, в которой носит жильцам дрова, чтобы закрыть ею, как он называл, Петрухину прорву.
Таким образом издержали ребята все до последней копейки. После этого раза стал Петруха как будто и не тот: стали заводиться за ним и прогульные дни и неизбежные хозяйские вычеты, споры и другие неудовольствия. Начала у него и голова кружиться, когда случалось ему лезть на леса или козла, и синего цвета, бывало, не отличит от белого, а вместо того, чтобы влезть наверх, у Петрухи зачастую подкашивались ноги и он всем туловищем ложился на пол, к общему смеху товарищей. Только хозяйский обычай – не задавать много денег работнику – мешал всем затеям Петрухи, который стал уже теперь просто Петром – у хозяина и Петром Дементьевым или просто Корегой – у товарищей. Наконец стал замечать хозяин, что Корега начал запивать, и совой глядит, и работа не мила, словно впервые спознался с ней. А там уж и слышит сторонкой, что работник начал новых хозяев присматривать, о ценах справляться. Вот он и сам пришел наконец и плачется.
– Из деревни письмо, – говорит, – получил; бают, овин перестраивать надо, на дворе навес настилать новый. Пособи, Кузьма Петрович! заслужим твоей милости, коли не ноне, так на будущую весну пригодимся. Дай, – говорит, – двадцать рублев: до зарезу нужно. А то хоть в гроб ложиться, – так впору. Такая-то напасть подошла!
– Нет денег, – говорит хозяин, – вчера последние вашим роздал. – А сам смотрит на работника, да так смотрит, что смекает тот, что и деньги есть, да дать не хочет: не верит ему.
– Коли так, Кузьма Петрович, – говорит Петруха, – так рассчитай меня; кажись, там еще что-то доводится. Уж я к Андрею Фомичу пойду. Бери, говорит, пачпорт да приноси – тридцать рублев дам, говорит.
Как бы то ни было, но Петруха расчет получил немедленно. Конечно, этот расчет и весь-то состоял из полтинника, да и Андрей Фомич дал ему за остаток лета всего только десять рублей, но все-таки Петруха простился с прежними товарищами, тяжело вздохнул, махнув рукой, и побрел на новые нары.
Андрей Фомич был обстоятельнее и крутее Кузьмы Петровича: он просто не дал Кореге ни копейки вперед и пригнал дело к тому, что тот поневоле должен был работать так, что сам хозяин прихвалил его. Ясно, что Корега наконец взялся за ум и нечаянно сохранил заработанные деньги. Получивши их, он отослал в деревню; сам хозяин и письмо написал, сам и деньги отнес на почту. Мало-помалу вбивался работник в хозяйскую доверенность и даже получил еще три рубля прибавки.
Осенью стал Корега истолковывать и о том, как бы в деревню справиться, откуда уже начали наказывать ему, что пора-де, Петр, и на побывку прийти: шестой год в Питере живешь, а как уехал туда, с тех пор и не видали, да и отписываешь редко: возгордился, что ли? – кто тебя знает. И мир толкует, что «пора-де, Дементий, оженить сына: однолетки его почесть все хозяйками обзавелись, а кой у кого уж и ребятишки попискивают. Пусть приедет парень да посмотрит, а девок у нас, кажись, не занимать стать: сам ты это, Дементий Сысоич, знаешь».
«Знать, тому и быть, чтоб в деревню ехать, – думал Корега. – Ведь и то сказать – не век же бобылем по свету таскаться; посмотрю-погляжу, авось невест и на мой пай хватит. Да вот хоть бы и Матвеева Матренка, коли не померла: знатная, поди, девонька вышла, право знатная!»
И в воображении жениха рисуется облик невесты: полная, румяная девка – кровь с молоком, и брови дугой и словно бор густые, а из-под них смотрят черные большие глаза. Идет она с работы вместе с товарками, косы да грабли на плечах несут; поют девки песни, а Матрена шибче всех задирает, почти одну только и слышно ее, голосистую.
Улыбнулся Корега, укладываясь на нары, и снится ему свой, деревенский, праздник: все девки собрались и ведут хороводы; ребята плотной стеной окружили их и играют, кто на балалайке, кто на гармонии. Вот Матрена, плотная, рослая – гладыш-девка, вышла на середину и разносисто и громко поет знакомую песню, а сама ходит воробушком. Откуда потяпки такие, откуда стать и посадка! Мокрая курица перед нею порука ее, хоть и эту хвалят ребята.
Любо молодцам, толкают они друг друга в бочок, пальцами на Петруху указывают и кричат ему громко, на всю улицу: «Ишь, гляди, ребята, девка Корегу полюбила, сговор был, а все оттого, что в Питере живет да подарков разных навез ей с отцом, с матерью. Вот и сошлись в пожеланиях. Эй, Корега, счастлив, братец, ты!»
Может быть, и еще лучше бы приснилось Кореге, если б только ночь у путного человека была подлиннее, а то так коротка, что не успел Корега и налюбоваться Матреной. Как встрепенулся утром, так и побрел к хозяину, чтобы застать его дома.
– А я к тебе, Андрей Фомич! Пусти в деревню побывать. Назад вернусь – к твоей милости приду, коли не противен стал.
– За чем же дело стало? – ответил хозяин, – собирайся! Нехудое дело родных повидать, а работы, видел сам, вплоть до весны почти никакой не будет. Придешь в посте – понаведайся: может, опять возьму!
– Спасибо, Андрей Фомич, уж не откажи.
И Корега поклонился хозяину в пояс.
– Мы от твоей милости ни за что не отстанем; то исть не в обиду тебе, уж эдакой хозяин, как ты, просто, значит, на редкость. Все ребята это говорят, да и я пытаю хвалить тебя всем: Егорка Семенов затем и пришел к твоей милости от Кузьмы Петрова, что я за тебя крепко стоял; ино, слышь, слеза прошибла! Во как полюбил тебя, Андрей Фомич, и ни за что, брат, не отстану!.. Хоть режь, не отстану. Да и денег твоих, что прибавку положил, не возьму: любя тебя, значит, все дело буду сполнять, только уж ты не оставь попечением, не гони от себя, коли из деревни к тебе заверну.
Понравились хозяину Кореги речи, кусал он свою бороду, пока работник хвалил его и чествовал. Хотел было говорить и сам, да речь не сложилась – только и слов было:
– Ладно!.. тово!.. спасибо, тово… хорошо!.. хорошо!.. Да нет ли, тово, нужды тебе какой для деревни? – спросил наконец довольный хозяин, – пособия там, что ли, не надо ли?..
– Благодарим покорно, Андрей Фомич. Пособие какое же для деревни? Сам знаешь! да и мне тоже немного надо. А мы не из чего твоей милости служим: так, значит, из любви. Вот спроси, брат, ребят наших, хоть сам спроси, что они про меня скажут?
И Корега прослезился.
– Не в обиду ли тебе, молодец? тово… поправки, может быть, дома нужны?..
– Какие поправки, ваша милость, Андрей Фомич? Все твоя доброта сделала: и овин перестроен, и баня новая поставлена, лошадь новую выменяли, овец прикупили… А все твое пособие, Андреи Фомич, – вот ведь ты как человек-от доброхотный: по гроб не забудешь!..
– Ну, что пособие?.. пособие, тово?.. – говорил растроганный хозяин, – коли денег надо – я дам и теперь; вперед дам, сколько, тово… можно, а после сочтемся… ведь за тобой не пропадет!
– Эх, Андрей Фомич, – закричал Корега, – уж коли ты такая душа добродетельная, вот тебе всю душу нараспашку, как отцу родному… Жениться хочу, – понизив голос, продолжал работник, – больно, вишь, пора жениться-то. Невесте подарок бы надо, родным… тоже, ну и свадьбу справлять. А коли не так, так и опосля можно сделать. Коли твоя милость, Андрей Фомич, не согласны, так и отложить дело можем, не важная штука!..
– Зачем же, зачем откладывать?.. можно, тово… и теперь сделать, я рад помочь хорошему делу, в худом только не участник, тово… не потатчик!.. А сколько тебе нужно, денег-то?
– Нет, уж и не спрашивай, Андрей Фомич, – твое дело! Сколько твоей милости, значит, угодно, и на том по гроб благодарны. Сам ведь лучше нашего знаешь, сколько дать, а мы и женимся-то впервые.
– Да ты скажи, примерно… тридцать, тово… рублев будет, что ли? – брякнул хозяин. – Али поменьше возьмешь?..
– Дай уж тридцать пять, Андрей Фомич! Во как благодарны будем!..
И Корега поклонился низко, так низко, что, когда поднялся, все волосы лежали у него на лице, багровом от низкого поклона.
– Ну, ладно, молодец, получишь! Слова назад не вернешь. Принеси только записочку с поручительством: сходи к управляющему, что ли… или кто у вас тут заведывает-то? Напиши, что вот-де взял вперед за лето и что обещаюсь-де к хозяину в апреле прийти, ну и все там… как следует.
Уладив дело, Корега уже подговорил попутчиков, нашел даже совсем из одной деревни; следом за тем выхлопотал поручительство от управляющего и уже спал в вагоне, спал невыносимо крепко: ни пинки перелезавших через него, ни холод, ни говор и шум пассажиров, ни сквозной ветер – ничто ему не мешало. Разве проснется, чтоб выпить сбитню или закусить черным хлебом, что прихватил с собою из города, да и опять завалится под скамейку. Вылезет оттуда да начнет зевать и протирать глаза – смех и шутки пустит на целый вагон, так что иную пору обидно станет и отшутился бы за нападки, – да больно много скалозубов-то. Тратился он мало дорогой, но зато холстинный мешок, что клал он себе под голову и выносил на платформу, любого мог убедить, что Петруха уже довольно поизрасходовался: недаром же целое утро, накануне отъезда, шатался он по Апраксину.
Только тогда поддался Петруха и сделал заодно с попутчиками, когда выровнялось перед ними последнее село по дороге, от которого верст только тридцать осталось и до родной деревушки. Пришли питерщики в это село пешком, да и завернули к знакомому мужичку, что возил купеческие товары на ярмарки и держал для того две тройки.
– Здорово, сват Иван Спиридоныч, мы опять к тебе с прежней просьбой: жениха, вишь, везем, так опять прокатиться захотелось. А за деньгами, сам знаешь, не стоим: почем с брата положишь – и ладно. Знаем, что у тебя вихорь – не кони, да и сам ты даром что стар, а нас, молодых, в этом деле за пояс заткнешь!.. На дыбках стоишь, и ни один почтарь за тобой не угонится, – дружно просили питерщики, хитро подобрав речи.
Знали они, что старик крепко любил своих коней да любил похвастаться и своею стариковскою удалью и уменьем ямщичничать.
– Ну, садись, дружки, туда, на задки. Да держись покрепче: сивого мерина в корень пустил, недаром его ребята чертом прозвали. Попривяжи назади, Еремеюшка, рогожу-то: чтобы коробом, знаешь, стояла от ветру, а шоркунцов-бубенцов по три на каждое ухо я привязал. Да не привязать ли, ребята, колокольчик для задору да и для потехи? Пусть там бабы очи повыглядят, а девки сердца поиззнобят. А дуга-то, дуга-то, ребята!.. десять рублев за одну дугу заплатил: одного золота на лобанчик будет. Ишь, индо сизит да солнышком в глаза отдает, коли сбоку посмотришь, – расхвастался старый, подбирая полы и усаживаясь на козлы.
Загремели шоркунцы, словно ребятские трещотки на лугах, когда собирают они там лошадей, чтобы вести их купать или в стойло загонять, а колокольчик заболтал языком свою нескладную, монотонную песню. Потом мелкой рысцой ехали ухари наши больше чем полпути. Но лишь завиделись им знакомые деревни верстах в семи, там, за леском да за горкой, – гикнул старый, словно испугавшись, что все зубы изо рта потерял, да и замер его дрожащий голос. Зачастил он, зачастил кнутом по пристяжным, стал на дыбки и шапку как-то ненароком на левое ухо сдвинул. Крикнул еще раз, оборотившись назад: «Держись, ребята, да посматривай, чтоб не растерять вас, – вона и гумна соснинские видно!» Замолол старый, замолол языком что-то складное, вскочил на подножки, закрутил кнутом над головой да и света в глазах не видит: того и гляди, что прыгнет через лошадей да и побежит сам прытчее их.
Сидят питерщики, улыбаются да переглядываются; только немного поддает на ухабах, а избы так и летят мимо – сторонятся. И видят они чуть-чуть из-за виска, искоса, что в избах задвижки в окнах поотодвинулись, а девки с ребятами выбежали за ворота посмотреть, что за шум и грохот несется с поля, а, кажись, теперь свадьбам не время быть.
– Это питерщики, девки, да не наши; справа-то ровно бы Петруха лошковский. Ишь как парят! – заметил один из парней.
– А крякнут подпруги либо завертки, то и быть бычкам на веревочке! – подхватил другой.
– Ну, нет! Иван Спиридонов не таковский!.. У него все сыромятное, не мочальное, что у нашего брата, – ответил третий.
«Поди, денег много везут и подарков всяких невестам!» – подумали старухи на полатях.
Между тем питерщики, со звоном и присвистом старика-ямщика, из конца в конец раз промчались по своей деревне, другой раз назад, и опять так же, а в третий – рысцой да и легонько: время уж и из саней вылезать, молодецки да осанисто, и разойтись по своим избам.
– Батюшка ты наш, яблочко наливное, красавец ты всесветный! Дождались-то мы тебя! – голосили бабы в Корегиной избе.
И целуют-то Петра, и вдоль спины-то гладят. Три бабы овчинный тулуп снимают, одна берет из рук шапку и положить куда не найдет места. Усадить не знают где питерщика, а сами ревом ревут бабы, не то от удивленья, не то с радости.
– Ишь ведь и приехал к нам, и не чаяли нашего светика! Поешь-ко, кормилец, соломаты с овсяным кисельком. А там разговеемся – яишенку-глазунью сделаем. Да не хошь ли гороху с толченым луком: ты ведь и до него куды какой охотник был! Не велишь ли к утре из любимого чего приготовить? Ox ты, наш красавец-питерец! Глядите-ко, бабы, как вытянулся Петруня-то наш, и не узнали, коли бы сам не пришел да не сказался! – говорила мать-большуха, угощая сына. А сама из угла и угол бегает словно угорелая, и к сыну-то подсядет да гладит его по голове, и баб-то бранит, что не тем угощают.
Слез и отец с полатей, где нарочно подольше сидел, чтоб угомонились бабы.
– Здорово, Петрован, здорово, питерец! Ишь какой!.. Ишь какой!.. – говорил он, целуя сына.
Сыну, на радостях, и кусок в горло нейдет – встал из-за стола и начал оделять домашних подарками: кому платок расписной, с городочками, кому ситцу на рубаху, а отцу столичный картуз привез с козырьком кожаным да перчатки зеленые. Всех оделил, никого не позабыл и не обидел; даже сестренке и той привез картинку.
– Спасибо, Петрованушко, спасибо, – говорил отец. – На радость ты нам вырос на старости лет. А колькой ему годок-то, бабы, пошел – кажись, восемнадцатый…
– Али двадцатый? – отвечала мать.
– Полно, сестра! – подхватила старая тетка питерщика, – ведь Петя родился, еще Онтушево не горело; ровно в тот год, как бурмистр овин новый строил. Пришла я, мать моя, с покосу, а ты уж и с постели встаешь, – совсем отпустило!..