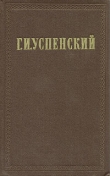Текст книги "Лесная глушь"
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Втроем-вчетвером, все с рогатинами, один про запас ружьишко прихватил, – идут смельчаки, по протоптанной тропе, прямо к берлоге. Разбудили зверя и криком и шорохом подняли на дыбы, и зачинщику первое место. Наученный зараньше, как вести дело и остерегаться, чтоб зверь не вышиб или не переломил бы рогатины, смельчак, не взвидев света, рванулся на зверя и врубил половину оружия в медвежье мясо, прямо под ложечку. Дико заревел медведь, но напал не на олухов. Не успел он, может быть, осмотреться порядком, как охотник упер рогатину в корень дерева, и чем больше бился зверь и хватался за рогатину, тем она дальше и дальше уходила внутрь. Осталось товарищам дорезать добычу ножом и разделить между собой.
Но вот, полонив с десяток медведей сообща с товарищами, охотник задумал новую штуку: понабрал пузырей, сыромятной кожи и обтянул себе затылок, шею и плечи; засел на печь, и заскорузли снаряды толстой броней. Два дня принимался он точить широкий нож, заостренный с обоих концов, и никому не говорил о задуманном, как ни добивались ребята-товарищи. Они уж после смекнули, что надумал он идти один на один.
– Пускай попытает! – решили они, и ему ни полслова о своей догадке.
Пришли только раз, да сказали, что вот-де верст с десяток оттуда проложил медведь тропу и ревет по зорям. Закипело сердце у охотника: и страх и радость, и боязнь и храбрость, все в один раз приступило. Привязал он нож туго-натуго ремешком к руке, надел полушубок и захватил одну только рогатину. Идет по тропе и прямо к тому месту, где медведь показался. Смотрит мохнач и заподозрил врага: встал на дыбы и прямо к нему навстречу. Минуты не прошло, как уже рогатина попала в зверя и крепко рассердила его. Пока он собирался с духом, охотник прислонился за толстым деревом и выжидал удобной минуты.
Свирепствует зверь и хватает землю огромными глыбами; начал вырывать кусты и швырять их в сторону. Стоит охотник, незамеченный, и взбрела ему мысль непрошеная: дать тягу, да куда-нибудь подальше. Но видно не совсем потерялся: вспомнил, что тут-то ему в бегстве и неминучая гибель. Загорелись его глаза каким-то страшным огнем и губы дрожат, а мурашки так и сыплют по телу: бросился он вперед что было силы и, заслонив лицо левым локтем, лежал уж под зверем и порол ему брюхо острым ножом. Через минуту внутренности медведя, одни за другими, показались на свежий воздух. Угораздил смельчак, как истый знаток, в самое сердце и разодрал шкуру от самой лопатки до клочка хвоста. Льет с него пот крупным дождем, и от трудной работы, и от огромной массы, которая тяжелым камнем легла ему на плечи. Облегчился он от нее, свалил мертвого медведя и ни с кем уж не делил его, никого не брал в складчину.
Было бы хорошо начало, а за другим чем уж дело не стало: понравилось молодцу ходить один на один и бьет он на то, чтобы дойти тридцатого, а там, говорят, сколько ни ходи, – ни один уж медведь не уйдет и не тронет.
БУЛЫНЯ (Очерк)
Булыня – представитель тех эксплуататоров крестьянской мелкой собственности, которая таким тяжелым трудом наживается и с такой бессовестной беззастенчивостью выманивается различными способами. Тип этот разнообразен и многочислен и появляется в виде торгаша-плута, почти всюду с одинаковыми приемами, хотя и под различными названиями. Сюда относятся и мелкие офени—торговцы (владимирские картавые проходимцы), меняющие на свой залежалый и прогнивший товар домашние изделия деревенского досужества, и разного рода закупни, перекупни, известные под именем маклаков. У хлебного дела стоят такие выжиги-посредники между базарным продавцом и портовым негоциантом – приказчики какого-нибудь крупного хлебного торговца с Волги, так характерно называемые кулаки; у крестьянских лошадей – барышники, произрастение бойких конных торжков и ярмарок, умеющие организоваться в шайки артелями и, по подобию офеней и столичных мошенников, для больших успехов в надуванье, придумавшие свои языки, целые словари темных условных плутовских слов и выражений.
На инородцев русских (в особенности северных) и преимущественно на сибирских налетают целые стаи торговцев водкой и скупщиков у промышляющих в лесах пушных и ценных зверей и птицу, – торговцы, которые в одно и то же время спаивают водкой диких людей до вырождения породы и обменом на соль, хлеб, свинец и порох дорогих шкурок доводят дикарей до кабалы, до неоплатных долгов. При долгах и скудном вымене хлеба инородцы доходят до отчаяния голодовок и повальной смертности. Таким домашним благодетелям – имя легион, прозвание, наиболее точное и характерное, – мироеды, а деятельности и беспредельно вредному влиянию еще до сих пор не установлено никаких преград и не положено никаких препятствий.
Кое-какие узаконения выводили лишь уменье обходить их, закупать и подкупать блюстителей закона. Язва задатков, кабальных денег, выдаваемых вперед, и притом в самые тяжелые времена крестьянской нужды и инородческих голодовок, продолжает утеснять бедный люд и господствовать во всей силе на всем пространстве Русской земли. Замечательно при этом, что приемы всех таких мироедов значительно между собою схожи и не представляют особого труда и затруднений для борьбы с ними. Но двойной, а можно сказать – шестерной, мелок, которым записываются отдаваемые в долг товары, если отчасти и пишет успешно и бойко на слепых глазах безграмотного люда, то, с другой стороны, и приставленные законом и властью, вместо того чтобы быть исполнителями должности и долга, позволяют ослеплять себя избытками от успехов плутовства да сплошь и рядом сами превращаются в тех же кулаков, перекупной, мироедов.
К сожалению, для зла обширное поле в среде долготерпеливого люда, умеющего лишь рассказывать про таких кровопийц подспудные анекдоты вроде того, что одному из них за крестьянские слезы прислали из Питера железную шляпу в полпуда и велели надевать всякий раз, когда надо ему идти в какое-нибудь казенное место или по начальству; другому дали железную медаль в пуд весом и не велели уже снимать во всякое время. Но по этим рассказам можно узнавать только про тех единиц, которые уже очень насолили; те же, которые не успели еще истощить меру долготерпения, продолжают быть для своего околотка благодетелями: в одно время и кулаками, и ростовщиками. И нет того пятка-десятка деревень, для которых не существовало бы такого мироеда! Не надо и ходить далеко, и как бы далеко ни зашли вы – везде найдется сих дел мастер, который лишь на старости лет, когда уже очень зазрит совесть, отольет большой колокол для сельской церкви, вычинит иконостас, построит новую каменную матушку-церковь, но опять-таки за себя, а не за грехи людские.
Но не об этих больших кораблях рассказ наш: в тесных пределах деревенских околиц, около которых держатся настоящие наблюдения наши, действует и суетится мелкий плут, более других нам известный и знакомый. Вспоминаем о нем по деяниям и заслугам его художества и досужества.
* * *
С весны уже начинают бабы-хозяйки думать о будущем лете и по приметам, приобретенным навыком или по преданию, судят о нем: стояло на Евдокеи погоже, будет и лето пригоже, по их мнению.

«Дал бы Бог на Сороки холодных утренничков, – думают они, – в хлеба недороду не будет; а на Фофана (Феофана, 12 марта) да на Человека Божья (17 марта) станут расстилаться по земле густые туманы – и на лен устоит урожай. Не лежали бы только замерзи дольше Благовещенья дня, и выпал бы на этот праздник дождичек теплый». Опытная и бывалая хозяйка в этот день старается всячески избегать взглядов на пряжу, особенно суровую, не стоит под дымом, а на другой день, на Архангела, не станет прясть (работа впрок не пойдет). Другие еще на первый сочельник гадают, вытаскивая из-под скатерти соломинку, и кладут в кутью: какова длинна былинка, таков и лен будет. На Онисима (15 февраля) зорнят пряжу, выставляя моток на утренник, чтобы была пряжа белая.

И вот Марьи (1 марта) – зажглись снега, заиграли овражки; прилетели сверчки и жаворонки; вскоре ворон выкупал в новой воде своих детенышей; там подошли рассадницы, и «разрой берега», и Алексей – «с гор потоки»; на Ирину – «урви берега» засеяли морковь и свеклу; мужик вывернул оглобли и бросил сани на поветь. Прошло окликанье родителей – пришла пора скотину в поле выгонять и весну окликать. Береза сок дала – по подоконьям пастухи пошли для обдариванья; Еремей – запрягальник; на Власа выпала роса; а вот на дворе и подымай мужик сетево: сей рожь в золу да в пору, топчи овес в грязь – будет князь, прорастет сквозь лапоть. Бабам пора рассаживать по грядам рассаду, сеять горох и засевать льнища льном-плауном так, чтобы успел волокон сделаться длинным, пока прилетят комары, минуют сиверы и явится на двор Елена – длинные льны. Первый засев на Сидора, 14 мая. У хороших хозяев на этот день так и бывает: лены Олене.
С этой поры лен начинает нежиться и крепнуть в корне, чему способствуют большие росы по июньским утренникам; особенно хвалят и верят в росы Федора (8 июня), но боятся рос на Марию Магдалину (22 июля); от сильных рос льны бывают серы и косы, а с первого Спаса всякая роса хороша. На третьего Спаса старозаветные бабы по жниве катаются и приговаривают: «Жнивка, жнивка! отдай мою силку: на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Наконец лен зацветает и две недели держится в цвете, после чего семя пойдет в налив, и лен в течение четырех недель станет поспевать, в ту пору, когда хлеб начнут зорнить зорницы. На св. Прокопия озими доходят в наливах, на этот же день и лен урастает, пока бабы полют огороды и дожидаются Ильина дня. Но тогда, говорят, и камень прозябает.
И вот на Нерукотворенного Спаса защипали горох и запахали озими; на Успеньщине обмотали серпы в солому; на Ивана Предтечу поспела брусника, овес созрел; а с ним вместе и лен доходит, как известно: недаром на Лупа (23 августа) льны лупить, а на Ивана Постного последнее стлище на льны. Лопаются сами собой льняные головки, и полетело семя. Пора идти бабам в поле, теребить лен и уставлять его в бабках, чтобы расщепились головки от солнечного жара и не разлеталось бы по ветру семя. Там – смотришь – полакомились бабы свежим толокном на овсяницах, пирогом с новой капустой в зазимки на Воздвиженьев день и опять идут на льнище развязывать бабки, обивать семя вальками на рогожку и расстилать лен по полю или озими, которая с этих пор называется стлищем. Из семени выжмется масло постное; а выжимки – избоина – пойдут на пищу коровам в дуранде.
Отлеживается лен на своем стлище до тех пор, пока не увидит баба, что пробный снопик – опуток – хорошо обивается на мяльне и мало в нем или нет совсем негодной прозелени.
Тогда остается одно: поднимать лен со стлища, топить баню и тащить туда же с повети мялки, трепалы и мочила. После Покрова (с половины грязников) настает пора топтать лен, очищать его после просушки и мочки. Отрепье, или охлопки, пойдут на завалины около изб, чтобы сберегалось в них тепло в зимнюю пору и не задерживалась сырость весною. У иных этим отрепьем выстелют хлев или двор, у других они и так сгниют около бань в кучах и размоет их весенними дождями и сыростью. Отоптанный лен бабы начинают расчесывать гребнями и прибирают очески на продажу канатникам и веревочникам. Расчесанный лен называется мыканым и изгребным. Чтобы получить нитку тоньше – перечесывают его в третий раз и называют пачесным; остатки от этого чесанья – изгребье – пойдут мужику в теплую шапку или на стеганье к зиме бабьих понев.
Между тем незаметно в этих работах проходит для баб и Фекла-зоревница; а с ней вместе и овин отпраздновал свои именины, в которые хозяину достался хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. На Покров было последнее гулянье и первое зазимье; свадьбы кое-где затевались и разыгрывались к Казанской, с которой осенняя грязь, говорят, отстоит от зимы только на три седьмины. Вот уже на дворе и Парасковья-льняница (14 октября). А когда сомнет лен, то на Параскевин день постарается первинки принести в церковь для приклада. Толковая хозяйка не сядет в этот день за пряслицу, боясь ногтоеда и заусеницы, от которых, чего доброго, сведет ей и руки. Лен к льняницам приготовлен совсем в отделке; у доброго хозяина выжато из семян и масло свежее; стоит только садиться за стол, есть кисель овсяный или пшенную кашу с новой начинкой. Молодой на этот обед зовет к себе тестя и тещу и задает им пирушку с вином.
На 29 ноября справляют Абрама-овчаря: в третий раз, после весенней, начинается осенняя стрижка овец. Затем пройдут шерстобиты, обобьют бабам шерсть – волну – мужикам на сермягу; а тут, смотришь, нагрянут и швецы-портные. В деревнях наступают Кузьминки, затеваются ссыпки, на Михайлов день первый мороз нагрянет – запирается простой человек со всей семьей в избу; бабам настала пора затевать супрядки, которые кончаются у них поздним вечером. Настала прибируха – зимняя пора и для мужика, и для бабы. В избах зашумели веретена, затянулась песня; у доброй хозяйки что ни день, то новые тальки выходят из рук гостей-попрядушек; намычки то и дело вытягиваются в нитки. На пряслице делаются нитки погрубее, на гребне прядут только мастерицы, и не выпрядают всей кудели – намычки, а оставляют изгребье – охлопки, которые идут, вместо ваты, на подкладку под поневы и в шапку.
Богатая баба-хозяйка к концу супрядков уже и не прядет сама: ее дело принимать с веретен на простни или клубки, а оттуда на мотовило, готовые нитки, отсчитывать по четыре, чтоб составить чисменку, и, перевязав веревочкой-пасменником сорок чисменок, составить пасму. Двадцать таких пасм, свитых на воробе в двухаршинную петлю, составят тальку.
И вот в эту-то пору, когда уставит баба в избе станок, натянет с вороба на вертлявый турик все пасмы для основы, приготовит в челнок цевку для утока, когда навесит бердо и начнет им прищелкивать уток к основе – является в избе булыня – старый знакомый покупщик-барышник.
Он молится иконам, кланяется, желает: «Бог на помочь! Челночок в основку!»
– Где же у тебя большак-то, что это его не видать в избе? – спрашивает булыня вовсе некстати, потому что сам же выглядел то время, когда хозяин сошел со двора.
– Да со швецами пошел в кабак раздел делать, Михей Спиридоныч, – отвечает, однако ж, хозяйка, зная, зачем пришел этот плут с беглыми рысьими глазами, которые так и носятся с полатей в кут и под лавки и не поглядят совестливо, не остановятся на месте даже на минуту. Хозяйка спешит сама предупредить булыню, который подошел к стану и рассматривает нитки, навитые на цевках, и готовое уже полотно, намотанное на щеколду.
– Тебе, поди, пряжи нужно? – спрашивает она.
Булыня спохватился, чуть было не изменил себе, но оправляется:
– Нет, не нужно пряжи: много и так накупил! Зашел, признаться, погреться только да проведать хозяина: целую почесть зиму не видал. Живем-то далеконько; в ваших местах только по надобности бываем, – отвечает наш булыня; но хитрит, как записной плут, которого не очень-то жалуют богатые хозяева, не нуждаясь в их деньгах и при первом же посещении указывая им – где Бог и где двери.
Хозяйка опять начинает прищелкивать челноком; булыня бессознательно вертит пустой валик на скальпе и опять пробует цевку. Оба молчат; но время дорого для булыни: может вернуться хозяин, хотя и пошел на такое дело, которое не скоро кончают. Булыня первым нарушает молчание:
– Вот коли льну у тебя осталось немыканого, пожалуй, возьмем! – да и то уж так… из повадки хорошему человеку; а у нас, признательно, много накуплено, пожалуй, и не увезешь на одной-то лошади…
– Немыканого нет, а есть изгребной! – отвечает хозяйка.
– Такого не надо! – врет булыня. – Нынеча он совсем не имеет ходу: не берут!.. Хозяин нынешний год в биржах снял подряд на сырье, а ниток и совсем не велел покупать.
– Ладно, одначе, коли залишний есть да не много, возьмем и изгребного! – решает булыня, вполне уверенный, что убедил тупоголовую бабу, которая, пожалуй, сразу-то и не сообразит, что изгребной лен и лучше (т. е. мягче, чище сырья, особенно если пройдешься по нем гребнем раза три-четыре), и дороже.
Но изгребной лен не понравился булыне.
– Не хорошо, – говорит, – трепан; кострики много осталось, не вся обита трепалом, да и волоть коротка, и не так крепка, да и черна что-то… не выбелилась!..
Одним словом, забраковал булыня лен как никуда не годный; другая баба и не вынесла бы, пожалуй, такой срамоты на хозяйстве – вырвала бы лен, закричала б, затопала на барышника, алтынником бы, кулашником нечесаным обозвала, но большая часть поступает иначе.
Пока рассматривал и браковал лен покупщик, хозяйка успела надумать многое, от чего ей сделалось даже жутко.
«Вот, – думалось ей, – купил бы он у меня этот залишек да дал бы. Муж-то не знает, сколько всего льну осталось, совсем не мешается в наше бабье дело; а я бы купила себе бусы (старенькие-то почернели больно) либо позументику на штофную-то душегрейку, там с одного краю не хватило; а самому боюсь молвить…»
Булыня между тем успел вытащить из-за кушака безмен и прикинуть лен на фунты, мысленно посулив бабе дать полтора рубля – свою цену, если только упрется она, зная цены ходячие. Между тем для большего успеха он все еще продолжает встряхивать лен и даже швырнул его опять в голбец.
– Надо быть, матерня-лен, что больно в ствол пошел; а не то долгунец либо ростун какой: таких не берем!.. Прощенья просим! – говорил он, взявшись за шапку, но не двигаясь с места.
Булыня угодил как нельзя больше вовремя: в воображении бабы только что начала рисоваться заманчивая картина: как она в новой душегрейке пойдет на село, как эта душегрейка будет топыриться сзади и отливать и беленьким заячьим мехом, и новым золотым позументом… Она остановила торговца, начала торговаться с двух гривен и еле-еле добралась до заветной полтины. Булыня смекнул, что бабе и еще-таки нужны деньги, но ошибся, потому что она была удовлетворена в своих планах и к тому же не имела залишнего льну.
– Может, нитки продашь? – подсказал неотступный булыня.
– Да вот еще не знаю, батько, сколько на кросна пойдет! Коли дашь гривенничек за тальку, бери, Христос с тобой!..
Но булыня уже не браковал ниток: цена, запрошенная бабой, была ему с руки, но, чтобы не уйти с такой ничтожной покупкой, он явился соблазнять бабу пряниками, которые выдавал за вяземские, хотя и пек их сам на досуге.
* * *
Таким образом ходит торгаш с своим безменом и сладкой приманкой из избы в избу только от безделья в глухую пору зимы после Святок. Настоящее же время его деятельности обыкновенно бывает по лету, когда у баб начнет наливаться лен, заколосится рожь, заиграют по полям зарницы и время подойдет к покосам.
Обыкновенно эти торгаши – доверенные какого-нибудь богатого купца в уездном городе, который приобрел кредит на соседних биржах и буянах. По весне он собирает своих доверителей, оделяет каждого из них достаточным количеством денег, судя по способностям каждого; наконец, тут же выдает свидетельства, выправляемые на свое имя, делает приличное угощение с нужными наставлениями и прощается с ними до поздней зимы.
Булыни расходятся по разным сторонам и стараются вести дело особенно от своих товарищей, сходясь в своих интересах только тогда, когда являются на рынках или замечают пройдошество какого-нибудь новичка-перебойщика. С этим у них обыкновенно дело кончается слитками в спопутном питейном, а на рынках сообща подводят любого мужика-перекупня под обух, т. е. или заставляют его уехать в свою деревню, не продавши товару, или дадут ему цену свою, меньшую даже той, которую дают они по деревням на домах. Вот почему редкий мужик вывозит свой лен и нитки на базар, а дожидается прихода булыней к себе на дом по лету.
И вот со дня Петра Афонского солнце стало укорачивать свой ход, месяц пошел на прибыль. По гумнам забегали вереницы мышей, по полям зарыскали голодные волки, вороны застлали свет божий, застонала земля. На скотину напала мошка, по лесам полетел паутинник, засвистали перепелы, пчелы полетели из ульев, стала поспевать земляника, по полям показалась кашка и чернобыльник; трава в кое-каких местах пригорела от солнца: скоро наступит Петров день, красное лето, зеленый покос, когда и солнышко играет, и зорница зорит хлеб на полях – одним словом, подходит пора сенокосная. Знает об этом мужичок, но еще лучше знает об этом наш булыня.
Он нагрузил целый воз косами и серпами, стал на ту пору косником, и идет в знакомую деревню прямо ко двору старосты. Отыскав его, кланяется ему парой кос и разукрашенным серпом, просит не оставить в дружбе напредки и скрепить теперь запойным полуштофиком, который на тот грех и тащит уж из-за пазухи.
– Вот, – говорит, – к Демиду теперь пойду, да к Матвею, да к Ильюшке, да к Егору косолапому, не оставь нашу милость!..
– Хорошо, хорошо! – говорит ему староста или бурмистр чванливый, но податливый. – Коли не устоит кто, смекай к Юрьеву дню…
– Я тебе, – говорит булыня, – и грамотку принесу; все пропишу, что кому дам и на сколько заторгую из сырца. По осени опять понаведаюсь с поклоном.
– Ну, ладно, ладно! – отвечает бурмистр, – приноси там какую смастеришь грамотку-то. Ты ведь грамотный, а мне и земской скажет, что ты там настрочишь; да смотри же не больно шибко… строчи-то!..
– Рад служить твоей милости без обиды, – говорит заручившийся торгаш и спешит к какому-нибудь Демиду или Егору косолапому. Отыскивает того и другого где-нибудь на повети; там они либо старые косы клеплют, либо точилки натирают песком со смолой.
Булыня для них старый знакомый, по-старому и входит с масляным рылом, с уснащенной разным доморощенным краснобайством речью. Начинает кланяться, словно кто его сзади за жилы дергает: и плечами перебирает, и ногами заплетает, и шапкой помахивает, как цыган-плясун с диковинными коленами в пляске.
– Как-де ты, дядя Демид, живешь-можешь?
– Твоими молитвами! – отвечает дядя Демид и загремит опять молотком по заклепкам.
– Давай-то Бог доброго здоровья хорошему человеку! – улещает булыня. Но дядя Демид не внимает гласу, стучит себе, словно кузнец какой по заказу.
– Не утруждайся: спина заболит! – спешит перебить досадный стук торгаш-булыня. – Нешто у тебя на запасе-то нету новых?..
И дух у булыни замер: вот, думает, скажет, что есть.
– То-то грех, что нет: были летось, да разбились! Вот теперь мастерю клепки, авось, может, выдержат; а в город идти не удосужишься…
– Да на что тебе в город идти? купи у меня!
– Нешто ты ноне не с ложками ездишь?
– Было, дядя Демид, и на это время; сем-ко, смекаю, в другом попытаюсь! Я и серпов привез, коли хошь, и лопатки есть готовые…
– Купилы-то, знакомый человек, притупели: весь измаялся, одежонка с плеч лезет, ребятишки голы-голехоньки, собаки в избе ложки моют, козы в огороде капусту полют… – отвечает дядя Демид.
– С тебя, дядя Демид, недорого возьму! – подхватил булыня. – Коли надо, две косы так – деньги по осени, ну и серп идет в придачу; а за останное сколотись как-нибудь хоть на половинный пай. Ладно ли я говорю, толковый ты человек? Угостил бы я тебя, право; да, гляди, нониче хозяин-то словно кобыла норовистая: закупай, говорит, на свои, коли надо; а я-де тебя не обижу на скличке… Вот оно, дела-то ноне какие стали!
И долго ли разжалобить простоплетенного мужика базарному человеку-пройдохе; трудно ли навязать мужику вещи, очевидно нужные ему для хозяйства?
В других случаях булыня поступает иначе: ему известна вся подноготная в знакомых деревнях. Знает он, в каком доме мужик большаком, в каком сама баба на дыбках ходит, а где и семейная разладица стоит. Булыня умеет в мутной воде ловить рыбу…
«Выведем все, – думает он, – на свою поверхность: на то вот мы у этого дела и приставлены. Вот Иванов день подойдет – на село поедем!..»
И сдержит слово: в Иванов день или в ближнее воскресенье до сенокосной поры стоит он на видном месте в ту пору, когда мужики выходят из церкви, помолившись Богу, и одни тянутся за своими бабами на погост, а оттуда домой, другие, позадорнее, спешат, по привычке, проведать Ивана Елкина, чтобы не так же проходил праздник, как будень. Булыня наш таких знает, выглядит их в толпе и проследит в путешествии до старой избенки со сгнившим крылечком и разбитыми стеклами, именуемой кабаком или иногда, для нежного слова, – и питейным.
Булыня здесь совсем другой человек, чем на деревенском повите: он, подкрепившись немного, начинает шутить, как бы и записной завсегдатай, и скоро собирает около себя целую кучу, но не упускает из виду заранее им намеченных. Мужички тем временем выпьют на последние, хотя и всегда незалишние; времени до обеда остается у них еще много, отчего же часок не потолкаться, не побалагурить с досужим человеком. На то в кабаке и лавочки поделаны, и разные инструменты держат: балалайку, гармонию; целовальник на торбане поигрывает, и заходят заклятые верезги, которые и песню, пожалуй, залихватскую вытянут. Одним словом, мужики замешкаются, а булыня и рад тому: к тому да к другому прицепится со словом, начинает шутить.
– Вот, – говорит, – почтенные, болит у меня бок девятый год, да не знаю в каком месте – снадобился было у старух, да, слышь, надо голову обрить догола, ошпарить да молотком приударить…
В заведение входит новый гость, знакомый, но не нужный булыне, хотя и отвесивший ему поклон. Булыня, к немалому смеху, почтил его приветом:
– Будь здоров, дядя Мирон, со всех четырех сторон!..
Вошедший не обиделся; а булыня успел уже прицепиться к другому, вырядившемуся в красную рубаху. Он потрепал его по плечу и промолвил:
– Эх ты, щеголь Яшка: что ни год, то рубашка; а портам да сапогам и смены нет!..
Но этот молодец оказался покрутее нравом:
– Да ты что же богачеством своим расчванился? Мы, брат, и в лаптях не спотыкаемся…
Но булыня нашелся и тут:
– Будь же здоров и ты с четырех сторон. Мы, брат, и сами коли дома живем, так едим, пока не упадем, а и на ноги поставят, опять есть станем, – и прочее тому подобное, по доморощенному складу, уменью и досужеству.
Мужикам почему-то весело становится от этих шуток. Булыня смекает свое: берет балалайку и пляшет; бросает балалайку – дергает на гармонии и своей веселостью увлекает всех, но опоминается вовремя. Вскакивает с полу, на котором стлался вприсядку, и задает громогласный вопрос:
– Эхма-хма! Денег-то тьма: кого бы, братцы, угостить из вас?
Желающих, разумеется, много; но избранный, лучше – намеченный, один какой-нибудь Егор косолапый, которого и хватает булыня в охапку и тащит к стойке, зная, что этот мужик побогаче прочих: не одни гоны засевает льном и яровыми и, не довольствуясь своею, кортомит чужие земли. Мужик этот, что называется, идет в гору и торговлю смекает, да и не прочь в сделку втянуться. А и втолковать ему что, за стаканчиком водки, – нехитрое дело для привычного человека.
– Сколько ты ноне гонов-то засеял? – спрашивает прямо булыня мужичка, уже порядочно подрумянив его.
Мужичок отвечает.
– А почем продавать думаешь?
– Да каков уродится! – отвечает мужичок. – А ты каким манером покупать норовишь?
– Много засеял – так и сырым возьмем… на пуды, пожалуй, и с посконью купим, нам все едино на брак – в биржевое дело пойдет, сам ты, умная голова, знаешь!..
– Обчесать-то бабам велишь али сам будешь?
– Да коли ранним делом зададутся – отрепли только, расчешут и на хозяйских шофах!..
Мужичок соглашается и на это, потому что он рад продать, а в рабочих руках у него на дому нет недостатка. Наконец доходит дело и до цен. Булыня, как знаток своего дела, спешит уверить мужичка, что по ономняшным ценам покупать несходно, хоть сам-де на базарах справься, да еще кто знает, каков будет урожай и каков задастся лен в учесе: перед хозяином-де отвечает мошна и спина его, булыни, а не продавцова. Покупаем-де на веру, и то потому только, что знаешь хорошего человека да хочешь от сердца помочь ему, когда нужда приспеет, – на том-де стоим.
Долго они, по обыкновению, не сходятся в цене; но хмель не свой брат, улещанья булыни сахаром обсыпаны. Краснобай этот так мягко выстилает и уснащивает, что мужику уже стыдно даже и за угощенье, полученное им на чужой счет. Он соглашается и берет задаток. Задаток пригодится ему на подушный оклад, на оброчную статью, глядишь – лошадь замоталась, зачахла от волчьего зубу или закаталась от чемеру, а время подойдет к тому, что снопы придется свозить с поля. Залишняя деньга мужичку и тут подмога. Он бьет по рукам с булыней, запивает с ним слитки и идет повестить домашних о продаже.
Едва только бабы успеют к осени выщипать лен, булыня идет опять наведываться: сначала, по обещанию, к бурмистру или старосте, а потом и к задаточным.
– Веди его, бабы, в поле: покажи, что за лен выдался!
Здесь сметливый и привычный булыня уже по корню судит о достоинстве закупленного товара: гол корень – волоть плоха и лен плох задастся в учесе, даст много в оческе негодных пачесей. Если корень мохнат и с усиками – лен будет и мягок и ловко потянется в нитку, не будет сечься. Эти сведения необходимы для торговца при производстве будущей расплаты, равно как и то, чтоб не израстался он выше десяти вершков в стебле, не текло бы семя само по себе еще на корню да не выбили бы его бабы прежде урочного срока отдачи в хозяйские руки.
Булыню не обманешь: он знает, на сколько с пуда кудели выходит фунтов семян, и даже смекнет, пожалуй, на сколько обивается в то же время кострики. Одним словом, не надуют бабы булыню, не надул бы он их при расплате, когда он не прочь толковать и о том, что лен весок оттого, что не той чистотой трепан, много мочен, плохо сушен, кострика мало бита. В этом торгаш – настоящий алтынник, крохобор, кулак-надувало, который к тому же имеет еще и заручку с самой главной стороны. Расплата никогда не обходится без ссоры, но ее умеет русский человек заливать легко и дешево и забывает скоро.
«Не я первый, не я и последний! – думает мужичок. – А все оттого, что к бабьему делу свой мужичий разум приспособил; вон в кузовьях либо в яровых меня не надуешь!.. На том, стало, и стоим!.. Поди, бабам еще хуже достается. С моего гроша не разбогатеет, да и я не обеднею. Господь с ним и с бурмистром-то!» – утешает себя мужик и опять не прочь сойтись в сделке с булыней, который, забравши на воза весь товар, свозит его к хозяину-доверителю.
Здесь – в доме доверителя – делается в урочное время общая сходка, или склик, всех его булыней-приказчиков. Свезенный с разных концов уезда лен в сырье и часто в нитках передается воротиле – главному приказчику, который к весне и свозит его на ближние биржи или продает оптом на фабрики скупщикам. Из валовой цены делается расчет – в руку – за все убытки, получаемые им при покупке и перевозке к хозяину, который довольствуется небольшими процентами на выданную сумму для купли. Эти проценты при большом хозяйстве, конечно, бывают весьма значительны и дают возможность главному булыне заводить у себя на дому ткацкие станы и мало-помалу фабрику для выделки посконных полосушек, понитков, портнин, равендуков, новин, холстов, пестряди и пр. Была бы только охота по этому делу да знакомство и уменье держать в руках закупней.