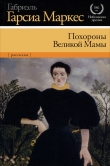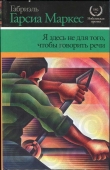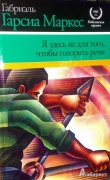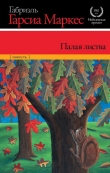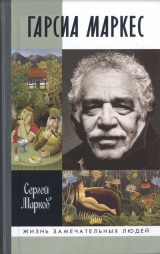
Текст книги "Гарсиа Маркес"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
– Не с таким восторгом, как «Сто лет». Но хорошо. А что?
– У нас в Латинской Америке отношение к «Осени» было неоднозначное. Многие критики сочли роман вычурно барочным и перегруженным гротеском.
– А у нас, я бы сказал, наоборот. Но ведь не только со Сталина он писал диктатора.
– Конечно, и с наших родных, но к вашему Сталину у него был интерес особый. Ещё в сороковых годах он опубликовал очерк об Иосифе Пуришкевиче…
– Ты не путаешь, Мину? Отдаёт глупейшими американскими фильмами о нашей жизни!
– Точно тебе говорю – очерк об Иосифе Пуришкевиче! В сороковых он жил в Англии. А до 1917 года был в ссылке в Сибири, где ему доводилось брить Сталина. Этот парикмахер, как писал Маркес, держал бритву на горле истории!
Показав Мину Мирабаль не только ВДНХ, но и Кремль, и Красную площадь, с посещением, естественно, Мавзолея В. И. Ленина («очень даже симпатичный нестарый мужчина»), Арбат, всю Москву с площадки обозрения перед МГУ на Ленинских горах, Новодевичий монастырь, я привёл её «для интереса» в магазин «Берёзка» напротив входа на Новодевичье кладбище.
– А почему напротив кладбища? – удивилась она.
Отметив, что ассортимент приличный, почти как в магазине на Западе, она стала расспрашивать о системе оплаты товаров в «Берёзках». Я пытался ей объяснить, но, думаю, она не сумела вникнуть в тонкости различий между чеками Внешпосылторга, которые прежде назывались сертификатами и различались по цвету полосок на купюрах, то есть по достоинству в зависимости от того, заработаны ли «советскими специалистами» (в эту категорию входили все, от преподавателей, инженеров и спортсменов до воинов-интернационалистов) в капстране или соц – соответственно, и купить можно было более или менее качественный, «фирменный» товар.
– А-а! – чему-то обрадовалась Мину и даже хлопнула в ладоши. – В романе «Сто лет одиночества» помнишь? Пароходы банановой компании приходили в Санта-Марту, нагружались бананами и везли их в Новый Орлеан, а на обратном пути шли порожняком. Решили возить товары для магазинов, принадлежавших компании, а рабочим платить не деньгами, а чеками, бонами, за которые они бы покупали в этих магазинах товары, ввозившиеся компанией, на её же судах. И, кстати, дедушка Габо, полковник, получал эти чеки, у них на столе дома всегда были дефицитные продукты. Рабочие же потребовали, чтобы платили деньгами. Началась забастовка, правительство прислало войска. Рабочие собрались на станции – солдаты окружили их, началась бойня.
– У нас, думаю, бойни по поводу «Берёзок» не начнётся.
– Напрасно! Мне Маргарет, предсказательница Фиделя, предрекшая ему ещё четверть века правления Кубой, сказала, что через несколько месяцев к власти у вас придёт меченый, человек с родимым пятном на лбу, и всё будет иначе!
Из очерка «СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы»:
«Когда он умер, ему было больше семидесяти, он был совершенно седой, появились признаки физической изнурённости. Но в воображении народа Сталин имеет возраст своих портретов. Они донесли его вневременное существование даже в самые отдалённые уголки тундры. <…>
„Должно пройти много времени, прежде чем мы поймём, кем же в действительности был Сталин“, – сказал мне молодой советский писатель». Имени этого писателя Маркес не назвал, сказал лишь, что тот был его ровесником и родом из Средней Азии.
В мае 2007 года в самолёте «Аэрофлота», следовавшем по маршруту Брюссель – Москва, автору этих строк довелось беседовать с Чингизом Айтматовым, замечательным писателем, долгое время работавшим послом СССР, а затем Киргизии в странах Бенилюкса. И Айтматов, в частности, вспоминал, что ровно полвека назад, в 1957 году, учился в Москве на Высших литературных курсах и во время молодёжного фестиваля в Москве встречался с молодым колумбийским журналистом и начинающим писателем Габриелем Гарсиа Маркесом, никому тогда ещё не известным. Они долго проговорили – о Фолкнере, Ремарке, Хемингуэе, о русской, советской литературе, о сталинизме, о XX съезде компартии, об отношениях художника с властью… Естественно, откровений особых быть не могло. Но Айтматов запомнил встречу на всю жизнь (не исключено, конечно, что память «подогревала» и последовавшая всемирная популярность Маркеса, его Нобелевская премия).
– Это удивительно, – глядя через иллюминатор на терракотовые перед восходом солнца облака, степенно, философски отвечал на вопрос об общности литератур Чингиз Торекулович. – Родились мы в один год на противоположных концах земного шара. Но много общего. Может быть, век объединил? Да и в корнях, в истоках общее… Вот живу, работаю, езжу по миру и всё больше прихожу к выводу, что именно и только слово – это суть человеческого бытия. То есть в человеческой сущности, в человеческом бытии нет ничего, что могло бы быть помимо слова: любое действие, любое открытие, любое движение, любой поступок для человека идёт через слово. И только так продолжается осмысление сути жизни и освоение всей Вселенной. Я много думал об этом. Размышлял о древнейших акынах наших краёв. А акыны – это поэты-импровизаторы. В детстве часто приходилось слышать великих акынов. И ещё личный момент: мне Бог послал замечательную бабушку, сказки могла рассказывать с утра до вечера…
– И у Маркеса была замечательная бабушка!
– И лёд, с которого «Сто лет одиночества» начинается, помните, дед взял внука посмотреть на лёд. Я был корреспондентом «Правды» по Киргизии. И ко мне в гости приехал индийский журналист. Я повёз его показывать деревню, где когда-то жил с бабушкой. Мы вышли из поезда на станции, индус вдруг говорит: «Чингиз, я хочу туда». – «Куда?» – «Вон туда, где снег. Хочу его потрогать…» Он никогда не видел вблизи и не трогал снега! А в горах снег – это жизнь, это реки, это вода для пастбищ, это дороже золота… И столько мальчишеского восторга было в огромных чёрных индусских глазах!.. И ещё, помню, Маркес всё о Сталине расспрашивал, что, как да почему, сравнивал с латиноамериканскими диктаторами и уверял, что Сталин более масштабен и ярок и нигде народ так не любил и не любит своих диктаторов, как у нас, в СССР. Мы, молодые советские писатели, журналисты, художники, жившие и буквально дышавшие ещё историческим докладом Хрущёва о культе личности, с этим не могли согласиться…
«…Сталин никогда не выезжал за пределы Советского Союза, – утверждает (ошибочно, конечно. – С. М.) в очерке Маркес. – Он умер в уверенности, что московское метро – самое красивое в мире. Да, оно хорошо действует, удобно и очень дёшево. В нём невероятно чисто, как и повсюду в Москве: в ГУМе бригада женщин целый день протирает лестничные перила, полы и стены, которые пачкает толпа. То же самое в гостиницах, кинотеатрах, ресторанах; но с ещё большим усердием это делается в метро, сокровище города. На деньги, истраченные на его мрамор, фризы, зеркала, статуи и капители, можно было бы частично разрешить проблему жилья. Это апофеоз мотовства…»
Но всё-таки московское метро молодым латиноамериканцам понравилось. Маркес потом рассказывал о нём Кортасару, который поведал об этом мне:
– Он не запомнил названий станций, сказал, что метрополитен носит имя Ленина, а станции – имена Маркса, известных анархистов и большевиков. Гости молодёжного фестиваля могли ездить в метро бесплатно, Маркес спускался под землю, как только появлялась возможность. У вас там ни одна станция не похожа на другую. Он ездил от центра, от Красной площади, как я понимаю, до окраин, ездил и по кольцевой, выходил, где понравилось. Говорил, что некоторые станции – настоящие галереи или музеи, с витражами, мозаичными панно, скульптурами! И утверждал, что моё любимое парижское метро, в котором происходит действие нескольких моих рассказов, не выдержит сравнения с московским, что я обязательно должен побывать в Москве и провести в метро по крайней мере день, спуститься на эскалаторе на станцию, где всё отделано сталью и где во время войны с Гитлером находилась ставка Сталина.
– «Маяковская», – предположил я.
– Я всегда говорил, что мог бы жить в метро, если бы там было побольше кафе и туалетов. Маркес сказал, что если и жить в метро, то он бы предпочёл в московском, хотя там, кажется, нет туалетов. Рассказывал, как, надувшись пива в центре, у Кремля, поехал на метро в гостиницу, а езды было около часа, и насилу вытерпел, чтобы не справить нужду прямо посреди огромного, сверкающего мрамором зала!
– А было бы забавно, – заметил я. – Мемориальную табличку бы повесили: мол, здесь будущий лауреат Нобелевской премии…
– Он говорил, что ни в одном городе мира метро не населено столькими тенями и голосами прошлого… В тридцатых годах я жил в Буэнос-Айресе и помню, с каким восхищением газеты, вовсе не питавшие нежных чувств к коммунизму, писали о строительстве московского метро. Не исключено, что с подачи сталинской пропаганды. Кстати, Маркес, соглашаясь со мной, что в метро, как в музыке, особенно в джазе, время идёт по-своему, заметил, что в московском метро – особенно. Сразу – и прошлое, и настоящее, и будущее. За двадцать минут оказываешься за много километров, в другом конце огромного города! И где-то по подземным ходам, ведущим из Кремля и пересекающимся с линиями метро, идут опричники Ивана Грозного, по засекреченному тоннелю едет в свою тайную резиденцию Сталин, хотя на самом деле лежит в Мавзолее!.. – Огромные глаза Кортасара сияли восторженно, как у ребёнка, пересказывающего фантастическую сказку. – И три-пять минут между станциями могут растянуться на десятилетия!..
…Однажды во время фестиваля Маркес опоздал в метро. Была тёплая августовская ночь, в лужах после короткого дождичка поблескивали редкие огни. Он не спеша пошёл в предполагаемом направлении гостиницы, всё ещё восхищаясь тем, что в таком огромном многолюдном и многонациональном, то ли европейском, то ли азиатском городе можно вот так просто, безбоязненно разгуливать среди ночи. Но полчаса спустя понял, что идёт не туда, и на каком-то проспекте увидел девушку.
«Она несла целую охапку пластмассовых черепашек, в Москве, в два часа ночи! – и она посоветовала взять такси. Я, как мог, объяснил, что у меня только французские деньги, а фестивальная карточка в это время не действует. Девушка дала мне пять рублей, показала, где можно поймать такси, оставила на память одну пластмассовую черепашку, улыбнулась – и больше я её никогда не видел. Два часа я прождал такси: город, казалось, вымер. Наконец я наткнулся на отделение милиции. Показал свою фестивальную карточку, и милиционеры знаками предложили мне сесть на одну из стоявших рядами скамеек, где клевали носом несколько пьяных русских. Милиционер взял мою карточку. Через некоторое время нас посадили в радиофицированную патрульную машину, которая в течение двух часов развозила собранных в отделении пьяниц по всем районам Москвы. Звонили в квартиры, и только когда выходил кто-либо, внушающий доверие, ему вручали пьяного. Я забылся в глубоком сне, когда услышал голос, выговаривающий моё имя правильно и ясно, так, как произносят его мои друзья. Это был милиционер…»
По-разному восприняли фестиваль Габриель и Плинио. Вот итоговые впечатления энергичного, хваткого репортёра Мендосы, которые, в отличие от очерка Маркеса, были, что называется, «с колёс», сразу по возвращении на родину, опубликованы:
«Поездку в СССР я вспоминаю как вереницу утомительных, жарких, липких дней, проведённых в атмосфере ярмарки, беспрерывного народного гулянья. На улицах, площадях, в парках, в колхозах мы постоянно были окружены толпами людей, которые разглядывали нас с головы до ног. С каким-то первобытным любопытством нас засыпали со всех сторон вопросами, всем хотелось непременно потрогать нас, будто для того, чтобы убедиться, что мы не существа с другой планеты. Нам казалось, всё, что мы там видели, слышали, обоняли и осязали, было создано специально для того, чтобы опрокинуть наши самые простые, казалось бы, представления о западном индивидуализме, о праве на частную жизнь, в соответствии с которым каждому полагается иметь в отеле отдельный номер, ежедневно принимать ванну или хотя бы душ, в кафе или ресторане сидеть за столиком для одного, максимум для двоих, но не разделять трапезу с десятком других, совершенно незнакомых индивидуумов и терпеть за столом или в номере их юмор, хохот, чавканье, отрыжки, полоскание рта, храп и прочие пусть и вполне естественные, но малоприятные физиологические отправления и звуки…»
Маркес также на всё это обращал внимание. Но его интересовали в большей степени не бытовые условия. «У меня профессиональный интерес к людям, и думаю, нигде не встретишь людей более интересных, чем в Советском Союзе», – признался он.
Два дня друзья пробыли в Сталинграде. «Гигантское изваяние Сталина возвышается у входа в Волго-Донской канал, – писал Мендоса. – Возможно, оно даже выше статуи Свободы. Каменной рукой, вытянутой над великой Волгой, Сталин как бы указывает путь своей древней, необозримой, загадочной стране».
После московского фестиваля друзья разъехались: Мендоса – в Польшу, Маркес – в Венгрию, куда отправился в группе политических обозревателей крупнейших газет Европы. (Опять стоит отметить пробивную способность нашего героя – обманным путём получив визу в СССР и побывав на фестивале, теперь он сумел оказаться в группе ведущих журналистов, официально приглашённых в Венгрию.)
В вагоне-ресторане разговорились с солидным журналистом, представившимся Морисом Мейером из Бельгии. Мейер прошёл три войны, начиная с гражданской в Испании, где выпивал с Хемингуэем, говорил по-немецки, по-английски, по-испански, знал положение дел в Венгрии. Он признался, что Габриель из всей компании ему понравился больше всего, и предложил держаться вместе. Маркес не возражал и по журналистской привычке принялся расспрашивать бывалого коллегу. Мейер за чаем с коньяком высказал опасение, что командировка им предстоит нелёгкая, шагу не дадут ступить без присмотра, ничего толком не покажут, потому как «ничего не ясно».
Первым делом в Будапеште наш герой приобрёл на толкучке (распродавались по дешёвке товары из разграбленных магазинов) прекрасную австрийскую пишущую машинку и приличный плащ. Вообще Будапешт поначалу ему понравился. Начиналась тёплая солнечная осень со звёздными ночами, с лёгкой дымкой по утрам над Дунаем, сквозь которую проглядывала покрытая зеленью, уже чуть тронутая золотисто-пурпурными штрихами Будда, и в каком-то неясном, томном оцепенении пребывал Пешт. И не хотелось верить в то, о чём тут и там, боязливо озираясь, рассказывали мадьяры западным журналистам.
– На фонарях вот этой улицы Нэпкёстаршашак, на всём её протяжении, до самой площади Героев, вешали, – показывали жители Будапешта. – И родным не давали снимать тела – стреляли, а то, бывало, и вздёргивали рядом с мужем, братом, сыном…
Но перенесёмся из Будапешта-57 в Москву-77. Дмитрий Бальтерманц, выдающийся советский фотохудожник, тогда заведующий отделом фотоиллюстраций журнала «Огонёк», в котором автор этих строк начинал разъездным корреспондентом, первым делом порекомендовал мне, ещё студенту факультета журналистики, засесть в библиотеке за подшивки, чтобы понимать, «куда пришёл трудиться». И обратил моё особенное внимание на специальные выпуски нескольких лет, в том числе 1941-го, 1945-го, 1953-го (номер, посвящённый похоронам Сталина), 1956-го (посвящённый событиям в Венгрии)… Листая журналы с фоторепортажами из Будапешта, я был изумлён. Я не предполагал, что можно так снимать, что в официозном нашем журнале могли такое – трое мужчин в шляпах и галстуках деловито вешают на фонаре четвёртого, обнажённый труп чекиста в луже крови с воткнутым в глаз ножом, на брусчатке десятки казнённых… – публиковать. Бальтерманц заверил, что всё – правда, нет ни единой постановочной фотографии. Потом их перепечатывали в других странах. Нельзя исключить, что и Маркес их видел и, несомненно, читал репортажи о венгерских событиях с «той» и «этой» стороны.
Главным борцом с коммунизмом и реформатором в 1956 году в Венгрии стал Имре Надь. В Первую мировую он воевал в составе австро-венгерской армии, в 1916-м попал в плен, в 1917-м вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков), в годы Гражданской войны сражался в Красной армии, был принят на службу в ОГПУ. Был профессиональным стукачом – сообщал органам о деятельности соотечественников-венгров, нашедших убежище в Советском Союзе, занимался «чисткой» Коминтерна, когда были репрессированы Бела Кун и ряд других венгерских коммунистов. С 1941 по 1944 год работал на московской радиостанции Кошут-радио, которая вела трансляцию на венгерском для жителей Венгрии, бывшей союзницей Германии. Вернувшись после войны на родину, Надь занимал пост министра внутренних дел, проводил зачистку Венгрии от «буржуазных элементов», в лагерях оказалось огромное количество высших военных и гражданских чинов страны. В СССР умер Сталин, началось развенчание «культа личности». Венгры требовали такого же расчёта с прошлым, который начал Хрущёв знаменитым антисталинским докладом на XX съезде компартии. Надь спровоцировал гражданскую войну – выйдя из компартии и объявив её вне закона, распустив органы госбезопасности и потребовав немедленного вывода советских войск. Фактически сразу после этого началась бойня – коммунисты вступили в схватку с «националистами» и бывшими хортистами. По Будапешту прокатилась волна самосудных казней. Были введены советские части с приказом огня не открывать. Начались убийства советских военнослужащих и членов их семей (были убиты более четырёхсот человек). Пойдя навстречу требованиям Надя, советские войска были выведены из Будапешта. На следующий же день на площади Республики толпа расправилась с сотрудниками госбезопасности и горкома партии: они были повешены на фонарных столбах головой вниз. СССР вновь ввёл войска. Янош Кадар (министр в кабинете Надя), клявшийся, что «ляжет под первый русский танк», по установке Хрущёва из Москвы занял посты премьер-министра и лидера Венгерской социалистической рабочей партии.
Две недели Маркес провёл в Венгрии. Нередко ему вместе с опытным конспиратором Мейером удавалось отрываться от сопровождающих, переводчиков в штатском, коих бывало временами до полутора десятков человек на девять журналистов делегации.
Однако в написанном им после поездки очерке «Я побывал в Венгрии» (1957) нет и попытки разобраться в сути событий, есть лишь яркое (как всё, выходившее из-под его пера) описание, констатация. Впрочем, должно быть, наш герой и не ставил перед собой задачу досконально проанализировать всё, что произошло в Венгрии, тем более что и по сей день историками и политиками даны ответы далеко не на все вопросы.
«Десять месяцев спустя после событий, которые потрясли мир, – писал Маркес, – один из самых красивых городов мира – Будапешт остаётся полуразрушенным. Многие километры трамвайных путей не восстановлены. Толпы плохо одетых людей, подавленных, озлобленных, мрачных, часами и даже ночами напролёт выстаивают в нескончаемых очередях, чтобы купить предметы первой необходимости. Многие магазины были разорены, разграблены и разрушены и теперь стоят в строительных лесах. Несмотря на ужасные репортажи в западной прессе, я всё-таки не верил, что город пострадал так сильно. Уцелело по сути лишь несколько самых больших зданий. Как я узнал, в них укрывались венгры, которые четыре ночи и четыре дня вели бой против русских танков. Тогда в Венгрию вошло восемьсот тысяч русских солдат… Однако венгры оказывали героическое сопротивление, таких боёв здесь не было даже во время Второй мировой войны. Дети забирались на танки и бросали внутрь бутылки с „коктейлем Молотова“ и просто горящим бензином или керосином. Венгры, которых я видел на улицах, в трамваях, в магазинах, в кафе, на бульварах, на набережных, которые в мирное время не уступят парижским, в парках острова Маргарита, не верят правительству, а также его гостям… На улицах, в скверах, у гостиниц и днём огромное количество проституток, от зрелых, даже пожилых женщин до совсем молодых девушек, почти девочек, которые, как и положено, берут вперёд, цена – пять форинтов, то есть полдоллара, но можно сторговаться и за меньшие деньги… Полиция не в состоянии контролировать положение в городе, люди загнаны, как звери, живут без всяких надежд на будущее… Никто не желает работать на урановых рудниках в СССР… Великое множество судов Линча, самосуда – стихийной расправы над агентами тайной полиции, что привело к ликвидации сорока двух процентов её личного состава. <…> Члены университетского объединения студентов-марксистов, продолжающих оставаться марксистами, но выступающих против Яноша Кадара, свою позицию объяснили нам так: „Мы изучали Маркса и Энгельса по первоисточникам и являемся марксистами. Но мы принимали активное, в том числе и боевое, участие в прошлогоднем октябрьском восстании, потому что одно дело – истинный марксизм и совершенно иное – русская оккупация и политика террора“… Заборы, стены домов, постаменты памятников заклеены листовками, в которых, видимо, даётся верная характеристика ситуации в Венгрии. Цитирую лишь цензурные: „Кадар – русская легавая!“, „Кадар – убийца народа!“, „На виселицу кровавого палача Кадара!“…»
Вернувшись в Париж, Маркес встретился с Тачией, приехавшей из Мадрида, – в кафе на бульваре Сен-Мишель. Они поговорили, решили, что надо разойтись по-хорошему, по-французски, пошли в ближайшую дешёвую гостиницу, переспали и расстались навсегда. («После разрыва с Габриелем, – вспоминала Тачия, – я три года не могла прийти в себя – истерзанная, озлобленная, одинокая…») Плинио звонил из Каракаса, спрашивал, что случилось, уж не поездка ли в СССР сыграла роль. Маркес отвечал, что просто не может больше быть мосо-де-эстокес, слугой, оруженосцем матадора, который подаёт мулеты и шпаги. И ещё сказал, что соскучился по их родной Латинской Америке.
Всю осень Маркес отписывался, как говорят журналисты, за летние путешествия, надеясь отдать долги Джоан, мадам Лакруа, Тачии… Очерки, которые он тогда написал в Париже, составят книгу «О путешествии по социалистическим странам». Они интересны, динамичны, в них много острых наблюдений, мыслей. Позже Маркес включал эти очерки в собрания сочинений, и через десятилетия не отрекаясь от написанного (что случается далеко не со всеми писателями, начинавшими с журналистики).
Но не сразу Маркесу удалось опубликовать материалы. Хотя сейчас трудно понять, чем и кому были неугодны те очерки с «говорящими» заголовками: «„Железный занавес“ – это полосатый, красно-белый шлагбаум». Или «Для чешки нейлоновые чулки – роскошь». Или «Экспроприируемые встречаются, чтобы потолковать о напастях». Или «Берлин – это абсурд». В том же духе называли статьи о «загнивающем» Западе и наши международники «Правды», «Известий».
В ноябре 1957 года усердиями Плинио в венесуэльском журнале «Эль Моменто» в сокращённом виде, но всё же были опубликованы репортажи «Я был в России» и «Я посетил Венгрию». Неожиданно и гонорары за них оказались приличными, так что Маркес частично рассчитался с долгами и, надеясь и на гонорары из газеты «Индепендьенте», решив «подтянуть английский», укатил в Лондон.
Но в «Индепендьенте» очерки не были опубликованы. Эдуардо Саламея, журналист почти коммунистических убеждений, прочитав написанное другом Габо, счёл, что публикация не только не послужит делу укрепления левых сил Колумбии, но нанесёт по ним, и без того слабым, удар.
Поначалу Лондон восхитил. В первый, солнечный, тёплый день, растерявшись среди непривычных указателей и огромных, явно для плохо соображающих иностранцев надписей на асфальте «LOOK RIGHT», едва не угодив под огромный красный двухэтажный омнибус, он взял такси, называемое кебом. С тем, дабы солидному, прилично оплачиваемому журналисту-международнику с ветерком прокатиться по столице великой империи, над которой «никогда не заходило солнце». Разговориться с кебменом – как с любым, практически, таксистом в Риме, Париже, Женеве или Москве – не удалось. Поглядывая по сторонам, начиная исподволь ощущать, что попал в «зазеркалье» Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в стране чудес», но пока не отдавая себе в этом отчёта, Маркес обратил внимание на прайс-лист кеба, привинченный медными шурупами напротив пассажирского сиденья: «1. Согласно привилегии 1864 года кебмен имеет право отказаться везти пассажира, если предложенное направление поездки не соответствует его интересам. 2. Стоимость посадки – 5 шиллингов 24 пенса, включая 1 милю и 240 ярдов. 3. В дальнейшем – по 3,5 пенса за каждые 128 дополнительных ярдов…»
Маркес рассмеялся, чем немало озадачил кебмена. Расплатившись, наш герой вышел у станции «Waterlow». По Вестминстерскому мосту перешёл на другую сторону Темзы, разглядывая Биг-Бен, осмотрел Вестминстерское аббатство, Парламент, по Дерби-гейт вышел на набережную Виктории и прошагал до моста, знакомого по кинокартине «Мост Ватерлоо». Там, любуясь видами, выкурил сигарету, свернул налево и дошёл до Стрэнда, где заглянул в самый большой книжный магазин из тех, что ему доводилось видеть. Не удержавшись, купил сборник Вирджинии Вулф, в который вошли «Орландо», где герой превращается в женщину, «Между актами»… Вечером, невкусно поужинав на площади Сохо, Маркес понял, что долго здесь не протянет и что нигде не чувствовал себя таким одиноким и ненужным.
В тот вечер он прочитал в газете большой очерк о событиях на Кубе. О том, что вначале повстанцы не имели достаточной силы и не представляли опасности режиму Батисты, хотя и проводили отдельные операции, атакуя полицейские участки. Но данное Фиделем Кастро обещание земельной реформы и раздачи земли крестьянам обеспечило поддержку народа, движение стало наращивать силу, солдаты Батисты переходили на сторону Фиделя. Партизанские отряды были преобразованы в Повстанческую армию. По воспоминаниям соратников, точным выстрелом из снайперской винтовки Фидель подавал сигнал к бою, и нередко «этот высокородный выходец из богатой семьи, интеллигент-юрист с руками пианиста принимал участие в яростных рукопашных схватках»…
В дальнейшем, а пробыл Маркес в Лондоне больше месяца, чувства одиночества и ненужности усиливались и обострялись. Поселился он в четырёхметровой, без окна, каморке самого дешёвого отеля Южного Кенсингтона, рядом с Зоологическим, Ботаническим, Геологическим и Минералогическим музеями, в которые поначалу даже захаживал. На весь так называемый отель имелся единственный туалет с умывальником. У умывальника, как принято в Британии, было два крана – один для горячей, другой для холодной воды. Заткнув пробкой сливное отверстие, надо было наполнить раковину, добавить в смешанную воду мыла и умываться, не думая о том, кто и в каких целях использовал раковину до тебя. Но чаще вода отсутствовала или из обоих кранов хлестала ледяная или кипяток. Денег не было не то что на авиабилет, но даже на ботинки, в которых возникла необходимость: от левого из той единственной пары, в которой Маркес прибыл в Лондон, ещё в первый день в Британском музее отвалилась подошва, и её приходилось приклеивать, а когда денег не стало и на клей, прикручивать проволокой.
Неоднократно на улице его останавливала полиция, но, проверив паспорт, отпускала. Однажды, когда он присел на Пиккадилли, чтобы замотать на башмаке проволоку, немолодая женщина подала милостыню – три шиллинга. Улыбнувшись ей в ответ, он спросил по-английски, откуда она. Оказалось, эмигрантка из России. Он поинтересовался, не знакома ли она с парикмахером Иосифом Пуришкевичем, который брил Сталина, но женщина улыбнулась, как улыбаются душевнобольным, и ответила: «Таких не бывает».
Солнечные, безветренные дни он проводил в парках, которых оказалось в Лондоне на удивление много и очень красивых. В них, например, неподалёку от «Уголка ораторов» в Гайд-парке, послушав выступающих и мало что поняв, продолжая выплетать сюжеты, ситуации, образы, диалоги из «Дома», он писал рассказы, повесть «Недобрый час». Но чаще той осенью и особенно в декабре шёл дождь с мокрым снегом, дул ветер с Атлантики, утробное леденистое дыхание которой ощущалось повсеместно.
С тоской он вспоминал завтраки мадам Лакруа, ланчи Джоан, поздние баскские ужины Тачии, перетекавшие в завтраки, и особенно советские фестивальные обеды с борщом, котлетами, севрюгой, красной и чёрной икрой. Подсчитав оставшиеся фунты и пенсы, он понял, что даже если станет отказывать себе во всём, то дотянет лишь до Нового года. Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей и не всё время думать о еде, он погружался с Алисой «в страну чудес». Читал Вирджинию Вулф, проза которой здесь, на её родном Альбионе и родном английском языке, особенно отличается, как потом вспоминал, «фантастическим, невероятно острым ощущением мира и всех вещей, наполняющих его, конкретных, реальных секунд, минут, часов, дней, но вместе с тем – и сохранённый слепок целой вечности». Ему нравились её афоризмы. «Большие сообщества людей – существа невменяемые». «Женщина веками играла роль зеркала, наделённого волшебным и обманчивым свойством: отражённая в нём фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины». «Самая сильная позиция – это позиция умершего среди живых». «У каждого человека есть своё прошлое, укрытое в нём, как страницы книги, известной только ему; а его друзья судят лишь по заглавию». Но с особым, садомазохистским каким-то наслаждением он перечитывал теперь мысль о писательстве и писателях, понимая, что сам не состоялся: «Я заработала первой рецензией один фунт десять шиллингов и шесть пенсов и на эти деньги купила персидского кота. А потом меня разобрало честолюбие: кот это, конечно, очень хорошо. Но кота мне мало. Я хочу автомобиль. Вот так я и стала романисткой».
Бродя под дождём, Маркес, быть может, замечал, как верно описывал Лондон Диккенс. Изводило его в Лондоне и отсутствие крепкого табака: последние деньги уплывали на французские сигареты «Голуаз». Но, несмотря на невзгоды и мытарства (в этом весь молодой Маркес – неимоверная сила воли!), он писал, и много. «Большая удача, если ты оказался в городе, где по непонятным причинам пишется особенно хорошо… где можно закрыться в номере и воспарить в табачном дыму… За месяц я написал там почти все рассказы „Великой Мамы“».
Написал он там и яркий, с английским юмором очерк об англичанах. «Приехав в Лондон, я поначалу думал, что англичане на улицах разговаривают сами с собой. Потом я понял, что это они извиняются. В субботу, когда весь город стекается на Пиккадилли-Серкус, шагу невозможно ступить, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Посему на улицах стоит гул, все жужжат: „Sorry“. Из-за тумана об англичанах я вообще не имею представления – знаю только их голоса… Наконец в минувшую субботу – в свете солнца – я впервые их увидел. Они все что-то ели, шагая по улицам».