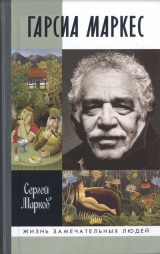
Текст книги "Гарсиа Маркес"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Маркес пожалел о том, что в Италии уделял недостаточно внимания изобразительному искусству, которое перекликается с литературой и способно многое подсказать. Он даже ненадолго вернулся к увлечению отрочества – рисованию. Подвигла, правда, и нужда, в которую сполз незаметно, как-то по-парижски изящно, когда вокруг приятели и приятные знакомые, с которыми сошёлся накануне в компании, угощающие сигаретой, чашкой кофе с круассаном или стаканчиком доброго анжуйского или девицей с Пигаль…
Плинио улетел в Каракас, где скрывались от преследований диктатуры его родные. Вскоре Маркес получил письмо, в котором друг, помимо описания Венесуэлы и самых красивых девушек, сообщал, что в Каракасе появилось больше времени, и он начал публиковаться в журналах «Элита» и «Моменто», получая недурственные гонорары.
А у Габриеля наступила чёрная полоса. Однажды утром он вышел из дома, на перекрёстке бульваров Распай и Эдгара Кине купил «Монд», сел в кафе, чтобы, наслаждаясь жизнью парижского корреспондента, почитать газету за чашечкой душистого кофе, и прочитал, что в Боготе генерал Пинилья закрыл газету «Эль Эспектадор».
Вечером он сидел в студии архитектора Эрнана Вьеко.
– И что же теперь делать? – прокуренным голосом спрашивала Джоан, по-армейски коротко стриженная, в свободном, грубой вязки свитере а-ля Хемингуэй. – На что ты будешь жить, чико? Надо ведь не только питаться, но и за комнату платить…
– Надеюсь на снисхождение милой хозяйки отеля.
– Милой? Спишь с ней? Господи, ты романтик, Габито! Надо быть жёстче, Париж только с виду такой романтичный. Он беспощаден и принимает лишь прагматиков и циников.
Пятнадцатого февраля Маркес получил телеграмму с сообщением о том, что в Боготе вместо упразднённой «Эль Эспектадор» начинает выходить многополосная газета с отважным в условиях диктатуры, как представлялось из Европы, названием «Индепендьенте» («Независимая»). Главным редактором стал журналист, писатель, политик Альберто Льерас Камарго. Это известие обрадовало Маркеса. Он засел за репортаж, который максимально растягивал (гонорары начислялись постранично), и превратил, как это часто у него бывало, в большой очерк или даже повесть «о французских тайнах». Этот очерк о коррупции в верхах публиковался в «Индепендьенте» с 18 марта по 5 апреля 1956 года и вызвал у бывших читателей «Эль Эспектадор» разочарование: тайн не раскрывалось, было больше «воды». В редакцию стали приходить письма: «Куда делся сам Гарсиа Маркес?!»
«Думается, „Процесс по делу о французских тайнах“ – один из немногих, если не единственный откровенно плохой репортаж, вышедший из-под пера Гарсиа Маркеса за всю его долгую блистательную карьеру журналиста… – считает Сальдивар. – Незнание языка, истории страны, непонимание политики правительства, менталитета, сути французского общества… Написан был репортаж для того, чтобы прокормиться».
День ото дня завтраки мадам Лакруа становились скуднее. Однажды он проснулся, как всегда, ближе к полудню и слонялся по фойе. Однако мадам к столу не пригласила. То же – на другое утро. В связи с тем, что на завтраках мадам можно было дотягивать чуть ли не до следующего утра, положение становилось угрожающим.
– Вы извините меня, Габо, – подчёркнуто перейдя на «вы», обратилась однажды мадам, – а за комнату вы платить не намерены? Прошло уже два месяца…
– Я заплачу, мадам! – порозовев от стыда, что случалось редко, заверил Маркес. – Даю честное слово.
– Я верю, Габриель. Если бы вы были, как ваши земляки из Латинской Америки, то мы бы с вами, извините, уже расстались. Хотя мне было бы жаль…
В Париже трудно жить впроголодь, как ни в одном, может быть, городе мира. Потому что всюду витрины с яствами, кафе, рестораны, brasserie (пивные). Расхаживают туристы, держа в руках длинные, продольно разрезанные батоны с беззастенчиво торчащей наружу красной ветчиной, сыром, зеленью, и жуют, глазея по сторонам. Отовсюду доносятся и неотвязно преследуют запахи еды.
Зимой ещё терпимо, потому как запахи распространяются не столь стремительно, не так сосёт под ложечкой. А на жующих за окнами кафе можно не смотреть, отвлекаясь на фасады с барельефами, памятники, церкви, модные автомобили или, что вернее всего, на красивых женщин, которых с голодухи кажется больше. А вот парижская весна – бич для голодающего. Пригрело солнце, влажно заблестели стволы платанов и лип, заворковали в сверкающих дымящихся лужицах горлицы – и официанты, будто сговорившись, взялись выносить столики, сужая тротуары, оставляя для прохожих тесные, как горлышко бутылки, проходы, делая неизбежным попадание в сферу, насыщенную запахами съестного.
Выходя из отеля, он машинально разрабатывал маршрут с наименьшим количеством кафе и продуктовых лавок. Не подозревая о том, что за тридцать лет до него точно так же поступал начинающий и голодающий в Париже Хемингуэй, впоследствии описавший эти уловки в «Празднике, который всегда с тобой». Маркес через много лет скажет, что, когда читал «Праздник», казалось, будто читает о самом себе.
Он посылал в редакцию «Индепендьенте» сигналы SOS с образными описаниями своего катастрофического положения. И каждый день ходил на почту, чтобы узнать, не прислал ли кто чего. Но ни денежных переводов, ни писем не было. Внуку деда-полковника, без гроша погибающему в Париже, никто не писал. А 15 апреля – он навсегда запомнил этот день – вместо чека на получение денег в банке пришло письмо из редакции без всяких комментариев с авиабилетом экономического класса Париж – Богота.
Два дня, бродя по городу, он размышлял над своей судьбой. На третий пошёл и обменял авиабилет на франки. Его чувство пути подсказывало, что он верно поступил, оставшись в Париже, но необходимо было сделать нечто такое, что докажет всем: он писатель.
«Когда был проеден последний франк из полученных за авиабилет, – читаем у Сальдивара, – Габриель стал собирать пустые бутылки, старые книги, журналы и газеты и сносил всё это барахло старьёвщику». Поддерживали друг друга в латиноамериканской студенческой колонии: если кому-то удавалось хоть что-то заработать или с родины приходил денежный перевод, и счастливчик покупал в лавке кусок мяса на стейк, то в придачу просил и косточку, чтобы товарищи смогли сварить бульон или ещё что-нибудь.
Джоан познакомила Маркеса с Хейсусом Сото, художником-авангардистом из Венесуэлы. Послушав, как Габо исполняет под гитару валленато, Сото предложил ему выступать дуэтом в ночном клубе «Эколь», где сам подрабатывал.
Голод привёл его и на площадь Холма, где художники пишут пейзажи и тут же, если повезёт, продают туристам. Вспомнив, что первые деньги заработал именно рисованием, Габриель попросил у Хейсуса этюдник и пришёл на Монмартр. До вечера он писал маслом с почтовых открыток виды Парижа. И ещё три дня упрямо приходил на площадь Холма и писал. Но никто даже взгляда серьёзного не задержал на его творениях, некоторые издевательски хихикали. Он уговорил грузную, с огненной гривой аргентинку попозировать, заверив, что сделает дивный портрет. Та, скорее из чувства латиноамериканской солидарности, присела на стульчик, терпеливо высидела полчаса, а когда увидела результат, в сердцах сплюнула и обозвала его мареконом (в переводе с испанского – педераст). Проведя целый день без еды, на ногах, ужасно устав, он уныло сложил манатки и спустился к ближайшей станции метро «Anvers», но вспомнил, что мелочь, остававшуюся в кармане, истратил вчера.
– Простите, – обратился к входящему в метро французу. – Вы не выручите меня десятью франками? Я художник…
– И зовут Модильяни? – ухмыльнулся его акценту француз, протягивая обмусоленный окурок. – Это твои проблемы. Понаехали тут художники…
И швырнул чуть ли не в лицо мелкую монетку.
В отеле «Фландр» ночевать он не мог – мадам Лакруа уехала навестить сестру в Лион, а в его комнату кого-то поселили. Шёл холодный дождь. Промокнув насквозь, натерев ногу, он брёл в сторону центра, присаживаясь на лавочки или ступени, и клевал носом. Знобило, мучил кашель. Он подходил к станциям метро, прижимался к решёткам и пытался отогреться. Появлялись полицейские, требовали предъявить документы, пару раз, приняв за алжирца, торгующего чем-то непотребным у метро, избивали. Он пытался объяснить, что не торгует, что журналист, писатель… На бульваре Бон-Нувель у станции метро «Strasbourg St. Denis» ему расквасили об колено нос и губы.
Однажды он занял у земляков несколько франков, чтобы сходить на фильм Трюффо. В тот вечер случилась полицейская облава, Габриеля избили, плюнули в лицо, затолкали в машину, набитую алжирцами, как сельдью бочка, отвезли в участок. За решёткой арестованные пели хором баллады Брассенса, звучавшие как революционные гимны.
Но порой голод способствовал и открытиям. Если ничего не есть день, два и пить только воду, наступает прояснение. По-другому начинаешь воспринимать окружающую действительность, которую день на шестой и особенно седьмой и действительностью-то в обычном понимании не назовёшь. Представляется всё ясным, проникновенным, прозрачным, будто рентгеновскими лучами просвеченным. И настоящим, каким, по-видимому, изначально, когда бытие ещё не определяло, не подменяло сознание, и было.
Ночуя у знакомых в Латинском квартале, как-то оказавшись во время мессы в древнейшей парижской церкви Сен-Жермен-де-Пре и стоя под сводами возле усыпальницы Декарта, он почувствовал в душе что-то новое, незнакомое, обращённое не к земному, а выше, быть может, даже к Всевышнему. Бродя по Парижу, листая книги на прилавках букинистов, слушая музыку, он обнаружил, что начал приближаться к пониманию истинного замысла и направленности вдохновения того или иного писателя, композитора, художника. И хотелось создать своё, такое, какого не было. Ибо на сытый желудок, чувствовал Маркес, человеку представляется, что всё открыто до него и остаётся лишь восхищаться, пользоваться, пожинать чужие плоды или, видоизменяя, выдавать за свои. А вот от голода чувства обостряются. И память. Живыми представали тётя-мама Франсиска и другие тётушки, бабушка Транкилина, которая в старости не раздевалась, если работало радио, ибо ей казалось, что те, чьи голоса она слышит, возможно, смотрят на неё, дед-полковник, окружающие их люди, которых Габриель знал совсем ребёнком или не помнил, но теперь будто обретающие плоть и кровь, каждый со своим норовом, голосом, странностями, своеобычностью… Сонм характеров!
А какие женщины являлись ему в голодных снах, да и наяву, когда вечерами выходил в город и бродил, чтобы устать, обмануть чувство голода и заснуть без сновидений!
Возможно, что именно в один из таких голодных вечеров он пошёл за мелькнувшим где-то впереди на Аустерлицком мосту изумительным силуэтом, напомнившим вдруг и первую любовь, и невесту Мерседес. Свернул на набережную Генриха IV, по бульвару Бурдон дошёл до площади Бастилии, пересёк её и вышел на бульвар Бомарше, переходящий в бульвар Тампль, пересёк площадь Республики, вышел на Сен-Мартен, затем пошёл по Сен-Дени и на перекрёстке с Севастопольским бульваром подошёл…
Их отношения, их странная любовь, расставания и встречи растянутся навсегда. Некоторые исследователи считают, что эта женщина могла бы сыграть главную роль в жизни Маркеса и судьба его сложилась бы иначе. Но в далёкой Колумбии ждала другая, чья фотография висела у него над кроватью во «Фландре», в воображении нашего героя-поэта в ту голодную пору – этакая Эннабел Ли, как у Эдгара По. Которая писала два-три раза в неделю и которой он столь же регулярно отвечал.
Незнакомка действительно была хороша и чем-то напоминала Мерседес. Но значительно выше его ростом. На ломаном французском он сказал что-то о погоде, о весне, располагающей к роскоши человеческого общения. Смерив его взглядом больших чёрных глаз, она на чистом кастильяно, классическом испанском, ответила, что если хочет познакомиться, то так бы и говорил, но вряд ли у них что-нибудь получится. Возможно, благодаря хроническому голоду Маркес в тот поздний вечер визави с красивой женщиной был в ударе. Вытягиваясь в струнку, чтобы казаться выше, как бы невзначай ступая на более высокую, ближе к домам сторону тротуара, он говорил обо всём на свете: о мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и ассортименте продмагов Варшавы, о пиратах Карибского моря и особенностях поэтики Артюра Рембо, о римских императорах и качестве китайского шёлка, о велогонках «Тур де Франс» и ящерицах-игуанах, о стратосфере и корриде… Она поинтересовалась, откуда он такой взялся и что у него за акцент. Габриель отвечал, что из Колумбии. Она с некоторым презрением заявила, что у них там, как и в Португалии, и здесь, во Франции, ненастоящая коррида, начиная с paso natural, одной из главных боевых поз матадора, да и всё – суррогат. И момент истины как таковой отсутствует. Маркес, чувствуя, что эта высокая басовитая девушка с крупными сильными кистями рук всё более его привлекает, осведомился, где же, по её мнению, настоящая коррида. В Эускуаль эрриа, в Эускади, отвечала она. В Стране Басков.
Она была басконкой, звали её Тачия Кинтана, и она не имела обыкновения знакомиться с колумбийцами и вообще с мужчинами на улице. «Тощий, как палка, – вспоминала Тачия, – кудрявый, с усами, он был похож на алжирца, а мне усатые мужчины никогда не нравились. И грубоватые мачо тоже. И мне всегда были присущи свойственные испанцам расовые и культурные предрассудки в отношении латиноамериканцев, которых в Испании считают людьми низшего сорта… Габриель казался деспотичным, высокомерным и в то же время робким – весьма непривлекательное сочетание… К тому же я предпочитала мужчин зрелого возраста…»
Тачия должна была выступать на поэтическом вечере и пригласила своего нового знакомого. Но тот ответил, что ничего скучнее, чем слушать стихи, не знает, и остался ждать в кафе «Мабийон». Потом они опять гуляли по головокружительно пахучему, прозрачному весеннему Парижу. Она интересовалась, о чём он пишет, говорила, что о политике никогда не читает, спрашивала, не пробовал ли он написать, например, про корриду. Габриель отвечал, что не знает корриды, да и всё уже написал Хемингуэй. Тачия говорила, что читала «Фиесту» и из иностранцев Хемингуэй написал о корриде лучше других, но всё же его повесть смахивает на экскурсию для американцев по достопримечательностям Страны Басков с рассказами о традициях, кулинарии…
– Похожа я на femme fatale? – спросила она у подъезда своего мрачного, наполеоновской архитектуры дома на улице Д’Ассиз.
– Боюсь, ты самая фатальная из женщин, – сказал Габриель.
Как-то за утренним кофе мадам Лакруа предложила ему остаться у неё в отеле, деньги за прошедшие месяцы отдать, когда сможет, а пока перебраться в комнату на чердак, где об оплате можно не заботиться, всё равно на чердачное помещение претендентов нет. Поинтересовалась, что это за высокая брюнетка, с которой недавно видела Габриеля. Тот ответил, что это девушка из Испании, случайно познакомились. Мадам посоветовала меньше «случайно знакомиться», а больше вкалывать, превратить себя в раба на галерах, ибо лишь «на пределе или за пределом возможностей» можно чего-то добиться. Маркес пообещал и поднял жалкие свои пожитки «на галеры».
Комнатушка была крохотной. В ней помещались узенькая, коротковатая даже для невысокого Габриеля кровать, тумбочка, письменный стол, маленький, как школьная парта для младших классов, и платяной шкафчик. Зато там было тихо, светло и, когда мадам Лакруа разрешила включать обогреватель (до этого иногда писал в перчатках и шапке), тепло. По издавна существующей в Париже моде Маркес пробовал писать в кафе – и в Латинском квартале, и на набережных, и в районе Монмартра. Но в кафе то и дело что-то отвлекало, он не мог погрузиться в работу с головой, чего, безусловно, требовала проза. В кафе он лишь иногда «лепил» газетные заметки и небольшие репортажи, да ещё читал со словариком французскую периодику. А вот на чердаке ночами был безраздельным хозяином и повелителем пачки бумаги, которую купила ему мадам Лакруа, и своей пишущей машинки. Той весной Маркес, ещё трудясь над «Домом», приступил к «экспериментам по священнодействию с языком», как выразилась Мину Мирабаль. Он стремился к открытию, намереваясь создать такое, что дало бы возможность оправдать своё пребывание в Париже.
Роман с Тачией развивался, не как в книге или романтическом кино мог бы развиваться роман молодых иностранцев в весеннем Париже, а сумбурно и скачкообразно, притом скачки совершались в непредсказуемые стороны.
Родилась Кончита в январе (Козерог по гороскопу) 1929 года в семье католиков. Мечтала стать знаменитой «торерой», не принимая во внимание того факта, что само слово «тореро» – мужского рода. Часами могла отрабатывать перед зеркалом всевозможные toreos-de-salon – упражнения с плащом и мулетой, жалела, что её имя не Вероника – так называется пас матадора с плащом по ассоциации с изображением святой Вероники, держащей обеими руками платок, которым она вытирала лицо Христа.
По одной из версий, и первым мужчиной её был знаменитый красавец-тореадор из Страны Басков. По другой – известный поэт Блас де Отеро, годившийся ей в отцы и переименовавший Кончиту в Тачию. Она убежала в Мадрид, чтобы стать актрисой. В столице у неё случился роман с другим поэтом, зацикленным на своей гениальности и исповедовавшим свободную любовь во всех её проявлениях: он принуждал Тачию к лесбийскому и групповому сексу. Она бежала в Париж, стала посещать театральные курсы, чтобы поступить на сцену. «Она принадлежала к тому типу женщин, которые считались особенно привлекательными в период послевоенного экзистенциализма, – описывает её Мартин. – Стройная, смуглая обитательница левобережья, она обычно одевалась в чёрное, носила стрижку под мальчика и была неимоверно энергична… Поскольку она была иностранкой, её шансы добиться успеха на сцене французского театра фактически равнялись нулю…»
В Париже Тачия сумела устроиться лишь прислугой в богатой французской семье, глава которой, шестидесяти пятилетний адвокат, с первых минут стал домогаться красавицы-басконки. К тому же вовсе не по-испански и уж тем более не по-баскски. Например, в присутствии сорокалетней жены уговаривал Тачию дать ему пососать её очаровательные пальчики на ножке, при этом жена смеялась и уверяла, что это пустяшная прихоть немолодого, устающего на работе мужчины. В ту ночь, когда Маркес увидел её на Аустерлицком мосту, Тачия бродила по Парижу в думах о том, как жить дальше… «Поначалу я не была расположена к Габриелю, – вспоминала Тачия. – Но постепенно прониклась к нему симпатией. У нас завязался роман, мы стали встречаться регулярно. Поначалу он мог меня угостить в кафе бокалом вина, но потом остался вовсе ни с чем».
Хулио Кортасар в беседе со мной в Гаване вспоминал, как, ещё не подозревая о существовании Маркеса, описал историю его любви в романе «Игра в классики» (о сходстве сообщил ему позже сам Маркес):
– Это книга о латиноамериканском эмигранте, в середине 50-х блуждающем по Парижу, в основном по Латинскому кварталу в компании интеллектуалов. Оливейра ищет свой мир. Музой для него становится неуловимая и непостижимая красавица Мага, оказавшаяся как две капли воды похожей на Тачию Габриеля. Сильнее и, может быть, глубже, чем он.
Опаздывая на час-полтора на свидание у фонтана площади Сен-Мишель, Тачия объясняла, что у них в Стране Басков только коррида начинается вовремя. Поезда, самолёты, театральные представления могут задерживаться, но рожок, оповещающий о начале корриды, всегда звучит минута в минуту. И они обязательно должны съездить в начале июля на праздник святого Фермина – и вместе пробежать в семь утра на encierro, перед быками через всю Памплону из корраля в sobrepuerta цирка. Тачия уверяла, что писателю надо это испытать, что тяжёлые увечья бывают нечасто, потому что быки держатся стадом, не проявляют норов, да и дрессированные волы, бегущие с ними, не дают им задерживаться. Но всё, конечно, бывает – и под машину можно попасть. А уже вбежав на арену, забитую людьми, которые не могут перелезть через barrera, забор, бык может любого поднять на рога, оружие брать запрещено, такова традиция – дать шанс быкам в последний раз нанести удар любому человеку, прежде чем их загонят в корраль, откуда они выскочат на ослепительную арену, на «смерть после полудня».
Иногда они всё-таки могли себе позволить посидеть в кафе. Но и в кафе Тачия продолжала рассказы о корриде, имея в виду, конечно, не только саму корриду (которая становилась своеобразной метафорой). Говорила, что не всегда коррида-де-торос заканчивается торжеством – даже над самым успешным боем неизменно витает призрак смерти. Это древний обычай, существовавший ещё до Рима, но римлянами культивированный – не жестокость, но напоминание о смерти. Бывают годы, когда никто из тореро не погибает. Раны не в счёт, удар рогом – почётный трофей, им гордятся. Но бывают годы нескольких смертей. Тореро много и спокойно говорят о смерти. Гарсиа Лорка писал, что в Испании именно «с приходом смерти занавес открывается». Но сам поэт не смог сдержать слёз, когда был смертельно ранен его друг и любовник, великий тореро. Маркес уверял, что пусть она и не стала торерой, но станет, безусловно, великой актрисой.
Ссорились они спонтанно, из-за пустяка, но яростно и с завидным постоянством, как выразилась Джоан, через два дня на третий, будто блюдя извечный распорядок корриды. Инициатором ссор в девяти случаях из десяти выступала Тачия, притом выступала так, что порой свидетелям становилось жутковато, Джоан, например, когда они приходили вдвоём, припрятывала острые ножи. И, по мнению мадам Лакруа, целый месяц противившейся посещениям Тачии, но всё-таки сдавшейся под напором басконки, она его любила столь отчаянно и бескомпромиссно, что могла и зарезать, как Хосе – Кармен в одноимённом произведении.
Тачия приходила во «Фландр» и сидела внизу в ожидании, пока Габо, ночью работавший, проснётся, и они шли в гости к друзьям или бродили по сияющему и сверкающему фиолетовому, оранжевому, изумрудному, красно-синему, кипенно-белоснежному от цветущих каштанов Парижу. Они всюду, как принято в городе на Сене, целовались и, будучи по воспитанию всё-таки чуждыми этому парижскому обычаю (ни в Колумбии, ни в Стране Басков бы не поняли), забывались. Однажды в парке Бют-Шомон их едва не арестовали жандармы – Тачия на эускади обозвала их недоносками и уродами, но они, слава Богу, языком басков не владели.
Она оперировала преимущественно такими категориями, как «muy hombre», «macho» – «настоящий мужчина», «самец»… Через десять лет, завершая роман «Сто лет одиночества», Маркес вспоминал неиссякаемую выдумщицу-басконку, с которой в Париже они «утрачивали чувство реальности, понятие о времени, выбивались из ритма повседневных привычек…». В своей квартире на улице Д’Ассиз она устраивала корриду.
«Любовники… затворили двери и окна и, чтобы не терять лишних минут на раздевание, стали бродить по дому в том виде, в котором всегда мечтала ходить Ремедиос Прекрасная, валялись нагишом в лужах на дворе и однажды чуть не захлебнулись, занимаясь любовью в бассейне, – читаем в романе „Сто лет одиночества“. – За короткий срок они внесли в доме больше разрушений, чем муравьи: поломали мебель в гостиной, порвали гамак, стойко выдерживавший невеселые походные амуры полковника Аурелиано Буэндиа, распороли матрасы и вывалили их содержимое на пол, чтобы задыхаться в ватных метелях. Хотя Аурелиано как любовник не уступал в свирепости уехавшему сопернику, тем не менее командовала в этом раю катастроф Амаранта Урсула с присущими ей талантом к безрассудным выходкам и ненасытностью чувств. Она как будто сосредоточила на любви всю ту неукротимую энергию, которую её прапрабабка отдавала изготовлению леденцовых фигурок. В то время как Амаранта Урсула пела от удовольствия и умирала со смеху, глядя на свои собственные выдумки, Аурелиано становился всё более задумчивым и молчаливым, потому что его любовь была погружённой в себя, испепеляющей. Однако оба достигли таких высот любовного мастерства, что, когда истощался их страстный пыл, они извлекали из усталости всё, что могли. Предавшись языческому обожанию своих тел, они открыли, что у любви в минуты пресыщения гораздо больше неиспользованных возможностей, чем у желания. Пока Аурелиано втирал яичный белок в тугие соски Амаранты Урсулы или кокосовым маслом умащал ее упругие бедра и покрытый пушком живот, она развлекалась с его могучим дитятей, играла с ним, как с куклой, пририсовывала ему губной помадой круглые клоунские глазки, а карандашом для бровей – усы, как у турка, подвязывала галстучки из атласных лент, примеряла шляпы из серебряной бумаги. Однажды ночью они вымазались с ног до головы персиковым сиропом и облизывали друг друга, как собаки, и любились, как безумные, на полу коридора…»
Они беседовали и о творчестве, чаще не соглашаясь друг с другом. Она упрекала Габриеля в том, что он пишет об уродствах, бедах. Что герои у него несчастные, ни одного муй омбре (настоящего мужчины), ни одного фламенко, то есть живого, мужественного, преодолевающего, а не покоряющегося. Ей как простой читательнице не интересны переживания болезненных сонных меланхоликов, этот психоанализ, о котором модно рассуждать в кафе, этот Кафка, у которого сплошные уроды, да и Чарли Чаплин в том фильме, который они смотрели в киношке на Елисейских Полях, хотя признаться ей в этом было стыдно в компании, где все восторгались: «Гениально!» Она подчёркивала, что мало понимает в литературе, и не считает, что обязательно надо писать о матадорах, можно и о мужественном, несдающемся человеке – и будут покупать. Говорила, что, прочитав его «Палую листву», поняла, что не любит опали, а обожает буйную зелень, твёрдую, как побеги бамбука, как нефритовый стебель…
Хлопнув дверью, Маркес ушёл. По дороге решил выпить текилы в кафе, где собирались мексиканцы (тогда можно было «объездить» всю Латинскую Америку, переходя в Латинском квартале Парижа из одного кафе в другое: тут собираются колумбийцы, тут перуанцы, тут чилийцы, уругвайцы, аргентинцы, мексиканцы…). Знакомый художник дал свежую, за 22 июня 1956 года, мексиканскую газету «Эль Эксельсиор». В ней был опубликован репортаж об аресте в Мехико кубинца, лидера «Движения 26 июля» Фиделя Кастро, недавно отпущенного с каторги на острове Пинос, и его соратников, в том числе аргентинского врача, «международного коммунистического агитатора», Эрнесто Гевары. «Гевара учил будущих партизан накладывать „шины“, делать инъекции и получил за одно занятие более ста внутримышечных и внутривенных уколов от своих учеников… Этот доктор-журналист, – пишет в своей книге „Гевара по прозвищу Че“ Пако Игнасио Тайбо II, – уже был под огнём и бомбёжкой во время вторжения вооружённых групп из Гондураса в Гватемалу – и даже глазом не моргнул. Он читал соратникам книги „Репортаж с петлёй на шее“ и „Как закалялась сталь“…»
Две недели они не встречались. Габриель был уязвлён. Он чувствовал, что матадорша подавляет, он попадает в зависимость. А ведь мадам Лакруа предостерегала. И Джоан с Эрнаном Вьеко. Поразмыслив над своим бытием в Париже, глядя на фотографию далёкой невесты Мерседес, Маркес дал себе слово забыть эту оголтелую девицу.
Засел за работу. Писал ночами, когда было так тихо, что казалось, тишину нарушают лишь стук его машинки и бой часов на башне Сорбонны. Часы отбивали каждый час – и их древний, неотвратимый бой напоминал обитателю чердака отеля «Фландр», что жизнь проходит. Совсем недавно ему было двадцать, и он был безалаберным, но подающим надежды студентом. А скоро уже тридцать. И он давно не студент, да и не журналист уже, но и не писатель, пусть даже и вышла где-то в далёкой Колумбии несчастная книжонка мизерным тиражом, который так и не раскупили, где-то на складе пылится или сожгли.
Он сидел за машинкой, утопая в исписанных бумагах, курил одну за другой дешёвые сигареты. Путал утро с вечером. Из частей «Дома» сделал отдельную повесть или даже роман под названием «Недобрый час» (окончательное название придёт позже), который также стал угрожающе разрастаться. Печатал по двенадцать, пятнадцать страниц за ночь, и подушечки пальцев покрылись мозолями, стали нечувствительными, как у гитариста фламенко. Поймав себя на этой мысли, он вышел на улицу, но каким-то непостижимым образом очутился не в том месте, которое намечал, не на острове Сите у Нотр-Дам, а на Аустерлицком мосту. Где впервые увидел её. Которая неотступно преследовала, хотя он и гнал от себя, как чертовку, как наваждение. Она и была наваждением. Бродил по Парижу, стараясь не вспоминать. Поговорил с букинистами на набережной. Проверил в банке, не перевели ли деньги. За стаканом вина в любимом кафе Генри Миллера «Веплер» на бульваре Клиши заговорил с девушкой, похожей на молодую актрису Брижит Бардо, которую недавно видел в фильме режиссёра русского происхождения Роже Вадима «И Бог создал женщину». Но она назвала такую цену, что стало совсем грустно.
Вернувшись во «Фландр», лёг спать. Поздно вечером встал, спустился на первый этаж, принял душ. В бистро за углом выпил кофе с бутербродом. Поднялся на чердак. Просмотрел рукопись романа «Недобрый час», в которой было уже более полутысячи страниц. Взял с полки и пролистал «Хаджи-Мурата» Толстого. Повесть «Медведь» Фолкнера, тоже оказавшуюся даже более короткой, чем представлялось. Повесть «Старик и море» Хемингуэя объёмом меньше одной пятой его «Недоброго часа». Часы Сорбонны пробили три утра. И эти удары вновь напомнили о том, чего он принуждал себя не вспоминать: правила корриды-де-торос.
Маркес извлёк из шкафа свой оранжево-салатовый широкий галстук, перевязал папку с «Недобрым часом» и убрал на верхнюю полку. Потом взял небольшую стопку оставшейся чистой бумаги, заправил лист в пишущую машинку и отстучал название: «Ожидание». Выдернул, скомкал, бросил на пол. Вставил новый лист, напечатал: «Полковник». Выдернул, скомкал… Так продолжалось почти до утра. Курил, приседал, беседовал с Мерседес, глядя на фотографию, но вместо её светлого умиротворяющего личика возникал вдруг разъярённый, неукротимый, но до скрежета зубовного прекрасный, как на полотнах Делакруа в Лувре, лик басконки-генерала. И никуда было от него не деться.
Загрохотала внизу мусоровозка – скоро рассвет. Маркес взял последнюю оставшуюся от стопки чистую страницу (а он загадал: первый, заглавный лист должен быть без помарок, тогда всё получится) и двумя пальцами медленно отстучал заголовок: «Полковнику никто не пишет». Это ему понравилось. Он закурил и задумался над тем, что будет есть этим днём, да и в последующие дни. И придумал, даже потёр от удовольствия ладони одну о другую и по-мальчишески озорно рассмеялся, последнюю фразу предстоящей и представшей перед ним от начала до конца повести, ответив на свой вопрос: «Дерьмо».








