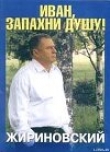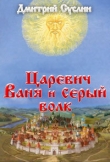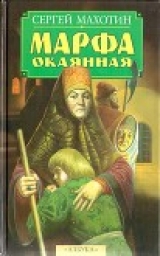
Текст книги "Марфа окаянная"
Автор книги: Сергей Махотин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Клейс в кругах ганзейского купечества слыл человеком многоопытным и почтенным. – Ганза – политическое содружество вольных торговых городов Северной Германии во главе с городами Любек, Бремен и Гамбург. Существовало в XIV—XVII вв., наибольшего расцвета достигло в конце XIV – середине XV в., когда ганзейские купцы стали контролировать практически всю торговлю в Балтийском морс и частично в Северном, а соединённый военный флот Ганзы являлся одним из сильнейших в мире. Вся политика Ганзы, корректировавшаяся на проходивших раз в пять лет или чаще съездах бургомистров и членов бургенратов ганзейских городов, была направлена на расширение и улучшение ганзейской торговли и борьбу с конкуренцией купцов и купеческих обществ других стран. Большим достижением ганзейской политики в XV веко было получение ряда торговых привилегий в Новгороде, позволивших ганзейским купцам взять в спои руки почти всю внешнюю северорусскую торговлю.
В Ганзе существовал особый неписаный кодекс чести купца, нарушители которого лишались доверия и уважения, а следовательно, и выгодного партнёрства в торговых кругах. Тягчайшими преступлениями против этого кодекса (что во многих городах Ганзы фиксировалось за коном) считались торговля поддельными товарами, использование, а тем более изготовление фальшивых денег и заключение каких-либо договоров, выполнение каких-либо поручений иностранцев, кроме торговых.
Тот сообщал о последних событиях в Новгороде, о внезапном вздорожании товаров, в особенности хлеба и соли, вечная нехватка которой усугубляется слухами о передаче Казимиру соляных варниц в Русе. — Казимир IV Ягеллончик – великий князь Литовский (1440 – 1492), король Польский (1447 —1492), младший сын короля Польского и великого князя Литовского Ягайло (Владислава II), активный и тонкий политик, стремившийся укрепить польско-литовский союз, поднять роль шляхты и горожан во внутреннем управлении государства, развивать ремесло и внешнюю торговлю. Для этого необходимо было вести активную внешнюю политику, в первую очередь против Тевтонского Ордена – немецкого государства в Прибалтике. В ходе многочисленных войн Казимир IV существенно подорвал могущество Ордена, присоединил города Гданьск, Мальборг и Торупь, обеспечив тем самым выход к Балтийскому морю. Но для того, чтобы полностью сломить Орден, у польско-литовского государства не хватало сил. В связи с этим Казимир стремился расширить свои владения на юг, восток и северо-восток, пытался подчинить венгерские и русские территории.
В 1463 г. Новгород, опасавшийся усиления Москвы и претензий московских князей на новгородскую независимость, начал переговоры с Казимиром. Влиятельная группировка новгородских бояр во главе с Борецкими настаивала на присоединении Новгорода к владениям короля, чтобы избежать покорения Москвой. Переговоры велись много лет и так и не были завершены: новгородцы стремились максимально ограничить власть приглашаемого короля, Казимир же настаивал на предоставлении ему значительных властных полномочий и крупной части государственных доходов. В 1468 г. новгородцы решили предложить королю, в случае его согласия принять Новгород под своё покровительство, взять в личное владение город Старую Русу, где находились крупнейшие в России промыслы соли. Доходы от соляных варниц Русы составляли примерно шестую часть доходов государственной казны Новгорода. Слухи о предстоящей передаче русских варниц Казимиру вызвали беспокойство в торговых кругах и повышение цен на соль в полтора – два с половиной раза.
Слухи о походе великого князя Ивана Васильевича на Новгород и неизбежной войне с Москвой будоражили народ. – С XIII в. Новгородская земля входила в состав владений великого князя Владимирского, а после переноса великокняжеского стола из Владимира в Москву – великого князя Московского. Подчинение Новгорода Москве всегда оставалось достаточно формальным – новгородцы сами управляли своими внутренними делами, вели независимо от Москвы отношения и иногда даже войны с зарубежными государствами. Великому князю Новгород выплачивал дань, иногда поддерживал его войском и время от времени обращался за помощью в войнах с Тевтонским Орденом. По мере усиления и роста богатств новгородское государство всё более тяготилось владычеством Москвы, тем более что с середины XV в. претензии московских князей усилились: они стремились не только формально, по и фактически подчинить Новгород – руководить внешними сношениями, активно участвовать во внутренних делах, получать значительную часть новгородских доходов. Новгород всеми силами стремился ослабить Москву – в междоусобной войне середины XV в. новгородцы активно поддерживали противников Москвы, неоднократно на несколько лет приостанавливали выплату дани московскому князю. В ответ московские князья совершали военные походы на Новгород, заканчивавшиеся обыкновенно подписанием мирных договоров и выплатой Новгородом относительно небольших штрафов.
В 1460-х гг. великий князь Московский Иван III Васильевич стал решительно укреплять свою власть над русскими землями. Его владычеству полностью подчинились Ярославское и Галицкое княжества, была существенно ограничена независимость Пскова, установлена вассальная зависимость Казанского ханства. Опасаясь полного подчинения, новгородцы стали предпринимать попытки выйти из состава владений московского князя. Это неминуемо привело бы к войне, в которой Новгороду необходим был сильный союзник. Такого союзника и покровителя часть новгородцев видела в польско-литовском государстве – извечном противнике Москвы. Начались переговоры с королём Казимиром IV о включении Новгорода в состав его владений. Узнав об этом, Москва усилила нажим на Новгород. К концу 1460-х гг. обстановка накалилась до предела: Казимир был близок к тому, чтобы согласиться на новгородские предложения, в Новгороде решительно усилились противники Москвы. В свою очередь и Иван III повёл себя решительно: стал требовать от Новгорода отказа от сношений с королём и выплаты положенных даней. Новгород не принимал требований и только активнее вёл антимосковскую политику. Противоречия зашли так далеко, что их становилось возможно разрешить только войной.
В горницу вошёл ражий холоп, держа обеими руками перед собой что-то тяжёлое, завёрнутое в холстину. – Холоп в средневековой Руси – зависимый человек-соплеменник. Холопы жили в доме господина, получали от него пропитание и средства к существованию и обязаны были выполнять даваемую господином работу.
Известно несколько видов холопства. Полные холопы, попавшие в холопство за очень большие долги, пленные или дети полных холопов были бесправными рабами своего господина, его власть над ними была безгранична – он мог убить, наказать, наградить, продать холопа, заставить его выполнять любую работу; все имущество полного холопа принадлежало господину. Из полных холопов обычно состояла часть домашней прислуги и охрана боярина.
Докладные (или кабальные) холопы были людьми, взявшими в долг определённую сумму денег и не сумевшими вернуть её в срок. За свой долг они становились холопами и оставались у господина до тех пор, пока своим трудом не возместят ему убытки. Докладных холопов господин не мог продать, наказать, тем более убить.
Добровольные холопы – это люди, по своей воле явившиеся к господину и обязавшиеся служить ему. В добровольные холопы шли бедняки, разорившиеся, те, кто потерял своё имущество в результате войн, пожаров или неурожаев. Добровольные холопы оставались у господина определённый при поступлении срок или, если о сроке не договаривались, столько, сколько хотели сами. По своему положению они были близки к докладным холопам – господин кормил их, давал кров и одежду, а они обязаны были работать на него, при этом господин не мог продать, казнить или наказать их. Докладные и добровольные холопы могли владеть личным имуществом, и известны случаи, когда преуспевающий холоп становился богаче своего хозяина, когда господин ходил у холопа в должниках.
Бабушка Марфа часто сажала Ваню подле себя во главе стола. – Марфа Ивановна Борецкая (в девичестве Лошинская), по прозвищу Посадница (1410-е – около 1490 г.) – дочь новгородского боярина Ивана Дмитриевича Лошинского. Около 1430 г. выдана замуж за боярина Филиппа Шилина, одного из богатейших новгородцев, после смерти которого (около 1444 г.) унаследовала все его состояние. Около 1445 г. вторично вышла замуж за посадника Исака Андреевича Борецкого, также очень богатого новгородского боярина. В браке с ним имела двух сыновей – Дмитрия и Фёдора. Вторично овдовев в 1457 г. и получив наследство мужа, Марфа стала едва ли не самой богатой жительницей Новгорода и вскоре начала играть видную роль в политической жизни города. Легенды называют её вдохновительницей и руководительницей партии сторонников отделения Новгорода от Москвы и присоединения к Литве. В реальности её роль, видимо, была меньшей, чему свидетельствует то, что после разгрома новгородцев москвичами в 1471 г. и казни сына Марфы Дмитрия великий князь Иван III никак не покарал Марфу. Лишь в 1478 г. (по другим источникам в 1488 г.), после возобновления антимосковских выступлений в Новгороде, Марфа в числе многих других новгородских бояр была лишена всего имущества и сослана в Нижний Новгород, где вскоре приняла монашество и скончалась в монастыре. Образ Марфы как женщины-политика с конца XVIII в. привлекает литераторов: о ней и её роли в борьбе с Москвой написано свыше десятка романов, повестей, пьес и опер.
А через год посватался к ней Исак Андреевич Борецкий, тоже бездетный вдовец... – Исак Андреевич Борецкий (? – 1457) – новгородский боярин. Первые известия о нём относятся к 1417 г., когда он во главе небольшой рати разбил в Заволочье московский отряд. Около 1424 г. стал посадником. Слыл мудрым и рачительным правителем, выступал за лавирование между Москвой и её врагами, против открытой дружбы или конфронтации с любой из этих сторон. После победы Москвы в феодальной войне XV в. стал склоняться к необходимости дружбы и сотрудничества с ней. В 1452 – 1453 гг. вёл в Москве переговоры с великим князем Василием II Васильевичем о заключении мира и отходе Новгорода от союза с врагами Москвы – галицкими князьями. Вскоре по возвращении И. А. Борецкого в Новгород был отравлен находившийся в городе князь Дмитрий Шемяка, вероятно с ведома и с участием Борецкого. Однако Исаку Андреевичу не удалось удержать новгородцев от вооружённой борьбы с Москвой. После неудачной для Новгорода войны 1456 г. он навлёк на себя недовольство как новгородцев, так и великого князя, должен был оставить посадничество и вскоре умер.
– Ай да мёд! – похвалил сидящий напротив посадник Василий Казимер. – Василий Фёдорович Казимер (Казимир) (? – после 1481 г.) – боярин новгородский. В 1454 г. стал тысяцким, в 1464 г. – посадником и посадничал с перерывами до 1471 г. Воевода, в политике – сторонник независимости Новгорода от Москвы. Командовал новгородскими войсками в войнах с Москвой 1456 и 1471 гг., оба раза был разбит москвичами, в 1471 г. в Шелонской битве захвачен в плен и по приговору великого князя Ивана III сослан в заточение, но в конце года освобождён по ходатайству архиепископа Феофила. Вернувшись в Новгород, стал проводить политику примирения и подчинения Москве, в 1478 г. просил Ивана III принять его в московскую службу, но получил отказ. В 1481 г. вместе с другими новгородскими боярами лишён всех своих владений, выведен в Москву и поселён под Коломной, где получил в компенсацию небольшую вотчину.
Марфа Ивановна, наняв скоморохов на пир, всё же не решилась выпустить их перед новым игуменом Соловецкого монастыря... – Святой Зосима (около 1400—17.04.1478 г.) – монах, подвижник, основатель и первый игумен Соловецкого монастыря, провиден и чудотворец. Родился в состоятельной новгородской семье в селе Толвия на берегу Онежского озера. Не желая жениться, ушёл из дому и отшельничал в Поморье. После смерти родителей в 1436 г. раздал всё своё имущество бедным и ушёл на Соловецкие острова, где его трудами был создан один из величайших монастырей Руси. В 1452 г. был официально назначен игуменом. В 1460-х гг. Зосима несколько раз посещал Новгород, где добился от веча передачи во владение монастырю Соловецких островов и склонил многих бояр, в том числе Марфу Борецкую, сделать земельные вложения в монастырь. В 1547 г. причислен к лику святых. Его житие повествует более чем о 70 чудесных видениях и исцелениях Зосимы. В частности, будучи на пиру в доме Марфы Борецкой, согласно Житию, Зосима увидел шестерых гостей – знатных бояр, – сидящих за столом без голов. Именно эти люди были позднее казнены великим князем Иваном III.
Сейчас Кур занимал всеобщее внимание рассказкой о ростовщике Щиле. – Шила (Шил, Щил) – полулегендарный новгородский боярин, живший в начале XIV в. Россказни о его занятиях ростовщичеством и несметных богатствах (исчислявшихся якобы сотнями тысяч рублей – совершенно астрономическая сумма для того времени) надолго пережили реальный персонаж и ходили в Новгородской губернии до конца XIX в. Прообраз героя легенд – реальный боярин Илия Шил действительно был богат, владел огромными землями в Задвинье и давал деньги в долг новгородскому архиепископу. Перед смертью Шил воздвиг на свои средства Покровский монастырь возле Новгорода, в котором и был похоронен.
Великая княгиня Мария Ярославна приказала не тревожить её до полудня. — Мария Ярославна (1423—1484) – великая княгиня Московская, жена великого князя Василия II Васильевича, мать великого князя Ивана III Васильевича, дочь серпуховского князя Ярослава Владимировича. Обручена с Василием III в 1432 г., вышла замуж в 1433 г. Сопровождала своего мужа на всём его жизненном пути, делила с ним заточение. Некоторые историки полагают, что Мария Ярославна пользовалась большим влиянием на своего мужа и сына, помогала им в государственных делах. После смерти Василия III получила в пожизненное владение города Ростов и Романов, перешедшие после её смерти к Ивану III. В 1478 г. приняла монашество под именем Марфы.
Вот и дождался Божьей кары – ослеплён был извергом Шемякой. – В октябре 1445 г. Василий II возвратился из казанского плена и с помощью многочисленной татарской рати вернул себе Москву. Его соперники, возглавляемые Дмитрием Шемякой, должны были уступить татарской силе и заключить с Василием II дружеские договоры. Но союзничество Василия II с казанскими татарами вызвало всеобщее недовольство: лагерь его врагов пополнился, созрел заговор, которым руководили князья Дмитрий Шемяка и Иван Андреевич Можайский. Вскоре представился удобный случай: в феврале 1446 г. Василий II с детьми и почти без охраны отправился на богомолье в Троицкий монастырь. Узнав об этом, Шемяка стремительным нападением захватил Москву, а Иван Андреевич Можайский пленил Василия II в монастыре. Пленник был привезён в Москву и 14 февраля ослеплён в доме Шемяки, причём Шемяка объявил, что мстит великому князю за ослепление его брата – Василия Косого. Ослеплённый Василий II был сослан в заточение в Углич, где позже к нему присоединились жена и дети.
Приблизила Ряполовских, Оболенских, Патрикеевых, Кошкиных, Плещеевых, Морозовых, из воевод – Фёдора Басенка и тверянина Дмитрия Даниловича Холмского. – Ряполовские (Иван, Семён Хрипун и Дмитрий Ивановичи) – служилые князья, сторонники великих князей московских.
О князе Иване Ивановиче см. выше.
Князь Семён Хрипун Иванович Ряполовский (? —1499), средний брат в семье князей Ряполовских. В 1446 г. находился в Муроме, в 1450-х гг. стал известен как воевода. В 1458 г. совершил поход на Вятку, в 1477 г. командовал полком правой руки в походе на Новгород, в 1496 г. возглавлял оборону Казани, где правил вассал великого князя Ивана III хан Мохаммед-Эмин, от мятежников. В 1499 г. казнён за участие в заговоре.
Князь Дмитрий Иванович Ряполовский (около 1425—1502 г.), младший брат в семье князей Ряполовских, находился в Муроме в 1446 г., после служил воеводой в войсках великих князей Василия II и Ивана III, был их наместником в разных городах. Много сделал для подчинения Москве Вятской земли. В 1499 г. постригся в монахи.
Оболенские (Василий, Семён и Глеб Ивановичи, Иван Васильевич Стрига) – служилые князья, сторонники великих князей московских.
Князь Василий Иванович Оболенский (около 1400 – после 1450 г.), старший брат в семье князей Оболенских, – в 1440-х гг. великокняжеский наместник в Муроме. На этом посту много сделал для победы Василия II над Дмитрием Шемякой: убил ханского посла, вёзшего ярлык для Шемяки, в 1446 г., после пленения Шемякой Василия II, укрыл в Муроме его семью и собрал всех сторонников Василия II. В 1450 г. возглавлял большой полк в походе на Галич и 27 января одержал блистательную победу над войсками Дмитрия Шемяки.
Князь Семён Иванович Оболенский (1400-е – после 1457 г.) в 1446 г., когда князь Дмитрий Шемяка захватил Москву, бежал в Литву, получил от короля Казимира IV «в кормление» город Брянск, где вместе с Ф. В. Басенком стал собирать сторонников Василия II и готовить их к новой войне. Был главным вдохновителем сопротивления Шемяке и организатором всех союзников Василия II. Зимой 1446—1447 гг. с Ф. В. Басенком привёл к Василию II большую и отлично подготовленную рать. Затем много воевал с врагами великих князей московских. Помогал малолетнему Ивану III командовать войсками в походе 1452 г. За свою службу был в 1447 г. пожалован большими землями.
Князь Глеб Иванович Оболенский (1400-е—1436) в 1430-х гг. был великокняжеским наместником в Устюге. Зимой 1435—1436 гг. девять педель защищал город от войск галицкого князя Василия Косого и был убит во время последнего штурма, приведшего к падению города.
Князь Иван Стрига Васильевич Оболенский (около 1440 – после 1490 г.), сын князя Степана Ивановича Оболенского, лучший военачальник Ивана III, за 40 лет руководства войсками не испытал ни одного поражения. Был ближайшим другом и доверенным лицом Ивана III. Реформатор русского войска, фактический создатель дворянской конницы и обученной пехоты (в том числе вооружённой ручным огнестрельным оружием – пищалями). В перерывах между ратными трудами наместничал в важнейших городах Руси.
Патрикеевы (Юрий Патрикеевич и Иван Юрьевич) – бояре московские, родственники и ближайшие сподвижники великих князей московских.
Юрий Патрикеевич Патрикеев (? – 1440-е гг.) был ближайшим другом и сподвижником великих князей Василия I и Василия II. Первый настолько пенил его, что выдал за пето свою дочь – Марию Васильевну. Выполнял военные и дипломатические поручения. В 1433 г. во главе московского войска был разбит ратью князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки и взят в плен, но выкуплен великим князем. Несколько раз ездил в Новгород собирать великокняжескую дань. В 1439 г. возглавлял оборону Москвы при нашествии хана Улу-Мухаммеда.
Иван Юрьевич Патрикеев (1419 – 1499), сын Юрия Патрикеевича и двоюродный брат и первый боярин великого князя Ивана ИГ, долгие годы был его ближайшим другом и советником. Прославился как отличный военачальник в многочисленных походах 1450—1470-х гг., был знатоком новгородских дел и правой рукой Ивана III во время похода на Новгород 1478 г. В 1499 г. принял участие в придворной интриге, был подвергнут опале и постригся в монахи.
Кошкины (Кошкины-Кобылины) – знатный род, сторонники великих князей московских Василия II и Ивана III.
Плещеевы (Андрей Михайлович и Михаил Борисович) – бояре московские, сподвижники великих князей Василия II и Ивана III.
Михаил Борисович Плещеев (? – 1450-е гг.) служил Василию II, выполнял военные и дипломатические поручения. 25 декабря 1446 г. с небольшим отрядом внезапно захватил Москву, находившуюся в руках князя Дмитрия Шемяки, и удерживал её до подхода главных сил Василия II.
Андрей Михайлович Плещеев (1420-е – около 1490 г.) – сын Михаила Борисовича, служил Ивану III, выполнял политические и дипломатические поручения, важнейшее из которых – сватовство сына Ивана III Ивана Ивановича к дочери молдавского господаря Стефана I Елене Стефановне (1482).
Фёдор Васильевич Басенок (1410-е – после 1468 г.) – воевода из московских дворян, прославился мужеством и неколебимой верностью великому князю Василию II в годы его борьбы с галицкими князьями. В 1446 г., когда князь Дмитрий Юрьевич Шемяка захватил Москву, Басенок единственный из её жителей отказался присягнуть Шемяке, был за это посажен в цепи, но сумел бежать и скрылся в Коломне. Перебрался затем в Литву, где объединил вокруг себя всех сторонников Василия II. В 1447 г. вместе с князем Семёном Ивановичем Оболенским Фёдор Басенок привёл к войску Василия II большой и отлично подготовленный отряд воинов из Литвы. Затем долго и успешно воевал против галицких князей. Отличился в 1449 г. при обороне Костромы, в 1450 г. в битве под Галичем, в 1452 г. при взятии Устюга, в 1455 г. при отражении набега татарского царевича Салтана. Самая замечательная его победа – над новгородцами при Старой Русо в 1456 г., когда двести воинов Басенка разгромили отборную пятитысячную рать. Эта битва решила исход похода Василия II на Новгород и привела к подписанию выгодного для Москвы мирного договора. Был близким другом Василия II и свидетелем при составлении им завещания.
Холмский Данило (Данила) Дмитриевич (? – 1493) – служилый князь (из рода великих князей Тверских), боярин московский, служил великим князьям московским Василию II и Ивану III, блестящий военачальник и умелый политик. Стал известен в 1468 г., когда разгромил под Муромом большой отряд крымских татар. В 1469 г. с малыми силами отразил тридцатитысячное казанское войско от Оки и гнал его трое суток, в 1471 г. опустошил Новгородскую землю и разгромил сорокатысячное новгородское войско на реке Шелони, в 1473 г. окружил под Псковом вторгшихся на Русь ливонских рыцарей и заставил Орден подписать чрезвычайно выгодный для России мирный договор, в 1477 г., совершив беспримерный марш по льду озера Ильмень, внезапно подошёл к Новгороду, окружил его и заставил капитулировать, в 1483 г. взял Казань. Обладал гордым и мрачным характером, имел множество завистников при великокняжеском дворе. В 1475 г. был оклеветан и едва не подвергся опале. Позднее Иван III принёс Холмскому извинения.
Ростом только был о деда, Василия Дмитриевича, сына славного Дмитрия Донского, сутулился, наклонял голову, входя в двери великокняжеских палат... – Василий I Дмитриевич (1371 – 1425), великий князь Московский (с 1379 г.), старший сын великого князя Дмитрия Донского, отец Василия II. Присоединил к Москве Суздальско-Нижегородское княжество, вёл ловкую политику против Орды и великого княжества Литовского. Был очень высок ростом (около 190 см, при среднем роете людей в XIV —XV вв. 165 см).
Дмитрий Иванович Донской (1350—1379), князь Московский (с 1359 г.), великий князь Владимирский (с 1363 г.). Выдающийся государственный и военный деятель русского средневековья. Подчинил своей власти многие русские земли, перенёс великое княжение из Владимира в Москву, построил каменные стены в московском Кремле, отразил экспансию великого князя Литовского Ольгерда, разбил в Куликовской битве (1380) войска хана Золотой Орды Мамая, положив этим начало освобождению Руси из-под ордынского ига.
В тридцать лет он уже похоронил жену, тоже Марию, по-домашнему Машеньку, кроткую, ласковую, выданную отцом, тверским князем, не по любви, а для закрепления союза с Москвой. – Мария Борисовна (1441 —22.4.1467) – великая княгиня Московская, первая жена великого князя Московского Ивана III Васильевича, дочь великого князя Тверского Бориса Александровича. Была выдана замуж в возрасте десяти лет, но, по свидетельствам современников, Иван III очень любил её и супруги жили на редкость счастливо. Мария Борисовна отличалась красотой, мягким, добрым и внимательным характером, отменным здоровьем. Её смерть была внезапной и таинственной, Иван III глубоко переживал кончину жены. В Москве подозревали, что двадцатипятилетняя княгиня была отравлена. Иван отчасти поверил этим слухам и наложил опалу на дьяка Алексея Полуектова, чья жена Наталья – женщина, близкая к Марии Борисовне, подозревалась в связях с бабой-ворожеёй, отравившей будто бы пояс великой княгини.
...двенадцатилетний Иван уже побывал в своём первом походе – с татарским царевичем Ягупом ходил в новгородские земли против Дмитрия Шемяки с его малочисленным войском. – Зимой 1451 —1452 гг. произошли последние военные действия многолетней войны за московское княжение между Василием II и Дмитрием Шемякой. Шемяка собрал значительные силы в Устюге и готовился к походу. Узнав об этом, Василий II поспешно выступил из Москвы, задумав окружить и уничтожить Шемяку в Устюге. Для этого великокняжеская рать разделилась: часть, возглавляемая Василием II, наступала на Устюг с севера, другая, которой формально командовал двенадцатилетний княжич Иван Васильевич (будущий великий князь Иван III), должна была обойти Устюг с севера и отрезать В1емяку от союзных ему подвинских земель. Войско княжича Ивана насчитывало около двадцати тысяч воинов, малолетнему князю помогали командовать воеводы князь С. И. Оболенский и Д. Д. Холмский. Шемяка, узнав о готовящемся окружении, бросил Устюг и бежал на север в Подвинье, и войско княжича Ивана, подкреплённое отрядом татарского касимовского царевича Ягупа, устремилось за ним в погоню. Догнать Шемяку с его небольшим отрядом не удалось, но рать Ивана разорила все земли по южному течению реки Двины – Шемяка больше не мог получить здесь помощи и поддержки. Между прочим, войско княжича Ивана истребило жившее на Двине языческое племя кокшаров – одно из последних в Европе славянских племён, не принявшее христианства.
Зимний поход 1451 —1452 гг. был первым самостоятельным предприятием княжича Ивана в качестве наследника Московского великокняжеского стола. С этого времени Василий II начинает активно привлекать сына к военным и политическим делам, готовить его к предстоящему княжению. Если в походе 1451 —1452 гг. Иван, вероятно, сам войсками ещё не командовал – это делали за него воеводы, – то спустя три года Иван становится настоящим самостоятельным военачальником и политическим деятелем.
Обо всём этом подолгу беседовала Мария Ярославна с митрополитом Феодосием. — Феодосий Бывальцев (около 1406 – 1478(?) г.) архимандрит Чудова монастыря в Москве (до 1454 г.), архиепископ Ростовский (1454—1461), митрополит Московский (1461 – 1464). Видный церковный деятель, энергичный борец за чистоту Церкви. Став митрополитом, жёстко требовал от всех монахов и священников беспрекословного следования всем догмам церковного устава, исполнения до последних мелочей всех православных обрядов, аскетического образа жизни, полного подчинения главам Церкви – епископам и самому митрополиту. За малейшие провинности лишал сана и ссылал в монастыри приходских священников, что привело к тому, что большинство церквей в Москве и ближайших к ней городах остались без священников и были закрыты. Это вызвало всеобщее недовольство горожан и протесты со стороны белого духовенства. Пытался влиять на Ивана III, вмешиваться в политические дела, желал абсолютно подчинить власти митрополита епископов и архиепископов, чем навлёк на себя недовольство великого князя и высших церковных кругов. 13 сентября 1463 г. церковным собором был низложен с митрополичьей кафедры и отправлен в монастырь, где и оставался до смерти. Низложение Феодосия (которое, правда, в документах было оформлено как добровольная отставка) стало первым в истории России случаем, когда митрополит ушёл со своего поста, а не скончался в сане главы Русской Церкви.
И так хотелось взглянуть ей в глаза, угадать, что мыслит, на что надеется деспина Зоя. — Зоя Палеолог (1443(?) – 07.4.1503) – великая княгиня Московская Софья Фоминишна (1472 – 1503), младшая дочь Фомы Палеолога, правителя (деспота) византийской провинции Морей, брата последнего императора Византии – Константина XI Палеолога, погибшего при защите Константинополя от войск турецкого султана Махмуда II в 1453 г. С падением Константинополя прекратилось и существование Византии. Фома Палеолог со своей семьёй бежал в Италию, где жил на скромную пенсию Папы Римского Павла II. После смерти Фомы Павел II стал искать выгодную партию для последней представительницы рода византийских императоров и остановил свой выбор на великом князе Московском Иване III. Папа рассчитывал на то, что, выдав замуж за православного монарха обязанную ему племянницу императора, сможет через Зою влиять на политические и, главное, религиозные дела Московского государства: стержнем политики папства во второй половине XV в. было распространение на некатолические земли Европы униатства – религиозного учения, возникшего в результате заключения в 1439 г. союза (унии) между Папой Римским и константинопольским патриархом. Согласно унии Православная Церковь, сохраняя в основном свои догматы и обряды, объединялась с Римско-католической и признавала главенство Римского Папы. В России униатство не было признано, и Павел II рассчитывал, что с помощью Зои Палеолог он сможет распространить свою власть на московские земли. Начавшиеся в 1469 г. переговоры с Москвой завершились 12 ноября 1472 г. свадьбой Ивана III и Зои Палеолог, которой пришлось предварительно отказаться от униатства и принять православное имя Софья Фоминишна. Расчёты Папы Павла II не оправдались: великая княгиня Софья Фоминишна не стала его марионеткой и не содействовала распространению униатства в России, а, напротив, была ревностной приверженицей Русской Православной Церкви.
От брака Ивана III с Софьей Фоминишной родилось пять сыновей. Энергичная и властная, Софья Фоминишна немало интриговала при великокняжеском дворе, желая добиться того, чтобы её старший сын Василий Иванович наследовал великокняжеский стол, что ей и удалось. Отношения Ивана III со второй женой были достаточно сдержанными – симпатизируя лично великой княгине, Иван III не позволял ей вмешиваться в государственные дела, свободно распоряжаться средствами из великокняжеской казны.
С появлением в Москве Софьи Фоминишны связывается принятие русским великокняжеским двором некоторых обычаев двора византийских императоров: роскоши, церемониалов и, в частности, государственного герба – двуглавого орла.
Посольство посадника Василия Ананьина из-за раскисших дорог добиралось до Москвы две недели, почти вдвое дольше обычного. – В ноябре 1471 года из Новгорода в Москву было послано посольство для получения согласия великого князя Ивана III на приезд в Москву для поставления в сан нового архиепископа Новгородского Феофила и обсуждения малозначащих экономических вопросов. Возглавлял посольство новгородский боярин Василий Андреевич Ананьин (? – после 1475 г.), происходивший из старинной фамилии бояр Ананьиных, противник Москвы, сторонник присоединения Новгорода к Литве. Позднее Ананьин участвовал в Шелонской битве, был пленён, но освобождён по ходатайству архиепископа Феофила, не изменил своих взглядов, в 1475 г. участвовал в разбойном нападении на Славкову и Никитскую улицы в Новгороде, где были сожжены и разграблены дома сторонников Москвы. За это в ноябре 1475 г. был отдан под суд, по приговору великого князя Ивана III «посажен в железы» и вместе с Фёдором Борецким отправлен на заточение в Муром, где, по-видимому, и умер.
«Если бы четырнадцать лет назад, – думал он, – не убоялись Василия Тёмного, не дали отпускного, а вышли бы всей новгородской ратью на войско московское, надолго бы, если не навсегда, сбили спесь с великого князя». — Речь идёт о событиях 1456 г. – походе великого князя Василия II Васильевича на Новгород. Этот поход стал завершающим актом междоусобной войны середины XV в. Покончив с Дмитрием Шемякой и его союзниками, Василий II отправился покарать Новгород за его пособничество врагам Москвы. Новгородцы выслали навстречу великому князю отборную рать – около десяти тысяч всадников, вооружённых и обученных по образцу орденских рыцарей, под командованием лучших новгородских воевод – князей Александра Чарторыжского и В. В. Гребёнки Шуйского, посадников Ивана Лукинича и Василия Казимера. Но 3 февраля 1456 г. под Русой это войско было наголову разбито четырёхтысячным передовым отрядом москвичей под начальством И. В. Стриги Оболенского и Фёдора Басенка. После этого поражения и взятия ратями Василия II нескольких городов в Новгородской земле Новгород запросил мира. В селении Яжелбицы в конце февраля был заключён мирный договор, по которому Новгород уплачивал Москве контрибуцию в восемь тысяч рублей, признавал власть великого князя, обязывался вернуть всех пленных и все земли, захваченные у Москвы в ходе междоусобной войны середины XV в. При всём том права самостоятельности Новгорода Яжелбицким договором подорваны не были, а подчинение московскому князю оставалось формальным.
Дьяк Степан Бородатый прибыл в Москву пятью днями раньше Ананьина. — Степан Бородатый (даты жизни неизвестны) – дьяк великой княгини Московской Марьи Ярославны, книжник, великий знаток летописей, мастер дипломатических переговоров. В 1448 г. очень удачно подготовил почву для заключения русско-литовского договора. Специалист по новгородским делам. В 1456 г. участвовал в «походе миром» великого князя Василия II на Новгород, в 1460 г. – в посольстве в Новгород. В 1452—1470 гг. несколько раз с неизвестной целью ездил в Новгород неофициально. Летописи связывают с его именем внезапную смерть князя Дмитрия Шемяки (см. прим, к стр. 50). В 1471 г. великий князь Иван III взял Бородатого с собой в поход на Новгород, дабы с его помощью мотивировать свои требования к новгородцам ссылками на летописную старину. Бородатому приписывается авторство московской повести о походе Ивана Васильевича на Новгород.
Нетерпеливые псковские посадники, приехавшие просить в наместники нового князя взамен гуляки и буяна Владимира Андреевича, три дня маялись, недоумевая и гадая о грехах своих. – Князь Владимир Андреевич Ростовский (? – 1470-е гг.). Служил в войске великого князя Московского Василия II, в 1462 г. поставлен им наместником во Пскове (против воли псковичей). На посту наместника зарекомендовал себя очень плохо – запустил государственные дела, занимался исключительно пьянством и развратом. В конце 1463 г. псковичи с позором изгнали князя Владимира Андреевича. Впоследствии Владимир Андреевич служил в московском войске. В 1474 г. передал свою часть Ростовского княжества Ивану III.
А на четвёртый день были милостиво приняты и получили князя Ивана Александровича Звенигородского – того, кого и хотели. – Князь Иван Александрович Звенигородский (? – после 1485 г.), служил великим князьям московским Василию II и Ивану III, был наместником в 1450-х гг. в Коломне, где неоднократно отражал набеги татар, в 1463 – 1467 гг. во Пскове. Псковичи сами пригласили князя Ивана Александровича и не ошиблись в нём: князь Иван зарекомендовал себя как мудрый и рачительный правитель, умелый и бесстрашный военачальник. После того как Иван III отозвал князя Ивана Александровича из Пскова, псковичи вплоть до смерти последнего постоянно просили великого князя снова вернуть князя Ивана Александровича на Псковское наместничество.
К тому же был Михаил Клопский сыном героя Куликовской битвы Дмитрия Боброка и дочери великого князя Ивана Красного Анны. — Князь Дмитрий Михайлович (Алибуртович) Боброк-Волынский (? – после 1397 г.) – боярин московский. Происходит из рода литовских волынских князей. В 1360-х гг. выехал на Русь. В 1368 г. перешёл на службу к великим князьям московским, где прославился как выдающийся военачальник и стал близким другом великого князя Дмитрия Донского. В 1371 г. разбил войска рязанского князя Олега, в 1376 г. подчинил Москве волжскую Булгарию, в 1379 г. отлично воевал в Москве. Особо прославился в Куликовской битве, где вместе с князем Владимиром Андреевичем Серпуховским командовал засадным полком, удар которого решил исход сражения в пользу русских. Первым из московских бояр удостоился чести породниться с великим князем: Дмитрий Донской выдал за него свою сестру Анну. Отец святого Михаила Клопского.
Иван II Иванович Красный (1326 – 13.11.1359) – князь Звенигородский (1341 – 1353), великий князь Владимирский (1353—1359), второй сын великого князя Ивана I Даниловича Калиты. Наследовал великое княжение по смерти своего бездетного старшего брата великого князя Семёна Ивановича. О его правлении известно мало. Частыми поездками в Орду Иван II добился расположения ханов, что позволило ему уберечь своё княжение от татарских набегов и выстоять в борьбе с Рязанью, Тверью и Новгородом. Был дважды женат. Его старший сын от первого брака (с некой неизвестного происхождения Александрой) – великий князь Дмитрий Иванович Донской. По преданиям, был очень красив, за что и получил прозвище Красный – красивый.
Анна Ивановна (?), княжна Владимирская, дочь великого князя Ивана II Ивановича, сестра Дмитрия Донского. В 1382 г. была выдана замуж за боярина князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского, славного воина, героя Куликовской битвы.
Углицкий князь Дмитрий Шемяка, утративший и власть, и войско своё, благополучно тем не менее обосновался в Новгороде, окружённый заботами и вниманием великих бояр. – Автор неточно передаст положение Дмитрия Шемяки в Новгороде в 1452 – 1453 гг. Потеряв зимой 1451 – 1452 гг. Углич и Подвинье, последнюю его опору в борьбе с Василием II, Шемяка бежал в Новгород, но был встречен там весьма холодно: новгородцы понимали, что князь Дмитрий Юрьевич обречён – у него нет больше сил бороться с великим князем Московским. В этой ситуации держать Шемяку в Новгороде становилось опасно – это был неприкрытый вызов Москве, и Василий II мог ответить военным походом. Большинство новгородцев не желало открытой конфронтации с сильным московским князем, поэтому Шемяке было отказано во всякой поддержке. Князь Дмитрий Юрьевич оставался в Новгороде лишь на правах частного лица, деньги на содержание ему давали несколько видных боярских семей, но почему они это делали: для того ли, чтобы впоследствии продолжить борьбу с Москвой, или для того, чтобы в нужный момент схватить Шемяку и выдать его московскому князю и заслужить тем благоволение Василия II, мы можем только гадать. Последовавшее вскоре отравление князя Дмитрия и то, что никто не понёс за это наказания, хотя имена отравителей были всем известны и даже записаны в летопись, говорит в пользу того, что Шемяка был в Новгороде скорее пленником, чем гостем.
Шемякинский боярин Иван Котов и посадник Исак Богородицкий сами отыскали Степана. – Автор допускает вольность в трактовке событий. Согласно сообщениям Сокращённых летописцев, отраву для Шемяки привёз в Новгород из Москвы дьяк Степан Бородатый. Он вошёл в сношения с новгородским (а не «Шемякиным») боярином Иваном Котовым, подкупившим повара по прозвищу Поганка, который и подсыпал яд в поданного князю Дмитрию цыплёнка. Новгородская летопись по списку Дубровского излагает события иначе – снова упоминаются Степан Бородатый, повар Поганка и отравленный цыплёнок, но помог Бородатому осуществить отравление посадник Исак Борецкий (см. о нём коммент. №6), который якобы сам разыскал Бородатого, взял у него яд и велел своему холопу Поганке, которого сам же посадник и отдал в услужение Шемяке, отравить кушанье. Об Иване Котове, кроме упоминания его в рассказе об отравлении, нам больше ни по каким источникам ничего не известно, равно как и о роде новгородских бояр Котовых вообще. Из этого можно предположить, что Котов – персонаж, вымышленный летописцами, и если кто-нибудь из новгородцев и содействовал дьяку Степану Бородатому в отравлении Шемяки, то скорее всего это был посадник Исак Борецкий.
Мыслю, Ивана Топоркова. — Иван Фёдорович Товарков-Пушкин (? – 1480-с гг.), знатный московский дворянин, приближённый великого князя Ивана III, в 1460 – начале 1480-х гг. неоднократно ездил с посольствами в разные русские земли, в частности в 1470 г. в Новгород, где присутствовал на вече, утвердившем проект договора с королём Казимиром. На этом вече Товарков должен был зачитать послание великого князя, предостерегающее Новгород от договора с королём, но, как сообщают летописи, московский посол имел слабый голое и его чтение, заглушаемое выкриками сторонников договора, никому не было слышно. Известны также посольства Товаркова в Псков в 1470 и 1471 гг. Род Товарковых-Пушкиных происходит от героя Невской битвы 1240 г. Гаврилы Алексича, к этому роду принадлежал и А. С. Пушкин.
Он слушал вполуха рассказ Йозефа о своей русской службе, о денежнике великого князя Иване Фрязине, должность которого надеялся вскоре занять, поскольку этого итальянца вновь отправляют с важным поручением в Рим... – Иван Фрязин (Джанбатиста Вольпе) (?) – ремесленник, итальянец по происхождению, вступивший в 1462 г. в службу к великому князю Московскому Ивану III. Специалист по монетному делу, строительству, изготовлению оружия и украшений. Его трудами в Москве было перестроено на современный для того времени лад все монетное дело: основан монетный двор, налажена чеканка качественной монеты. В копне 1460-х гг. исполнил несколько дипломатических поручений Ивана III, связанных с поездками в Италию.
И февраля 1469 г. в Москву прибыло посольство Римского Папы Павла И, предложившее Ивану III вступить в брак с Зоей Палеолог (см. прим, к стр. 43). Иван принял предложение, и для обсуждения условий брака летом 1469 г. в Италию было послано русское посольство, главой которого был назначен Иван Фрязин. Безродный иностранец, ставший послом в силу того, что в Москве не нашлось другого человека, который бы знал итальянский и греческий языки, обычаи Ватикана и пользовался при этом доверием великого князя, с честью исполнил поручение: спустя два года состоялась свадьба Ивана III и Зои Палеолог, а брачный договор, составленный Иваном Фрязиным, целиком и полностью отвечал интересам России.
На московском рубле разживёшься разве?.. — Основной денежной единицей как в Москве, так и в Новгороде XV в. был рубль. Но содержание серебра в московских монетах (рублях) было примерно на четверть ниже, чем в новгородских. Соответственно покупательная способность московских денег уступала новгородским, и вести торговые расчёты, особенно крупные, выгоднее и удобнее всего было новгородскими деньгами. Одним из условий подчинения Новгорода Москве было прекращение в Новгороде чеканки денег и ведение всех расчётов в московской монете. Это сильно ударяло но доходам новгородских купцов, особенно тех, кто вёл торговлю с иноземцами. Естественно, торговые круги Новгорода противились введению московских денег, и одна из главных причин того, что многие купцы поддерживали противников Москвы, было как раз нежелание отказываться от полновесной новгородской монеты.
То, что московский митрополит не утвердит его, Пимен допускал и готов был принять посвящение от митрополита Литовского Григория. – Григорий (? – 1488) – епископ Смоленский (1442—1458), в 1458 г. патриархом Константинопольским Григорием IV Маммой поставлен в митрополиты всея Руси. В Москве Григорий, как исповедовавший униатство, не был принят. Тогда Папа Римский Пий II определил его на митрополию в Киеве, дав сан митрополита Киевского и Литовского и всея Руси. В этом сане Григорий претендовал на главенство над Русской Православной Церковью и добивался её присоединения к Флорентийской унии. Попытки его завершились крахом, а независимость и постоянное требование денег от Папы и великого князя Литовского вызвали недовольство: в 1474 г. Григорий был сведён с кафедры и отправлен в монастырь.
Архиепископ Новгородский по существовавшим в древности и средневековье порядкам избирался на вече в Новгороде, но мог приступить к своим обязанностям лишь после того, как его кандидатуру утверждал («ставил») глава Русской Православной Церкви – митрополит Московский и всея Руси. Некоторые митрополиты являлись сторонниками, а нередко и просто послушными слугами политики великих князей московских, и московские князья пользовались правом митрополита утверждать или не утверждать архиепископа на Новгородском столе для того, чтобы не допускать на новгородское епископство ярых противников московского влияния и великокняжеских устремлений. В XV в., когда отношения Москвы и Новгорода накалились до предела, а сторонник взвешенной, взаимовыгодной политики – архиепископ Новгородский Иона (см. о нём прим. №19) скончался, претенденты на архиепископскую кафедру – владычный ключник Пимен и викарий Матфей, сторонники активной антимосковской политики, понимали, что в случае, если им повезёт на вече, митрополичьего утверждения они не получат, и, возможно, рассчитывали добиться «доставления» у митрополита-униата Григория.
В доме Марфы Ивановны он находил поддержку и единомышленников: Лошинского, Ананьина, Офонасова, Есипова. – Имеются в виду новгородские бояре – сторонники отделения Новгорода от Москвы и присоединения к Литве.
Посадник Иван Иванович Лошинский (? – после 1476 г.) – боярин новгородский, брат Марфы Борецкой, один из богатейших новгородцев, активный противник Москвы. С 1469 г. посадник. Участвовал в войне 1471 г. с Москвой, после продолжал антимосковскую политику. В 1475 г. участвовал в разбойном нападении на Славкову и Никитскую улицы в Новгороде, где были сожжены и разграблены дома сторонников Москвы. За это в ноябре 1475 г. был отдан под суд и но приговору великого князя Ивана III «посажен в железы» и отправлен на заточение в Муром, где, по-видимому, и умер.
Василий Ананьин, посадник (см. коммент. №18).
Есипов (Василий Есипович), тысяцкий (см. прим. №8).
Дмитрий Офонасов, боярин.
К тому же и поддержка вдруг объявилась у Феофила: архимандрит Юрьева монастыря Феодосий, игумены Нафанаил и Варлаам Хутынского и Вяжицкого монастырей, бояре Александр Самсонов, Офонас Груз, Феофилат. Даже Захария Овин, богаче которого нет в Новгороде Великом. – Нафанаил (? – 1499) – игумен Хутынского монастыря (1467 – 1499) в Новгородской земле; Варлаам (? – 1512) – игумен Вяжицкого монастыря (1459 – 1512) в Новгородской земле; Александр Самсонов (?) – боярин новгородский, сторонник Москвы, в 1475 г. вступил в службу к великому князю Московскому Ивану III; Офонас Груз (? – после 1488 г.) – боярин новгородский, один из богатейших жителей Новгорода, придерживался умеренных позиций в политической борьбе Новгорода с Москвой, в 1488 г. выселен из Новгорода и лишён всех владений, но получил в компенсацию солидную вотчину под Москвой; Феофилат (? – после 1490 г.) – боярин новгородский, последний новгородский посадник (1471 – 1478), сторонник мирного урегулирования отношений с Москвой. Заключил от имени Новгорода договор 1478 г. о ликвидации новгородской независимости с великим князем Иваном III. Был одним из немногих новгородцев, не подвергшихся «выводу» и сохранивших свои владения; Захария Григорьевич Овин (Овинов) – новгородский боярин, по легенде – богатейший новгородец второй половины XV в., сторонник Москвы, не спасшийся, однако, от лишения владений и «вывода» в 1478 г.
Приглашённый из Киева князь Михаил Олелькович был православным. — Князь Михаил Олелькович (Александрович) (1435 – 1489) происходил из рода потомков великого князя Литовского Ольгерда, князь Киевский (1471 – 1489). Приглашён на княжение в Новгород в 1470 г., 8 ноября 1470 г. въехал в Новгород, однако не стал проводить ожидавшуюся от него новгородскими боярами политику активной борьбы с Москвой, а выступил за нормализацию московско-новгородских отношений при соблюдении новгородской независимости. Это вызвало недовольство противников Москвы в Новгороде. Князь Михаил поссорился с боярами Борецкими и в марте 1471 г. выехал из Новгорода в Литву. По пути его дружина безжалостно грабила новгородские земли. По приезде в Литву Михаил Олелькович занял Киевский стол, где княжил до смерти.
– Что с посольством? — Имеется в виду третье и последнее посольство Новгорода к королю Польскому и великому князю Литовскому Казимиру, отправившееся из Новгорода весной 1471 г. Возглавляли посольство посадники Офонас Олферьевич и Дмитрий Борецкий. Задачей этого посольства было заставить Казимира ратифицировать утверждённый вечем договор и принять Новгород в состав владений короля. Переговоры, длившиеся около месяца, закончились неопределённо – Казимир соглашался взять Новгород под свою власть, но требовал больших, чем предоставлялось ему по договору, прав власти и большие доли в государственных доходах. Возможно, король нарочно затянул и не довёл до конца переговоры: он знал о готовящейся московско-новгородской войне и не имел реальной возможности помочь Новгороду в ближайшее время – его войска были заняты войнами в Венгрии и на южных границах. Втягиваться в таких условиях ещё и в войну с Москвой было бы безумием. Вероятно, Казимир хотел выждать и испытать своего будущего вассала – Новгород: сможет ли тот противостоять Москве, имеет ли смысл принимать его в состав своих владений. По окончании переговоров Казимир на словах обещал помочь новгородцам в войне с Москвой, но никак не оговорил условии этой помощи и отказался приносить какие-либо клятвы.
– Я подумал, может, с Шуйским отослать его? – Князь Василий Васильевич Гребёнка Шуйский (около 1410 – 1478—1479 гг.), князь Псковский (1448 – 1455), князь Новгородский (1455 – 1456, 1462 – 1477), наместник великого князя Московского в Суздальско-Нижегородском княжестве (1477 г. – до кончины), происходит из рода князей Шуйских, бывших в XIV в. владетелями Нижнего Новгорода, затем, после подчинения Нижнего Новгорода Москве, служивших князьям московским и их противникам. Отец князя Василия Васильевича Гребёнки – князь Василий Юрьевич – был одним из ближайших сподвижников князя Дмитрия Шемяки (см. о нём прим, к стр. 23) и воспитал сына противником великих князей московских. В 1448 г. князь Василий Васильевич Гребёнка был приглашён на княжение во Псков, где княжил до 1455 г. Зарекомендовал себя как блистательный военачальник (в войнах с Орденом) и мудрый правитель, был очень любим псковичами. Создал в Пскове тяжеловооружённую конницу, организованную но образцу орденских войск, блестяще сражавшуюся с немецкими и литовскими рыцарями. Должен был оставить княжение, так как понимал, что Псков не может противостоять могуществу Москвы и должен ей подчиниться, и в этом случае великий князь Василий II Васильевич, чьим врагом считал себя князь Василий Гребёнка, несомненно пленил бы его и послал в заточение. В 1455 г. князь Василий Гребёнка въехал в Новгород и был провозглашён новгородским князем. Зная о его мудром правлении во Пскове, новгородцы дали князю Василию Гребёнке расширенные властные полномочия и подарили несколько богатых земельных владений (этой чести не удостаивался ещё ни один князь Новгородский). Князь Василий Гребёнка в преддверии войны с Москвой в первую очередь занялся военными делами и в короткое время сформировал в Новгороде пятитысячный отряд отборной тяжёлой конницы, но не успел его обучить и подготовить к войне: зимой 1456 г. новгородцы были разбиты войсками великого князя Василия И. Князь Василий Гребёнка должен был бежать из Новгорода и до смерти Василия II управлял Заволочьем. В 1462 г. он снова был провозглашён новгородским князем, верно служил Великому Новгороду до 1477 г. Он был противником подчинения Новгорода Литве, за что его не любили бояре Борецкие и их союзники, мстившие князю тем, что всячески мешали ему организовать и обучить войско. Тем не менее князь Василий Гребёнка честно оборонял границы Новгородской земли и дольше и настойчивее других сопротивлялся великому князю Московскому Ивану III. Интересно, что Иван III глубоко уважал князя Василия и после своей победы над Новгородом не только никак не наказал его, по одарил подарками и приглашал перейти на московскую службу, но князь Василий оставался вереи своей клятве Новгороду до тех пор, пока в 1477 г. не понял, что новгородская самостоятельность изжила себя, а сепаратистские устремления новгородских бояр лишь вредят единому русскому государству. Тогда князь Василий торжественно сложил свою клятву Новгороду и был с честью принят в службу Иваном III. Великий князь Московский, демонстрируя доверие и уважение к князю Василию Гребёнке, поставил его наместником в Нижнем Новгороде – пограничной области между Русью и Золотой Ордой, самом ответственном участке русской границы и – что весьма символично – древнем родовом владении князей Шуйских. На этом посту князь Василий Васильевич и скончался.
Великая боярыня, вдова Анастасия Григорьева, прозванная «богатой Настасьей»... — Анастасия Григорьева (около 1440 – 1500-е гг.) – Новгородская боярыня, жена боярина Ивана Григорьева, после его смерти (1464(?) – владелица огромных вотчин, одна из богатейших жительниц Новгорода XV в. Сторонница Москвы, в 1469 – 1470-х гг. активно поддерживала деньгами и советом все промосковские группировки в Новгороде. Зимой 1475 – 1476 г. во время «похода миром» на Новгород в её доме гостил сам великий князь Иван III. Но ни заискивания перед Иваном III, ни интриги и предательства не спасли Анастасию Григорьеву – в 1484 г., во время очередного «вывода» новгородских бояр, все её владения были конфискованы, а сама Анастасия вместе с другими боярами вывезена из Новгорода и поселена в скромном имении под Коломной.
– Ну гляди, Упадыш, откроется дело, шкуру с тебя спущу! – Упадыш (? – 1471) – упоминаемый Новгородской II и Новгородской IV летописями житель Новгорода, который, если верить летописному сообщению, приняв «мзду от беса злоначального» (то сеть взяв деньги у некоего знатного недоброжелателя Новгорода. – Г. К.), «перевет держаша (то есть предался москвичам. – Г. К.) и Великому Новугороду зла хотеша... и гофуницы (т. о. артиллерийские орудия, близкие к тому типу, который сегодня называется гаубица. – Г. К.) на стене градской железом заколотиша и тех гофуницов числом пять» (Полное собрание русских летописей, Л., 1922, т. 4, ч. 1, вып. 2, с. 447 – 448). Как повествует летопись, вредительство Упадыша было раскрыто, толпа схватила его и «со стены градской пометаша». Поздняя Московская летопись добавляет к этому, что Упадыш «со товарищи» вывел из строя несколько лодей, на которых отправлялась против москвичей новгородская судовая рать.
Шестого июля к великому князю прибыли новгородские послы, житьи Плотницкого и Загородного концов Лука Остафьев и Окинф Васильев, посланные вечем с предложением начать мирные переговоры. – Узнав о походе московских войск на Новгород летом 1471 г., новгородцы сочли это обычным великокняжеским походом вроде неоднократно случавшихся прежде. Обыкновенно такие походы заканчивались без больших сражений – высылаемое навстречу москвичам посольство заключало устраивающий обе стороны договор. Новгород выплачивал определённую сумму откупа и обещался сохранять верность великому князю, на что последний отвечал клятвой держать Новгород «но старине». В 1471 г. новгородцы решили действовать по традиционному сценарию: высланное ими посольство имело полномочия предложить Ивану III откуп. Однако Иван III, желавший не смирения, а покорения Новгорода, не принял предложений послов.
Сказано было ясно и определённо: снять осаду Демона и двигаться к устью Шелони на соединение с псковичами, а дабы о спине своей не опасались», осаждённый городок оставить на попечение воинов князя Михайлы Андреевича Верейского и сына его князя Василия. – Князь Михаил Андреевич Верейский-Белозерский (около 1400 – 1486 г.) – удельный князь, верный вассал и сторонник великих князей московских Василия II и Ивана III. Участвовал со своим полком во многих походах московского войска, в частности на Новгород в 1471 и 1478 гг., против войск хана Ахмата на Угру в 1480 г. В 1483 г., после бегства сына в Литву, завещал свой удел Ивану III.
Князь Василий Михайлович Верейский (около 1440 – 1509 г.) – сын князя Михаила Андреевича. Вместе с отцом хранил верность великим князьям московским, участвовал в их походах, должен был наследовать Верейско-Белозерский удел, но в 1483 г. по неизвестным причинам бежал в Литву, где получил во владение три села и оставался там до конца жизни.
В походе 1471 г. на Новгород Верейско-Белозерскому полку была поручена осада новгородского города Демона.
И тут же сотня лучников, услышав долгожданный клич, выпустила первую сотню стрел по лошадям передового полка. — Все летописи, по-разному описывая Шелонскую битву, сходятся в одном: начало успеху москвичей положили лучники. Ударную силу новгородского войска составляла созданная князем Василием Васильевичем Гребёнкой Шуйским (см. о нём коммент. №34) тяжеловооружённая конница. Её удара не могли выдержать ни литовские войска, ни орденские рыцари, ни ополчения русских земель. Но москвичи нашли слабое место в вооружении новгородских всадников – кони новгородцев не были защищены доспехами. Поэтому москвичи выдвинули вперёд лучников и открыли ураганную стрельбу по лошадям. Кони новгородцев взбесились, перестали слушаться наездников, строй всадников смешался, наступательный порыв захлебнулся. Новгородцы повернули назад, смяли свою же пехоту, привели в расстройство всё войско – и тем создали блестящие условия для московской контратаки, чем последние и воспользовались.
Полк подчинился и сперва медленно, затем все быстрей и быстрей поскакал за Дмитрием, сметая москвичей. — Владычный полк – полк, составленный из людей архиепископа Новгородского и содержавшийся на его средства, имел строгий приказ архиепископа Феофила не вступать в бой с москвичами и воевать только против псковичей. В Шелонской битве полк не должен был участвовать, и большинство летописей сообщает, что так и случилось. Лишь Новгородская IV летопись и несколько зависимых от неё поздних летописей говорят, что часть владычного полка принимала участие в сражении.
Почти всё московское войско с остервенением бросилось преследовать беспорядочно бегущую рать новгородцев, добавляя к числу павших в бою десятки, сотни, тысячи трупов... – В битве на Шелони примерно сорокатысячное новгородское войско потеряло около двенадцати тысяч человек убитыми и две тысячи пленными.
При известии о Коростыньском побоище архиепископ Феофил забеспокоился не на шутку, засуетился и в два дня снарядил Луку Клементьева, небогатого боярина, за опасом к великому московскому князю. — После разгрома новгородского войска на Шелони архиепископ Новгородский Феофил послал к великому князю Ивану III посольство, имевшее целью получить у великого князя разрешение для приезда к нему архиепископа для ведения переговоров о капитуляции Новгорода и решения вопроса о поставлении Феофила в сан митрополитом Московским и всея Руси. Посольство возглавлял житьий человек Лука Клементьев, игравший с этого времени заметную роль в московско-новгородских отношениях и принимавший участие во всех посольствах 1471 – 1478 гг., когда Лука покинул Новгород и вступил в московскую службу. В 1471 г. он успешно выполнил поручение Феофила и привёз ему верительные («опасные») грамоты Ивана III.
Великий князь Иван Васильевич принял вестника от Холмского, сына боярского Ивана Замятню, остановившись в ямском селении Яжелбицы, в трёх днях пути до Русы. – Иван Замятня (Замятин) – сын боярский московский, находился в отряде князя Д. Д. Холмского и был послан им с известием о Шелонской победе к великому князю Ивану III. За привезённую добрую весть Замятня был пожалован землями и чином окольничего.
Яжелбицы – село в Новгородской земле. Принимая там новгородских послов в 1471 г., великий князь Иван III вложил в это символический смысл: в 1456 г. там же его отец Василий II после победы над Новгородом заключил выгодный договор. Теперь Иван III демонстрировал преемственность своей политики с политикой отца и придавал своей акции оттенок завершения трудов Василия II но покорению Новгорода.
Сюда же прибыли и братья его с ратями: Юрий, Борис и Андрей Большой. – Юрий Васильевич (1442 – 12.09.1480), князь Дмитровский, Можайский, Серпуховский и Хотуньский, второй сын великого князя Василия II. Отличался независимым правом, но должен был до смерти своей подчиняться старшему брату – великому князю Ивану III. Участвовал во всех его походах, в частности на Новгород в 1471 г. После смерти (князь Юрий был бездетным, так как Иван III запретил ему жениться) Иван III присвоил себе удел князя Юрия, что послужило причиной раздора между Иваном III и младшими братьями, желавшими получить долю в наследстве князя Юрия.
Андрей Васильевич Большой (1446 – 1493) – князь Углицкий и Звенигородский, третий сын великого князя Василия И. До 1480 г. беспрекословно подчинялся старшему брату – великому князю Ивану III, участвовал во всех его походах, в том числе на Новгород в 1471 г., но после смерти князя Юрия Васильевича потребовал доли в его наследстве, вступил в конфронтацию с Иваном III, завершившуюся тем, что в 1492 г. князь Андрей был заточен в темницу, где вскоре и умер. По легенде, Иван III любил Андрея Большого больше всех своих братьев и очень сожалел о его заточении, но не мог освободить князя Андрея, так как считал, что это привело бы к новой междоусобной войне.
Борис Васильевич (1450 – 25.05.1494) – князь Волоцкий, шестой сын великого князя Василия II. До 1480 г. беспрекословно подчинялся старшему брату – великому князю Ивану III, участвовал во всех его походах, в том числе на Новгород в 1471 г., но после смерти князя Юрия Васильевича потребовал доли в его наследстве и с тех пор время от времени вступал с ним в споры, отстаивая свои удельные права. В 1492 г. после заточения князя Андрея Большого, опасаясь подобной участи, бежал в Литву, но скоро вернулся, был прощён и княжил в своём уделе до смерти.
...посадника и московского боярина Дмитрия Борецкого, с ним Василия Селезнёва Губу, а от житьих людей – Киприяна Арбузьева да Еремея Сухощёка казнить немедля отсечением главы!.. — Во-первых, казнены были не четыре человека, а больше: Софийская II и Типографская летописи упоминают имена Борецкого, Селезнёва, Арбузьсва и Сухощёка «сотоварищи» (Полное собрание русских летописей, СПб., 1853, т. 4, с. 193; Пгр., 1921, т. 24, с. 190). Во-вторых, автор передал не все тонкости казни начальников новгородского войска. Случай этот был беспрецедентным в российской истории: военнопленных бояр, знатных людей никогда не казнили, но всегда назначали за них выкуп или, в очень редких случаях, посылали на время в заточение. Иван III решился на казнь новгородцев, поскольку стремился всеми возможными способами продемонстрировать, что его поход не обычное, не раз бывавшее ранее, наказание Новгорода за «непокорство» и несвоевременную уплату дани. Иван III желал раз и навсегда покончить с самостоятельностью Новгорода и самоуправством новгородских бояр. Поэтому он и приказал произвести невиданный ранее акт устрашения – казнь военачальников. Но тем не менее Иван III не мог полностью преступить старинных традиций и предать смерти всех воевод. Были избраны лишь четверо, казнить которых Иван имел право в соответствии с юридическими нормами того времени: Дмитрий Борецкий был боярином великого князя Московского, его выступление против своего господина, естественно, рассматривалось как измена, и Иван III имел право наказать своего слугу. Василий Губа Селезнёв находился в прямом подчинении Дмитрия Борецкого, был фактически его слугой и, но нормам средневекового права, должен был наравне со своим господином отвечать за все их совместные Действия. Еремей Сухощёк находился на службе архиепископа Новгородского и, позволив части своих войск участвовать в сражении, нарушил тем самым запрет своего господина (архиепископ позволил своему полку сражаться только против псковичей и запретил поднимать оружие против Москвы), то есть мог рассматриваться как изменник и обманщик. Иван III повелел казнить его от имени архиепископа, и Феофил позднее одобрил это решение. Киприан Арбузьев в 1460-х гг. жил в Москве и служил в войске великого князя. Его выступление против бывшего своего господина также было рассмотрено как измена, за которую Иван III мог наказать своего неверного слугу. Таким образом, выбор приговорённых к смерти был не случаен и объяснялся не тем, что казнённые были самыми ярыми противниками Москвы, а тем, что только их Иван III имел право наказать смертью.
Из двенадцати тысяч ратников большинство составляли заволочане и двиняне, которых и ратниками-то язык не поворачивался назвать. Набранные силой, вовек не бравшие меча в руки, промышлявшие всю жизнь рыбною ловлею да охотой, они не понимали, чего от них хотят новгородские воеводы, за что ведут сражаться. – Автор допускает ряд неточностей. Во-первых, заволочане и двиняне – лесные охотники, рыболовы, промысловики, всю жизнь проводили в суровых северных лесах, где им приходилось бороться с негостеприимной природой, голодом, непогодой, опасным зверем, местными жителями-дикарями, своими же соплеменниками-конкурентами. Такая жизнь воспитывала из северян закалённых и умелых воинов. Во все времена заволочане и двиняне были лучшими бойцами новгородских войск, особенно же сильны они были, когда им приходилось вести войну на своей земле – в непроходимых лесах Севера. Во-вторых, они отлично понимали, чего от них хотят «новгородские воеводы, за что ведут сражаться», и именно поэтому они неохотно шли на войну. Дело в том, что основные богатства Новгорода происходили из северных земель – здесь добывали бесценные меха, промышляли мёд, воск, курили смолу, через эти земли в Новгород попадал баснословно дорогой моржовый бивень. Все эти богатства попадали в руки новгородских бояр, владевших двинскими и заволочанскими землями и обкладывавших местное население громадными налогами. Естественно, новгородское владычество не пользовалось популярностью на Севере и Заволочье, и Подвинье охотно обращались к великому князю Московскому. В 1450-х гг. Север добровольно перешёл в состав владений великого князя Василия II Васильевича, но Василий II не сумел удержать эти земли, и Новгород отвоевал их обратно. На рубеже 1470-х гг. промосковские настроения в Подвинье и Заволочье снова усилились.
Следовало отказаться от любых договоров с королём Казимиром, а также не принимать ни под каким предлогом злейших недругов великого князя: князей Ивана Можайского и Ивана Шемячича, сына князя Дмитрия Юрьевича, и ни детей их, ни зятьев, ни прочих родичей. – Князь Иван Андреевич Можайский (около 1410 – 1483 г.) сын князя Андрея Ивановича Можайского, непримиримого противника великого князя Василия II и верного союзника князя Дмитрия Шемяки. Активно содействовал отцу в его борьбе с Василием II, в 1457 г. после подчинения Можайска Москве был вынужден бежать в Литву, где получил от Казимира IV небольшой удел, в котором концентрировались противники Москвы. Не оставлял надежды возобновить борьбу за дело своего отца, до самой своей смерти.
Князь Иван Дмитриевич Шемячич (Шемякин) (1430 – 1507) сын злейшего врага великих князей московских галицкого князя Дмитрия Шемяки. После гибели отца в 1453 г. бежал в Литву, где получил от Казимира IV небольшой удел. Мечтал отомстить за отца, вместе с князем Иваном Андреевичем Можайским был душой зарубежной оппозиции великим князьям московским.