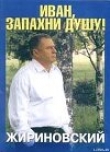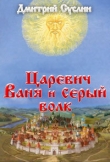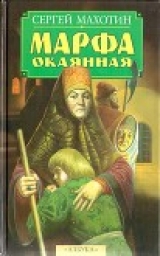
Текст книги "Марфа окаянная"
Автор книги: Сергей Махотин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Он вновь засмеялся.
– За что они тебя? – спросил Ваня.
– За дело, – беспечно признался Акимка. – Сам нарвался. Вслух шутканул: мол, понаехали рушане со своими вшами! А тощий тот с кистенём рушанином оказался. Остальные тоже из его родни, хоть и здешние.
Ваня покачал головой:
– С тобой, Акимка, всегда что-нибудь случается. Прямо боюсь рядом с тобой идти – опять из-за тебя и мне достанется.
– И не говори, – кивнул Акимка. – Сам на себя удивляюсь. Видать, судьба така.
Впрочем, незаметно было, чтобы он испытывал сожаление по поводу своей судьбы.
– Как боярыня Григорьева тебя поймала, помнишь? – спросил он.
Ваня кивнул, нахмурившись. Ещё бы он не помнил! Такой позор не скоро забудешь.
– Я ведь на сеннике тогда до темноты и просидел. Спустился в потёмках, бегом к забору, а доска-то и заколочена! Я туда, сюда – нет пути! Слышу, псы лают, ко мне приближаются. Уж как я подпрыгнул да ухватился за верхний край, и сам не знаю по сей день. Страх силы прибавил!
Он посмотрел на Ваню и хлопнул себя ладонями по бёдрам.
– А у тебя силы-то, гляжу, прибавилось! Эвон как паренька киданул, чуть дух не выбил из него! И росту прибавилось, гляжу. С тобой теперь не боязно хоть на Торг ходить, хоть ещё куда.
– Ты что же думаешь, – усмехнулся Ваня, – мне боле дел нет, как тебя из драк вызволять?
– Не, это я так, к слову. А вызволять если и придётся, то уж не тебе.
– Почему это? – Ване даже обидно стало слегка от таких слов.
– Уезжаем мы, – признался Акимка. – На Москву. Кровельничать позвали. Тощий, он ведь чего ещё злобствовал на меня? Его отца москвичи зарубили, а я с отцом к москвичам еду. Так-то вот.
Ваня подумал о своём отце и тоже вдруг почувствовал к Акимке нечто вроде отчуждения. Тот, не глядя на Ваню, продолжал:
– Да не одни мы, многи мастера едут. Отец долго думал, прикидывал, боязно ему. А я нет, не боюсь. Тоже, чай, люди, москвичи-то, храмы строят. Я на церквах люблю робить, где повыше, не то что на трухлявом сеннике григорьевском. Заберёшься под самый купол, аж дух захватыват от высоты, так бы, кажись, шагнул и полетел.
Мальчики шли вдоль досок, и Ваня с удивлением слушал откровения бесшабашного Акимки. Вдруг тот остановился и приложил палец к губам. За ближайшим штабелем раздавались негромкие мужские голоса.
Говорили двое. Голос первого звучал гневно, переходя порой в гусиное шипение. Второй – виновато, будто оправдываясь. Было ясно, что оба таились от посторонних глаз и ушей, это и заставило Акимку насторожиться и замереть. Они с Ваней спрятались в проходе и невольно стали слушать чужой разговор.
– Я что тебе велел, а? Чтобы течь не у берега, а на большой воде открылась! А ты, расхляба, что наделал?
– Одна всего промашка и вышла. С одной лодьи не догадаются...
– Да как не догадаются! Сейчас вон смолить начнут и конопатить её, дыру-то и узрят твою! Ах расхляба ты этакая!.. Мало разве уплачено тебе?
– Не сумлевайся, Яков Ляксандрыч, не заметють...
– Ты сколь дыр просверлил?
– С десяток, не менее...
– Как с десяток? Уговор был на две дюжины!
– Караульных вчера выставили купцы, не подобраться было.
– Так позавчера сделал бы!
– Один не управился. Коротка ночь-то...
– Ну гляди, Упадыш, откроется дело, шкуру с тебя спущу{36}!
Наступило молчание, затем удаляющиеся шаги. Ваня с Акимкой поспешили к берегу, на открытое место. Голос одного из говоривших был Ване знаком. Он покрутил головой и увидел того, кого и ожидал увидеть. В негустой толпе зевак, наблюдавших за спуском на воду боевых лодей, стоял его дед по матери Яков Александрович Короб. Ваня быстро присел, прячась за бревно.
– Ты чего это? удивился Акимка.
– Беги к старшому, скажи, что лодьи дырявлены, – велел Ваня. – Мне нельзя открываться пока.
Акимка кивнул и потрусил вдоль берега, вскидывая песок задниками своих широких лаптей.
Ваня заторопился домой. Уже издали он обернулся и увидел, как лошади, понукаемые мужиками, тянут на берег другую лодью, давшую течь.
Марфа Ивановна в тот день почувствовала себя лучше. Пользуясь этим, решила сделать то, что давно собиралась, да не могла по здоровью. Приказала заложить возок и отправилась навестить бывшего степенного посадника Ивана Лукинича Щёку. Так что ни Онфимья Горшкова не застала её дома, ни Ваня, взволнованный и запыхавшийся.
Иван Лукинич не вставал. В тереме ходили на цыпочках, окон не отворяли, застоявшийся воздух пропитался запахами каких-то целебных травяных настоек и слежавшегося белья.
– Слыхал, хворала, – слабым голосом произнёс Иван Лукинич. – Теперь-то вроде ничего выглядишь, молодо.
– Какое там молодо! – отмахнулась Марфа, вглядываясь в истощённое болезнью и старостью бледно-жёлтое лицо. Она даже рада была полумраку в горнице, смягчающему явные признаки умирания. Теперь о наполненной событиями жизни Ивана Лукинича напоминали разве что по-прежнему воинственные клочья седых бровей.
– Спасибо, что навестила, – сказал он. – Ты единственная и нашла время, другим недосуг. Теперь уж навряд на этом свете свидимся.
Марфа было сделала протестующий жест, но Иван Лукинич заговорил снова:
– Да ты не жалей меня. Пожил, и слава Богу! Себя жалей... – Он помолчал, собираясь с силами. – Мне отсюда, с одра моего, многое яснее видится, нежели из Вечевой палаты. Предвижу я конец Новгорода Великого. И это больнее, чем тут внутри. – Он указал на грудь себе.
– Полно, Иван Лукинич, – покачала головой Марфа. – Что ты терзаешь душу свою, будто монах ясновидящий. Вот погоди, вернутся наши из похода, я тебя ещё на пир к себе вытащу.
– Людей не вижу вокруг достойных славы новгородской, – продолжал, словно не слыша её, Иван Лукинич. – Были ведь ране, куда делись, не пойму? Хоть Исака Андреича твоего взять. А Иона архиепископ был каков, нынешний разве чета ему!
– Э, разворчался! – попыталась подтрунить над ним Марфа. – Это уж так заведено, что старики на нынешний день брюзжат, на вчерашний любуются. Молодых-то наших вспомни – Селезнёва, Своеземцева, Савёлкова, Дмитрия моего! Чем не люди тебе!
– Спорить с тобой не хочу, – прошептал Иван Лукинич. – Не по мне забава сия, да и си лов нет. А раз уж пришла, послушай старика. Не стало боле в людях согласья. Ране за вольницу нашу, за Великий Новгород, каждый, что чёрный человек, что боярин, голову свою рад был положить, всяк гордился, что новогородец он, в бою вперёд вырваться норовил. А нынешнее ополчение как собирали? Понуканьем, угрозами да посулами. По доброй воле много ль пошло народу вольницу свою от великого князя Московского оборонять? То-то ж... Потому как вольницы нет давно...
Он зашёлся тихим сухим кашлем. Марфа Ивановна привстала, раздумывая, не позвать ли кого? Иван Лукинич жестом остановил её, дотянулся дрожащей рукой до чаши с отваром, отпил глоток. Прикрыл глаза, отдыхая. Затем вновь заговорил:
– Житьим да чёрным людям вече ни к чему теперь стало. Кричи не кричи, а как Марфа Борецкая иль Настасья Григорьева решит, так и будет. Оборванцы на вечевой сход как на заработок идут. Ну да ты сама знашь... – Он глубоко вздохнул и поморщился от боли в груди. – Я ведь не об этом хотел молвить. Главное послушай теперь. Князь Иван не вдруг начнёт вотчины отымать у вас, сколько-то повременит, не управиться ему зараз со всеми землями новгородскими. И наместники во власть войдут не вдруг, тоже время пройдёт. Время-то и используйте. Силы копите, воев обучайте, распри свои оставьте до лучшей поры. Может, и удастся вольницу Великому Новгороду вернуть, гибели и позора избежать на радость потомкам. За это буду на небе Господа Бога молить, на земле уж не успею...
«А ведь он и в мыслях даже не допускает, что одолеем мы ныне великого князя!» – с изумлением думала Марфа, возвращаясь в свой терем на Великой улице. Ничто в Иване Лукиниче не походило на того степенного посадника, которого она знала всего несколько месяцев назад, кто сидел по её правую руку на шумных пирах, кто надеялся пресечь притязания великого князя Ивана Васильевича на Великий Новгород как на вековечную свою отчину.
Марфа была раздражена и сердита, забыла даже о жалости, которую испытывала к умирающему, готова была изругать его гневными словами. На сердце было неспокойно, тревожно. («Как бы не накаркал старый беды!») С тоской подумала о сыновьях. Как там Феденька с Митенькой? Здоровы ли? Живы ли?..
Глава девятая
«Холмский стоял между Ильменем и Русою, на Коростыне; пехота новгородская приближалась тайно к его стану, вышла из судов и, не дожидаясь конного войска, стремительно ударила на оплошных москвитян. Но Холмский и товарищ его, боярин Фёдор Давыдович, храбростию загладили свою неосторожность: положили на месте 500 неприятелей, рассеяли остальных и с жестокосердием, свойственным тогдашнему веку, приказав отрезать пленникам носы, губы, послали их искажённых в Новгород. Москвитяне бросили в воду все латы, шлемы, щиты неприятельские, взятые в добычу ими, говоря, что войско великого князя богато собственными доспехами и не имеет нужды в изменнических.
Новгородцы приписали сие несчастие тому, что конное их войско не соединилось с пехотным и что особенный полк архиепископский отрёкся от битвы, сказав: „Владыка Феофил запретил нам поднимать руку на великого князя, а велел сражаться только с неверными псковитянами". Желая обмануть Иоанна новгородские чиновники отправили к нему второго посла с уверением, что они готовы на мир и что войско их ещё не действовало против московского. Но великий князь уже имел известие о победе Холмского и, став на берегу озера Коломны, приказал своему воеводе идти за Шелонь навстречу псковитянам и вместе с ними к Новгороду; Михаилу же Верейскому осадить город Демон. В самое то время, когда Холмский думал переправляться на другую сторону реки, он увидел неприятеля столь многочисленного, что москвитяне изумились. Их было 5000, а новгородцев от 30000 до 40000, ибо друзья Борецких ещё успели набрать и выслать несколько полков, чтобы усилить свою конную рать. Но воеводы Иоанновы, сказав дружине: „Настало время послужить государю; не убоимся ни трёх сот тысяч мятежников; за нас правда и Господь Вседержитель", бросились на конях в Шелонь, с крутого берега и в глубоком месте; однако ж никто из москвитян не усомнился следовать их примеру, никто не утонул; и все, благополучно переехав на другую сторону, устремились в бой с восклицанием: Москва! Новгородский летописец говорит, что соотечественники его бились мужественно и принудили москвитян отступить, но что конница татарская, быв в засаде, нечаянным нападением расстроила первых и решила дело. Но по другим известиям новгородцы не стояли ни часу: лошади их, язвимые стрелами, начали сбивать с себя всадников; ужас объял воевод малодушных и войско неопытное; обратили тыл, скакали без памяти и топтали друг друга, гонимые, истребляемые победителем; утомив коней, бросались в воду, в тину болотную; не находили пути в лесах своих, тонули или умирали от ран; иные же проскакали мимо Новгорода, думая, что он уже взят Иоанном. В безумии страха им везде казался неприятель, везде слышался крик: Москва! Москва! На пространстве двенадцати вёрст полки великокняжеские гнали их, убили 12000 человек, взяли 1700 пленников, и в том числе двух знатнейших посадников, Василия Казимера с Дмитрием Исаковым Борецким; наконец утомлённые возвратились на место битвы».
Карамзин
«И взяли сначала Русу и святые церкви пожгли, и всю Русу выжгли, и пошли на Шелонь, воюя; псковичи же князю помогали и много зла новгородским землям нанесли.
И новгородцы вышли навстречу им на Шелонь, а к Русе послали новгородцы рекою войско и в пешем строю бились долго и побили много москвичей; но и пешего войска новгородцев полегло много, а иные разбежались, а других москвичи схватили; а конное войско не подошло к пешему войску на помощь вовремя, потому что отряды архиепископа не желали сразиться с княжеским войском, говоря: „Владыка нам не велел на великого князя руки поднять, послал нас владыка против псковичей". И стали новгородцы кричать знатным людям, которые прибыли с войском к Шелони: „Сразимся сейчас", но каждый говорил: „Я человек небольшой, подрастратился конём и оружием".
Москвичи же до понедельника отложили бой, ибо было воскресенье.
И начали они биться, и погнали новгородцы москвичей за Шелонь-реку, но ударил на новгородцев засадный татарский полк, и погибло новгородцев много, а иные побежали, а других похватали, а прочих в плен увели и много зла причинили; и всё то случилось до приезда великого князя. И отправили новгородцы посла в Литву, чтобы король выступил в бой за Новгород. И посол ездил окольным путём к немцам, к князю немецкому, к магистру, и возвратился в Новгород, говоря: „Магистр не позволит пройти через землю свою в Литву".
Новгородская повестьо походе Ивана III Васильевича на Новгород
«Когда лее пришли они к месту, называемому Коростыней, у озера Ильменя на берегу, напала на них неожиданно по озеру рать новгородская в лодьях, которая, на берег выйдя, тайком подошла под их лагерь, так что они оплошали. Стража воевод великого князя, увидев врагов, сообщила воеводам, те же, тотчас вооружась, пошли против них и многих побили, а иных захватили в плен; тем же пленным велели друг другу носы, и губы, и уши резать и потом отпустили их обратно в Новгород, а доспехи, отобрав, в воду побросали, а другое огню предали, потому что не были им нужны, ибо своих доспехов всяких довольно было.
И оттуда вновь возвратились к Русе в тот же день, а в Русе уже другое войско пешее, ещё больше прежнего вдвое; и пришли те в судах рекою под названием Пола. Воеводы же великого князя, и на тех пойдя, разбили их и послали к великому князю с вестью Тимофея Замытского, а примчался он к великому князю июля в девятый день на Коломну-озеро; сами воеводы от Русы пошли к Демону-городку. Князь же великий послал к ним, веля идти за реку Шелонь на соединение с псковичами. Под Демоном же велел стоять князю Михаилу Андреевичу с сыном его князем Василием и со всеми воинами его.
А воеводы великого князя пошли к Шелони, и как подошли они к берегу реки той, там, где можно перейти её вброд, в ту же пору вышла рать новгородская против них с другой стороны, от города своего, к той же реке Шелони, многое множество, так что ужаснулись воины великого князя, потому что мало их было – все воины княжеские, не зная этого, покоряли места окрест Новгорода.
А новгородские посадники, и тысяцкие с купцами, и с житьими людьми, и мастера всякие, или, проще сказать, плотники и гончары, и прочие, которые отродясь на лошади не сидели и в мыслях у которых того не бывало, чтобы руку поднять на великого князя, – всех их те изменники силой погнали, а кто не желал выходить на бой, тех они сами грабили и убивали, а иных в реку Волхов бросали; сами они говорили, что было их сорок тысяч в том бою.
Воеводы же великого князя, хоть и в малом числе (говорят бывшие там, что только пять тысяч их было), увидев большое войско тех и возложив надежду на Господа Бога и Пречистую Матерь Его и на правоту своего государя великого князя, пошли стремительно на них, как львы рыкая, через реку ту широкую, на которой в том месте, как сами новгородцы говорят, никогда брода не было; а эти и без брода все целые и здоровые её перешли. Увидев это, новгородцы устрашились сильно, взволновались и заколебались, как пьяные, а наши, дойдя до них, стали первыми стрелять в них, и взволновались кони под теми, и начали с себя сбрасывать их, и так скоро побежали они, гонимые гневом Божьим за свою неправду и за отступление не только от своего государя, но и от самого Господа Бога.
Полки же великого князя погнали их, коля и рубя, а они и сами в бегстве друг друга били, кто кого мог. Побито же их было тогда многое множество, – сами они говорят, что двенадцать тысяч погибло в тех боях, а схватили живьём более двух тысяч; схвачены и посадники их: Василий Казимер, Дмитрий Исаков Борецкий, Кузьма Григорьев, Яков Фёдоров, Матвей Селезнёв, Василий Селезнёв – два племянника Казимерова, Павел Телятев, Кузьма Грузов, а житьих множество. Сбылось на них пророческое слово: „Пятеро ваших погонит сотню, а сотня потеснит тысячи". Так долго бежали они, что и кони их запалились, и стали падать с коней в воды и в болота, и в чащобу, ибо ослепил их Господь, не узнали уже и земли своей, даже дороги к городу своему, из которого вышли, но блуждали по лесам, а как где-нибудь они выходили из леса, так хватали их ратники, а некоторые, израненные, блуждая в лесах, поумирали, а другие в воде утонули; которые же с коней не свалились, тех кони их принесли к городу, будто пьяных или сонных, но иные из них второпях и город свой проскакали, думая, что и город взят уже; ибо взволновались и заколебались, будто пьяные, и ума лишились. А воины великого князя гнали их двадцать вёрст, а потом возвратились в великой усталости.
Воеводы же великого князя Данило и Фёдор Давыдович, став на костях, дождались воинства своего и увидели воинов своих всех здоровыми, и благодарили Бога, и Пречистую Богоматерь, и всех святых. И стали воеводы говорить схваченным ими новгородцам: „Отчего вы с таким множеством воинов своих сразу бежали, увидев малое наше войско?" Те же отвечали им: „Потому что мы видели вас бесконечное множество, идущих на нас, но ещё и другие полки видели, в тыл нам зашедшие, знамёна у них жёлтые и большие стяги и скипетры, и говор людской громкий, и топот конский страшный, и так ужас напал на нас, и страх объял нас, и поразил нас трепет". Было лее это июля четырнадцатого в воскресенье рано, в день святого апостола Акилы».
Московская повестьо походе Ивана III Васильевича на Новгород
«Ловать начинается между озером Двиною и болотом Фроновым или из самого болота. Я не мог вполне исследовать её истоки, хотя они недалеко от истоков Борисфена. Это та река, как свидетельствуют их летописи, в которую св. апостол Андрей переволок посуху судёнышко из Борисфена; пройдя приблизительно сорок миль, Ловать омывает Великие Луки и вливается в озеро Ильмень.
Волок, город и крепость, отстоит от Москвы приблизительно на двадцать четыре мили к равноденственному западу, от Можайска приблизительно на двенадцать, от Твери на двадцать. Государь присвояет себе титул по этой местности и ежегодно по обычаю веселит там душу, травя зайцев соколами.
Озеро Ильмень, которое в старинных писаниях русских называется Ильмер и которое иные именуют озером Лимиды, находится в двух верстах выше Новгорода; в длину оно простирается на XII а в ширину на VIII немецких миль и, помимо остальных, принимает в себя две более знаменитые реки: Ловать и Шелонь. Эта последняя вытекает из некоего озера; выливается же из Ильменя одна река – Волхов, которая протекает через Новгород и, пройдя тридцать шесть миль, впадает в Ладожское озеро».
Сигизмунд Герберштейн.Записки о московитских делах
 онный отряд Данилы Холмского и Фёдора Давыдовича, обременённый груженным добычей обозом и целым стадом скота, остановился в селении Коростынь, что всего в тридцати верстах от Русы[53]53
онный отряд Данилы Холмского и Фёдора Давыдовича, обременённый груженным добычей обозом и целым стадом скота, остановился в селении Коростынь, что всего в тридцати верстах от Русы[53]53
Конный отряд Данилы Холмского и Фёдора Давыдовича, обременённый груженным добычей обозом и целым стадом скота, остановился в селении Коростынь, что всего в тридцати верстах от Русы. – Имеется в виду правофланговый отряд московского войска, наступавшего в 1471 г. на Новгород, насчитывавший свыше пяти тысяч воинов и возглавляемый князем Данилой Дмитриевичем Холмским и боярином Фёдором Давыдовичем. Действия этого отряда решили исход войны в пользу Москвы.
[Закрыть]. Воины были вконец измотаны, и Холмский потому и торопился, чтобы выиграть время и немного передохнуть. До устья Шелони, куда должны были по велению великого князя Ивана Васильевича прибыть псковские рати, уже рукой подать, а псковичи с нерасторопностью своею не завтра ещё подойдут, так что и трёхдневная стоянка не в упрёк.
В Коростынь вошли в сумерках, не встретив никакого сопротивления. Немногочисленных жителей, обмерших от страха, не тронули. Место было удобное, на берегу Ильменя, озеро просматривалось далеко: не то что струг – челнок не проглядишь. Новгородцев сторожевые всадники нигде не обнаружили, и селяне божились, что не было их тут. Похоже, что и не выступали ещё из Новгорода.
Ратники повеселели, проведав, что с зарей вновь выступать не надо, чувство настороженной опасности исчезло. У берега было не жарко и не душно – в самую пору, даже комарье не сильно донимало. Еду варили по-быстрому, чтобы заснуть на лишний часок раньше.
Тимофей наладился было захрапеть, но сотник Фома Саврасов поднял его и назначил на пару с Потанькой в дозорные на полночи. Ближе к утру Жердяй с Терёхой должны будут их сменить.
Тимофей с Потанькой пристроились на поваленном стволе усохшей берёзы. Разводить огонь было не велено, чтобы не привлекать внимания врага, коли тот объявится. Ночь выдалась лунной, поверхность озера тихо серебрилась, по воде расходились рыбьи круги. Какая-то рыбина, лещ должно быть, плюхнула хвостом у самого берега, так что Тимофей вздрогнул.
– Сеть бы бросить, – с сожалением вздохнул он. – Место удачное.
– Водяник тебе бросит, не к ночи будь помянут! – постращал Потанька.
– Что за Водяник такой?
– Как вглубь затащит тебя, так узнашь, кто такой! С бородой зелёной...
– Водяной что ль?
– Как хошь называй. А всего лучше молчи, вслух не именуй, не то и впрямь накличешь.
Тимофей покосился на Потаньку. Тот во все глаза глядел на воду и, похоже, сильно боялся того, кто хозяйничает там, на озёрном дне. Вдруг он повернулся к Тимофею и произнёс шёпотом:
– Меня он раз чуть не утянул. Чудом вырвался.
– Да ну?!.
– Ага... Мальцом ещё был. И речка-то неглубока казалась, а он ноги как обовьёт мне и дёргат на дно. Глянул вниз – борода зелена вьётся. Ужас, не приведи Господь! Коня за гриву ухватил, он меня и вынес, выручил.
– Так то, верно, трава была донная, – предположил Тимофей.
– То Водяник был, говорю тебе! А коль не веришь, поди купнись, погляжу на тебя, дурака...
Тимофею стало чуть не по себе от Потанькнных страхов, он даже поёжился, несмотря на тёплую ночь.
– Ты в Русе-то обзавёлся чем? – спросил Потанька, решив переменить разговор от греха подальше.
– Сапоги Григорий-обозник выдал вон. – Тимофей кивнул себе на ноги. – В самую пору.
– Сапоги это ладно. А сам-то добыл чего? Для семьи там, дочек?
– Да будет ещё случай, надо полагать...
– Ты время-то не теряй. На обозников надеяться неча, они-то свой случай не упустят, а ты ни с чем останешься. С чем к жене, к дочкам воротишься? Впредь сразу выбирай побогаче избу и шуруй тамо, пока не опередили.
– Не могу я так, не привык, – негромко, будто оправдываясь, ответил Тимофей. – Ты вон, гляжу, не больно-то сам принарядился.
– На меня не равняйсь, – зло сказал Потанька. – Я ворон вольный, сегодня здесь, завтра вёрст за сто отсель. Много мне не нать – коня да саблю...
Внезапно, не успев договорить, он вскочил, схватился за рукоять сабли, обнажил её и приставил лезвие к горлу маленького мужичка, неизвестно как появившегося вдруг здесь из тьмы. Мужичок оказался коростыньским мальчишкой. Он поскуливал от страха, боясь руку даже поднять, чтобы утереть слёзы.
– Кто таков, зачем тут? – зашипел на него Потанька.
– Коза ушла, – всхлипывал тот. – Козу ищу...
Тимофей усмехнулся, испытывая облегчение.
– Тьфу! – сплюнул Потанька, опуская саблю. – Живо домой!
Он довольно ощутимо подтолкнул мальчишку каблуком под зад. Тот взвизгнул и припустил бегом прочь. Отбежав недалеко, остановился, постоял в тишине, затем кинулся в сторону от села и, огибая сторожу, побежал берегом в сторону Новгорода.
...Даниле Холмскому приснился великий князь. Иван Васильевич объезжал войско, подолгу останавливаясь перед каждым конным ратником. За ним следовал стремянный, держа шапку, полную денег. Оглядев воина с ног до головы, великий князь запускал руку в шапку и награждал того корабленником. Холмский ждал, когда и до него дойдёт очередь, испытывая непонятное волнение и трепет. Наконец Иван подъехал к нему, посмотрел в глаза и промолвил: «Этого не знаю». Холмский хотел возразить, напомнить, что он воевода великокняжеский, не из последних здесь людей, но язык присох к нёбу, а Иван Васильевич уже дарил золотую монету следующему ратнику. Тот покосился на воеводу и засмеялся злорадным смехом, очень знакомым Холмскому. Но как ни напрягал он память, имя смеющегося соскользало с языка.
Данило Дмитриевич проснулся от сердцебиения и сухости во рту. Неподалёку храпел тучный Фёдор Давыдович. Было ещё темно. Холмский дотянулся до кувшина с квасом и, приложившись губами к шершавому глиняному краю, отпил чуть не половину. Тяжело повернулся на правый бок и попытался заснуть снова.
В стане все спали беспробудно. Дремали боевые кони, изредка переступая стреноженными ногами по сочной траве и прядая ушами. На берегу, прислонившись друг к другу, заснули Жердяй с Тимохой, сменившие Потаньку и Тимофея. На востоке чуть посветлело, но появившаяся на горизонте полоса облаков будто пыталась нарочно отдалить рассвет.
Первая лодья, прошуршав днищем по илистому песку, ткнулась в травяной берег в десяти саженях от сторожи. Из лодьи выскочил новгородец, подбежал к Тимохе и полоснул его острым ножом по горлу. Тимохины глаза распахнулись, налились кровью, он захрипел и съехал судорожной спиной с берёзового ствола, прислонившись к которому спал себе на смерть. Проснувшийся Жердяй разевал рот, пытаясь закричать, но лишь шипел от ужаса. Второй новгородец заткнул ему рот ладонью и всадил в живот короткий меч.
Из лодьи тихо и быстро выбирались на берег ратники. Носы других лодей тут и там въезжали в траву. Новгородцы, косясь на убитых, вынимали из-за поясов топоры, обнажали мечи и ножи.
Далее возникла заминка. Лодья, на которой плыл воевода судовой рати Илейка Хват, из житьих Плотницкого конца, дала-таки течь и запаздывала. Светало, ждать дальше сделалось опасно. Было два пути: либо отплыть от берега и дожидаться, когда подойдёт отборный владычный полк, либо самим ударить москвичей, застав их врасплох. Уже хорошо различимые в рассветной дымке кони не пугали количеством, казалось, можно управиться с не ждущими нападения и даже не проснувшимися ещё московскими всадниками своими силами. Мальчонка из местных (он, чтобы предупредить, камни кидал с берега в проходившие мимо лодьи и тем обратил наконец на себя внимание) говорил, что много их, да ведь у страха глаза велики.
Посовещавшись вполголоса, решили напасть, отправив, тем не менее, гонцов к владычным воям, чтоб поторопились на всякий случай. Выстраиваться в боевой порядок не стали, не было ни навыка, ни времени на это. Сгрудились вокруг нового вожака, выявляющегося всегда стихийно, когда в нём возникает нужда. Многие не знали даже имени его. Тот перекрестился и махнул рукой.
Разномастная толпа из нескольких тысяч новгородцев побежала сперва молча, затем подбадривая и возбуждая себя всё более громкими и угрожающими воинственными криками. В первые же минуты посекли и порубили десятка три не успевших даже подняться москвичей. Остальные повскакивали, хватаясь за мечи, распутывая стремена лошадям. Надевать брони мало кто успевал. Заметались в панике обозники. С десяток ополченцев попятились и кинулись в лес.
Из шатра выскочил Данило Дмитриевич Холмский и встал как вкопанный, оценивая ситуацию. Выхватил меч и огрел им плашмя по лбу убегающего в одних портах безоружного лучника. Кони метались без всадников, вздрагивая от звона клинков. Холмский ухватил за узду первого попавшегося, вскочил одним прыжком на неосёдланный хребет (давно не проявлял такой резвости!), вскричал, перекрывая шум битвы, своим громовым басом:
– Братья, да не убоимся вероломной трусости вражьей! Да не опустим меч свой перед отступниками!
И москвичи, и новгородцы, на мгновение забыв о схватке, с изумлением взглянули на возвышающуюся над всеми богатырскую фигуру. Брошенный кем-то топор пролетел рядом с его головой. Фёдор Давыдович, выглядывая из шатра, быстро и непрестанно крестился.
Однако бегство приостановилось, растерянность сменилась отчаянной злостью. Москвичи невольно устремились туда, где, сидя верхом, их воевода махал мечом, уже обагрённым кровью.
Из лесу, уже в сёдлах и в бронях, поскакали в обход атакующим сыны боярские. Новгородцы дрогнули, ещё не до конца веря, что москвичей гораздо больше, чем они предполагали. Но отступать, терять преимущество было до такой степени обидно, что они принялись драться с бешеным остервенением, ещё надеясь на победный перелом, на чудо, на то, что вот-вот владычная конница появится на берегу.
Но чуда не происходило. Москвичи брали верх в единоборствах, их численное превосходство становилось всё заметнее. Новгородская рать, недостаточно обученная, никем, кроме боевого пыла, не движимая, таяла и рассеивалась. С убитых, не дожидаясь конца боя, уже начали снимать доспехи.
Пришедший в себя от растерянности Фёдор Давыдович послал с десяток ополченцев спихнуть в воду лодьи, чтобы отрезать новгородцам путь к отступлению. Но эта мера оказалась лишней, со стороны озера те уже были окружены боярскими конниками, секущими их направо и налево.
Потанька был уже на коне и рвался в гущу боя с безрассудной храбростью. Он подозревал за собой вину, что отпустил мальца с известием, и желал отличиться.
Тимофей сколол остриё ножа о кованый панцирь набросившегося на него новгородца и едва успел щитом отвести удар. Тот, не рассчитав замаха, споткнулся о чьё-то тело, неуклюже упал. Тимофей ударом щита оглушил его, подобрал выроненный меч и продолжал биться.
Неожиданно к берегу пристала запоздавшая, тяжёлая от хлюпавшей на дне воды, лодья Илейки. Хвата. Полсотни выскочивших на берег ратников с пиками потеснили бояр. Илейка, здоровенный детина медвежьего росту, определив глазами главного воеводу, пробивался, размахивая мечом, к Холмскому.
Данило Дмитриевич по-прежнему возвышался над всеми, руководя битвой. Неосёдланный конь с трудом ступал под тяжестью грузного тела и каждый раз вздрагивал ушами от громовых повелительных окриков. В Холмского бросили копьём, он мечом отбил его, бросок получился несильным. Ни одного лучника среди судовой новгородской рати не оказалось.
И лейка рассёк мечом череп одному москвичу, ещё трёх расшвырял в стороны, близко подступив к Холмскому. Ободрённые подмогой, новгородцы воспрянули духом, ещё надеясь на что-то. Тимофея ударили в спину ножом. Кольчужка выручила, выдюжила, лишь металлический скрежет холодом отозвался в позвоночнике. От толчка он упал вперёд, прямо под ноги коню, какое-то мгновение ждал, что его добьют, и удивился своей живучести, когда этого не случилось. Быстро вскочил на ноги и содрогнулся, узрев перед собой великана с мечом. И лейка замахнулся, чтобы ударить Холмского в левый бок. Тимофей, оказавшийся на пути, невольно взмахнул мечом, защищаясь. Илейкина правая рука раздвоилась, и часть её, отсечённая чуть выше наручей по локоть, упала в пыль, сжимая мертвеющими пальцами серебряный крыж[54]54
Крыж – крестообразная рукоять у меча, палаша, тесака и сабли.
[Закрыть]. Обескураженный ратник таращился на свой обрубок, из которого торчала кость и хлестала струёй кровь. Он побледнел, как снег, боль с запозданием пронзила всё его большое тело, и Хват повалился на землю, теряя сознание.