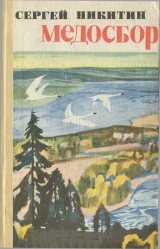
Текст книги "Медосбор"
Автор книги: Сергей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Солист
Мы слушали очень хорошего певца и вышли из вала притихшие, боясь расплескать то сложное настроение восторга, грусти, окрыленности, какое способна создать только музыка.
Был тихий морозный вечер. Острый пушок инея игольчато сверкал на тротуарах, крышах, заборах, фонарных столбах. Фонари висели в темном воздухе, как огромные фиолетовые пузыри. Замерзшие окна троллейбусов светились изнутри рыже и тускло.
Кто-то один из нас вздохнул, и, вторя ему, все тоже дружно вздохнули.
– Если бы у меня был голос! – сказала женщина, любившая попеть слабым, еле слышным голоском для себя, когда шила, или готовила обед, или в нестройном хоре праздничной компании, – Если бы мне голос, я бы охотно пела людям, где только можно. Бее просьб, без уговоров, без бисов, без аплодисментов… Пусть меня ненадолго хватило бы, но я пела бы всюду – на сценах, площадях, в ресторанах, с балконов…
– Да, это, пожалуй, счастье – петь людям и видеть, что голос твой находит отзвук в их душах.
Это сказал сослуживец той женщины – невысокий застенчивый человек в большой мохнатой шапке, точно придавившей его своей громадностью – и, видно, почувствовав несоответствие своего облика с высокой патетикой сказанных слов, добавил смущенно:
– Эко я кудряво загнул.
Мы опять шли молча, прислушиваясь к себе и к хрусту инея под ногами, потом тот самый маленький человек в шапке задумчиво сказал женщине:
– А может, одного голоса-то и мало… Вот я давеча в зале видел слезки у вас на глазах, и за это певцу честь и хвала. Но, пожалуй, даже этот народный певец не может похвастаться таким успехом, какой имел однажды многогрешный.
Мы остановились, точно враз примерзли к тротуару.
– Ну, уж вы того…
– Как это?
– Когда?
– Вы?..
– Представьте себе, я, – сказал человек в шапке. – Многие ли сегодня в зале плакали? Вот вы, ну еще, может быть, три-четыре чувствительные дамочки. А я однажды вызвал слезы всего зала. Там было больше трехсот женщин – и все не просто тихо пускали слезу в платочек, а рыдали откровенно и громко.
– Ну, это уж похороны какие-то, – сказал один из нас.
– Никакие не похороны, а обыкновенный концерт самодеятельности в фабричном клубе. Мне тогда было лет девять, и жил я с матерью в ткацком поселке. Маленьком таком, глухом, с одной фабрикой и станцией, где останавливался один поезд в сутки. Ну, сами догадываетесь, война тогда была. Поселок затемнен, холодно, голодно, ткачихи по двенадцать – восемнадцать часов из цехов не выходят… Ветер, помню, в этом поселке как-то особенно уныло свистел, подлец. Там росли высокие тонкие сосны, вот он на них и выводил, как на тоскливых струнах… Клуб был – кубическое, очень неуютное сооружение. Не отапливалось, конечно. И вот там наша школьная самодеятельность давала концерт. Собрались ткачихи – полный зал, сидели в пальто, в платках. Мужчин – ни одного. Воздух в клубе от дыхания отсырел, и пахнуть стало, как в ткацком цехе, – жирной влагой, хлопчаткой. Старшеклассники разыграли какую-то партизанскую пьеску, спели про синий платочек, поплясали, а потом вышел на сцену я. Что такое было тогда это «я»? Востроносая синюшная рожица, тонкая шея в хомуте широченного воротника, огромные валенки с голенищами раструбом… Петь мне нужно было какую-то артековскую песенку, слова которой и сейчас не помню и тогда забыл, как только очутился перед залом. Учительница пения пробренчала на промерзшем клубном роялишке вступление, а я молчу. Она опять дала вступление – молчу. Учительница старается подсказать мне слова, шипит что-то по-гусиному, но я уж ничего не воспринимаю, обалдел совсем от стыда и вдруг, не знаю сам как, запел без сопровождения первое, что пришло в голову. «Позабыт, позаброшен, с молодых-юных лет я остался сиротою, счастья-доли мне нет…» Учительница убежала. В зале тишина стоит мертвая, и только голосочек мой слабенько вызванивает: «Вот умру я, умру…» Слышу, в зале женщины начали всхлипывать, а когда я спел про могилку, на которую, знать, никто не придет, ударились все в голос. Никаких аплодисментов мне не было и бисов не было, но знаете, что женщины кричали из зала? «Ничего, – кричат, – малец, не пропадешь с нами, прокормим, не бросим…» И все в таком духе. Мы с матерью были эвакуированные, почти никто не знал нас в поселке, и ткачихи приняли меня за настоящего сироту. Вот вам и голос… Не голос пел, а горе. А оно жило тогда в каждом сердце…
Он замолчал и, так как мы продолжали идти молча, воскликнул, видимо, желая привлечь наше внимание к главному в своем рассказе:
– А женщины-то! Ткачихи-то! Не бросим, – кричат, – прокормим… Каковы, а?
Страницы странствий
Костер на ветру
1
Говорят, что теперь этот город на Днепре живет в теки садов, дышит запахом роз и тамариска, слушает шум новозданного моря, но я застал его еще в те времена, когда он только зачинался и представлял собой хаотическое сочетание асфальта и вязкого песка, изящных колоннад и безобразных времянок, первоклассных машин и выгребных уборных, молодых парков и захламленных пустырей.
Удивительная осень стояла тогда. В одну ночь вдруг растаял крупитчатый снег, запахло, как от разломленного арбуза, и влажный ветер с юга принес бархатистое осеннее тепло.
В один из таких дней, полных тепла и ветра, я зашел на строительство Дворца культуры. Там, у дощатого, сарайчика, куда рабочие складывали инструмент, полыхал костер. Ярко-белое бездымное пламя металось из стороны в сторону, припадало к земле и опять взвивалось кверху, хлопнув на ветру, словно длинное полотнище. Вокруг, как я и ожидал, собрались рабочие. Эти сходки у костра, сложенного из щепного мусора и смоченной в мазуте пакли, происходили регулярно на стыке двух смен. Многие жили на стройке бессемейно и, приходя на работу раньше времени или не спеша возвращаться на железные койки своих общежитий, травили здесь под разговоры махру и табак. Когда я подошел, разговор имел оттенок легкой перебранки.
– Они робят на всенародной стройке, а що це таке – не разумеют, – бранил кого-то каменщик Микола Федчук.
– Брось, надоело. Это мы на каждом столбе читаем, – с ленцой и пренебрежением в голосе отозвался однорукий штукатур Ананий Волков.
И сейчас же штукатур Гриша Астахов гвозданул кулаком воздух:
– Правильно, Микола Василич! А ты, Волков, молчал бы, если за длинным рублем сюда приехал.
– Верно, головастик, – усмехнулся Ананий. – В точку попал. А ты тут зачем?
– Я?
– Ты.
Кто-то предусмотрительно потянул Гришу за стеганку, и он ограничился одним лишь словом: «ш-штык!» – выражавшим, судя по интонации, высшую степень презрения.
– А что? Я правду говорю, как умею, – сказал Федчук. – Я в Канаде из-под палки за шестерых робил, а они на всенародной стройке за себя сробить не могут.
Из местной газеты мне было известно, что Федчук работал сначала на гашении извести, потом в свои пятьдесят восемь лет пошел в ученики, стал каменщиком, усовершенствовал шаблоны для кладки кирпича, и «теперь его портрет не сходит с доски Почета». Так писала газета. О Канаде там не говорилось.
– Ты заведи его, заведи! Он такие эллипсы начнет выгибать – только держись, – посоветовал мне Ананий Волков.
– Эге ж! – улыбнулся Федчук. – Мной судьба забавлялась, как ветер листом. Из края в край кидала, и такое от нее я терпел, что рассказать – не поверите. Пришлось и тяжко, и горько, и солотко. Даже капиталистом был.
– Ты уж лишнего на себя не наговаривай, – с испугом сказал Гришка.
– А ей же богу!
– Вот и загнул бы чего-нибудь, чем зря собачиться, – посоветовал Ананий.
– Зачем загибать? Без брехни, – сказал Федчук. – Родом я с Буковины, гуцул, а нас в то время богато тикало в Америку.
2
– Вы не подумайте, что во мне бес какой-нибудь зудливый сидел, – нет! Смолоду я хозяйствовать любил, по колена в земле стоял, руки в нее по локоть завязил, и, если бы не нужда, никогда бы меня оттуда не выколупнуть.
Первый раз стронулся я с места в двенадцатом году. Раньше до ветру ходил – на хату оглядывался, а тут вдруг попал сразу в тридевятое царство. Засевчик у нас был махонький, ртов в семье богато, вот батька и записал меня у вербовщика в Бразилию. Робил я там два года на маисовых плантациях, скопил кое-как на дорогу и подался до дому. И куда меня только потом не кидало! В австрийской армии был, в русском плену был, в Канаде был, в Соединенных Штатах был…
– Да ты не скачи, как заяц! Валяй от печки, – перебил его Ананий.
– Ну, добре. Вернулся я из плена, женился, народил двух дочек, оглянулся на свое житье и дюже зажурился. Хата, гляжу, завалилась, кусать нечего, дочки мои брынзы просят, а у меня одни буряки. Тут опять агент навернулся – вербует в Канаду лес валить. Думаю, бес с ним. Спытаю еще раз судьбу. Жинка по слабости пола, конечно, плачет, не пускает… У нее в Канаде батька и два брата сгинули. Но я хозяин: постановил и поехал. Было это в двадцать шестом уже…
– Какая же у вас тогда власть стояла? – полюбопытствовал Ананий.
– Румынская.
– Что же ты у нас-то не остался, когда в плену был? – с изумлением в голосе спросил Гриша.
– А мать? А батька? А хата? – не сразу ответил Федчук. – Во сне Буковину видел…
– Да не сбивай человека! Дай рассказать, – вступился за Федчука Ананий.
– Ну, как из Гавра до Квебека ехали, – про это и рассказывать нечего. Всю дорогу в трюме сидели, – продолжал Федчук. – В Квебеке выстроили нас на палубе, врач каждому веки завернул, потом сторожа в цивильном платье загнали всех по вагонам и повезли. Куда – никто не знает. Я уж тертый калач был. Думаю – не-ет, ученые мы по вербовке робить. И решился тикать. Был у меня лист – письмо от соседа Маковчука до его брата в город Виннипег. Поезд как раз в том Виннипеге остановку сделал, я и тикал через окошко. Вышел на площадь, а т-а-ам!.. Автомобили гудят, трамы грохочут, люди, как муравьи, палкой помешанные, бегают… Никак не разумею, куда мне идти. Словил какого-то дядю за рукав, сунул ему письмо: укажи, мол, добрый человек, где Маковчук живет. Он и указал – понял. Иду до Маковчука: так, мол, и так – имею от вашего брата лист.
«Какого брата? Нема у меня братов! И листа я не хочу».
«Как, – говорю, – нема братов! По твоей же роже видно, что ты самый что ни на есть Маковчук с-под Черновиц!»
Засмеялся.
«Ладно, говорит, иди до хаты, я шутил».
Переспал я у Маковчука, утром дал он мне пятнадцать центов, научил, как найти в городе офис – контору, как спросить там работу, а напоследок сказал:
«До меня назад не ходи. Нема у меня никакого брата».
– Вот штык! – вставил Гриша.
Федчук раскурил от щепочки мятую папироску, глубоко затянулся и вздохнул:
– И тут я оказался фирменно битый… Нашел в городе тот самый офис. Стоит дом с колоннами вроде театра, перед ним площадка, а на площадке наро-о-ду – как лесу. Вижу, какой-то человек на деревяшке манит меня пальчиком. Эге ж, думаю, работу дать хочет. Отошли мы с ним в закоулочек, вдруг он как секанет меня палкой по башке, да еще раз, да еще… Я и упал. Жинка моя! Дочки мои родные!.. Блукаю по городу, плачу, а назад в офис боюсь идти. Под вечер зашел в кафе покушать на свои пятнадцать центов. Гляжу, двое дядей по зеленому столу шары палками гоняют. Один посмотрел на меня и говорит:
«Бить будут».
Обрадовался я русской мове.
«Так я, говорю, уже битый!»
«Еще будут».
«Да за что, добрый человек! Скажи!»
«Дура! – говорит. – Ремень у тебя на штанах с австрийской бляхой, а тут этого духа после войны дюже не любят. Брось».
Ремень я, конечно, пожалел, повернул его бляхой внутрь, а человеку спасибо сказал. Стал он меня пытать, кто я, откуда, зачем приехал. Я ему все, как попу, рассказал.
«Дурень ты, – говорит, – Микола. Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, идем со мной».
Привел он меня в какой-то дом. Сидят там круг стола люди, пьют горилку, едят руками биб[1]1
Биб – гуцульское кушанье.
[Закрыть]. У меня даже трясца в коленях сделалась от радости. Подошел к нам хозяин – сивый старичина, как голубь.
«Кто такой при тебе?»
«Возьми к себе краянца[2]2
Краянец – земляк (укр.).
[Закрыть]», – говорит Головатый (моего вожака Головатым звали).
Хозяин только рукой махнул.
«Не надо! Их тут до черта шляется».
«Все же… – просит Головатый. – Хоть на ночь».
«Ты кто?» – пытает меня хозяин.
«Федчук».
«Федчуков много. По прозвищу как?»
«Криво дышлый».
Как сказал я это, хозяин даже подскакнул.
«Да я ж, – говорит, – из-за твоего батьки в Канаду тикал, язви его в душу! Помнишь, побил я твоего батька, а меня за это судить хотели?»
«Никак, – говорю, – не помню».
«Ну, добре! Садись кушать биб. Он у меня дармовой. Горилка за гроши, а биб дармовой. Но сегодня для тебя и горилка дармовая. Пей!»
Посадил он меня за стол, поит, кормит, а сам все про ридно село пытает. Даже заплакал, как сказал я, что вербу и криницы грозой побило… Потом повел меня спать. Наверху у него вроде нашего общежития было, только спали по двое в одной койке. Лег и я с кем-то, утром вскинулся – тьфу! Лежит со мной кто-то серый, ледащий, изо рта дух нехороший прет. Хотел я потихоньку встать, а он тоже проснулся, взял с тумбочки пачку газет, сует мне:
«Купи».
«Эх, – говорю, – добрый человек! Откуда ж у меня гроши на твою газету?»
«А ты кто, – пытает, – такой, что у тебя грошей нема?»
«За ними, – говорю, – и приехал с Буковины».
Сосед мой только посмеялся.
«Я, – говорит, – здесь уж двадцать лет пропадаю, ничего доброго не бачил. Вот сейчас газетами кое-как перебиваюсь. А сам я, между прочим, тоже с Буковины, с села Лашкивки».
«Да ты, – говорю, – мой краянец. У меня жинка с Лашкивки».
«А как ее звать?»
«Санда Тодоровна».
«Сорохан?»
«Она».
Как кинется на меня тот человек и ну целовать, и ну плакать… Я думал, порченный какой, толкнул его, а он и говорит:
«Неужели, сынку, твое сердце не чует? Ведь я Тодор Сорохан, твоей жинке батька».
Тут и я заплакал.
«Что же мы, батька, будем делать?»
«А что, – говорит. – Утро, пора и снидать».
Шесть недель кормил он меня на свои гроши, а потом нанялся я за сходную цену к фермарю Мандрику на два года. Просил у него грошей вперед.
«У меня, – говорю, – батька грыжей мается, надо доктору платить».
Башкой только покрутил.
«Подождет батькина грыжа. Другие с ней до ста лет живут».
Так и не пришлось поправить батьку. Сожгли его и даже праху не дали. Дюже плакал я, что не осталось батькиной могилы. Страшно это. Был человек и вдруг – фук! – нет ничегошеньки…
Федчук умолк.
Было слышно, как бьются о берег мелкие торопливые волны, стучат голые ветви платанов, и эти звуки ясно давали почувствовать, какая глубокая тишина стояла несколько секунд у костра.
– Когда же ты капиталистом-то был? – подозрительно спросил Гриша.
3
– Это особая история, – вяло откликнулся Федчук.
– Насмотрелся я там на их вольготную жизнь, – продолжал он, постепенно воодушевляясь, – и захотелось мне самому стать капиталистом.
– А, б-бодай тебя! – выругался Ананий.
– От Мандрика ушел я с грошами. Невеликие, конечно, гроши, но все же капитал! Задумал скупать на озерах у рыбаков рыбу, возить ее в городе по домам и иметь от этого барыш. Знакомый украинец Гнатюк предложил мне компанию сделать. И такой он широкий хлопец был – не захотел скупать рыбу, а будем, говорит, ее сами ловить. Заверили мы у нотаря договор, купили сеть, лодку, провиант, а когда гроши уже подошли, вспомнили, что рыбу-то возить нам в город не на чем. Стали шукать третьего компаньона с лошадью и повозкой. Нашли одного фермаря. Дюже бедный: в землянке живет. Пошли опять до нотаря, перевели договор на троих и подались на озеро Нордбей. Глядим – а оно уже льдом встало. Ну, делать нечего. Срубили мы кемп[3]3
Кемп – лагерь (англ.).
[Закрыть], потом начали лед долбить и пускать под него сети. Ох, и тяжка ж эта работа! Сеть мерзнет, руки на ветру пухнут, со спины иней иголками сыплется. Но рыба идет! За неделю нашвыряли мы больше тонны белой рыбы, щуки, фермарь свез ее в город и продал не по три цента за фунт, как мы гадали, а по пяти. Капитал растет – и настроение у нас растет. Вот, думаю, какой я умный!
Поехал фермарь опять в город. Ждем его неделю, ждем другую… Рыба идет, а фермаря нема! Кончился у нас провиант, потом керосин. Гнатюк бранится.
«Слухай, – говорит, – Микола. Ну его к бису, вшивого фермаря. Ты стереги сеть, а я пойду до городу, куплю кобыленок и зараз назад буду».
Ушел. Я один на озере остался. А зима люту-у-ует, ветер сечет, вша одолевает! Кушаю одну рыбу без соли, огонь кое-как держу, а Гнатюка будто черти поховали. Эх, думаю, не пропадать же мне тут! Испек на углях три рыбы, взял топор и пошел на солнце… В лесу мороз гукает, на деревьях каждая веточка инеем опушилась, поползни – птахи малые – по сосновой коре шур-шур, шур-шур. Тихо, хорошо. Только ведь зимний день какой? Сверкнул – и нет его. Зашло солнце – кругом снег, лес, тьма… Засек я дерево – опять к нему точнехонько вышел: кружу, значит, на одном месте как привязанный. Достал из кармана печеную рыбку, а она будто кость. Отогрел за пазухой, покушал и стал топором яму копать, чтобы согреться. Выкопал по пояс, залез в нее, кричу, плачу, пою, молюсь, жинку зову… Чую – кончаюсь…
Федчук запрокинул голову и некоторое время смотрел в небо, где, быстро меняя свои очертания, бежали облака, то тут, то там открывая широкие голубые проплешины.
– Эх, нема таких ночей в Радянском Союзе. Как дождался я солнца – не помню. Пошел опять на него. Вдруг вижу – следы! Одни – огромные, с метр, другие – маленькие, зверячьи. Они, может быть, и от лихого зверя, но я уже совсем ошалел: пру прямо по ним, из последних сил выбиваюсь. Слышу – впереди собаки загавкали. Посвистал я – выскочила из леса стая собачищ, а за ними – человек с винтовкой, на снегоходах. Бросился к нему и не добежал, в снег башкой зарылся.
Оказался он охотник, индеец. Привел меня до своей землянки, зайца облупил, зажарил, дал мне заднюю ногу, а я и укусить ее не могу. Тогда он лепешку испек. Потом накрыл меня кровавыми шкурами, обнял и грел до самого утра… Добрый был человек, ох, добрый! Утром никак одного не пустил – до другого охотника, а тот – до третьего, а уж этот – прямехонько до города.
Ну, в городе я, конечно, стал своих компаньонов шукать. Дознал, что фермаря в тюрьму упекли за то, что индейцам водку продавал, а Гнатюка со всеми грошами и след простыл… И стал я опять пролетарием.
Гриша вдруг засмеялся. Он был явно рад, что репутация Федчука осталась незапятнанной принадлежностью к эксплуататорскому классу.
– Ну, а после этого домой подался? – спросил один из рабочих.
– Не-е-е! После я еще пять лет блукал по свету, – отозвался Федчук. – На товарнике под вагоном в Штаты махнул, потом опять в Канаду вернулся – лес рубил, дорогу строил, могилы копал, коров доил… К этому делу я, между прочим, через тюрьму прислонился. Остался зимой без работы, а зима, ох, тяжка в Канаде. Ребята и надоумили в тюрьме зимовать. Хотел я полисмену в лицо плюнуть – раздумал. Обязательно бить будет, а там в полисмены не берут человека меньше ста пяти кило весом. Взял тогда кусок льда и вдарил по витрине. Осудили меня на шесть месяцев, держали в тюрьме недолго, а потом послали на ферму коров доить. Там хорошо было. Хлеба давали килограмм, кормили три раза в день, молоко я крал – и вышел к весне с толстой рожей. Потом по объявлению нанялся в город Ванкувер на строительство гидростанции…
– Ну, как там? – заинтересовались все сразу.
– Противу нашего? – Федчук помолчал. – Я тут такой счастливый!
Он оглянулся и, выбрав изо всех меня, одетого не по-рабочему, сказал:
– Я имею такой же костюм, как у вас, и мы можем ходить рядом.
– Костюм… Это совершенно неважно… – смущенно пробормотал я.
– О, вы не разумеете! Там у меня не было костюма. А здесь, когда я приехал в отпуск до дому, я всем купил даринки. Матери – хустку[4]4
Хустка – платок (укр.).
[Закрыть], жинке – чеботы, дочерям – велосипеды, а батьке – горилки. Себе я купил костюм за семьсот карбованцев и думал, что буду первый на селе. Ну, и что же? Думаете, был я первый? Нет! Я был последний. Теперь куплю костюм за две тысячи. А Ванкувер? Что Ванкувер! Я там жил в яме, робил заступом и был бедный. Мои рабочие руки тянутся к Радянскому Союзу. Недавно корреспондент привел под микрофон, и я стал говорить. «Слышишь, Мандрик! – говорил я. – Это я, Федчук, который робил у тебя на ферме. Теперь я в Радянском Союзе, на всенародной стройке, и уже получил премию, потому что стал изобретателем…»
Я и там был изобретателем. Робил на бумажной фабрике в Эмис-Каминке, стоял во дворе у транспортера, подвешивал к нему деревянные кубари. Как-то лопнула водяная труба – кубари сами и поплыли в дверь на фабрику. Я тогда пошутил инженеру: вот, мол, как вода за нас робит. А утром гляжу – канал роют. Транспортер сломали, стали цепкой кубари по каналу гнать. Восемнадцать рабочих – долой, только трех оставили. Пошли мы в унион – союз – жалиться. Фабрикант и указал на меня: вот, мол, кто во всем виноват. Хотели меня ребята бить, но я в ту же ночь тикал из Эмис-Каминки – небитый… После этого и до дому подался… В тридцать пятом году. Без грошей…
– В тридцать пятом я родился, – задумчиво сказал Гриша.
– Вот я и говорю, что ты головастик, а тужишься квакать, – вскипел вдруг Ананий Волков. – «За длинным рублем!» Мне, может, этот рубль во как нужен!.. Скажи, плохой я штукатур?
– Штукатур ты хороший, – признался Гриша.
– Ага! А как я этого достиг, знаешь? Я могу рассказать. Тоже с рыбой было дело, как у Федчука, хотя в капиталисты я не лез.
– Расскажи, Ананий, – попросил один рабочий.
– Не буду.
– Ну вот! Растравил, а сам в кусты. Почему не будешь?
– Не буду – и точка. Все одно Гришка меня своими подначками собьет.
– Не дадим! Молчи, Гришук.
– Я молчу…
– Ну то-то! Смотри, ни гугу, – предупредил Ананий.
Маленькое сухое лицо его собралось мелкими морщинками, так что на месте глаз остались только узкие, слюдянисто блеснувшие в свете костра щелочки, и он рассмеялся.
4
– Я потому смеюсь, что очень забавный случай впереди будет, – пояснил Ананий. – С чего уж и начать, не знаю… Короче, пришел я с фронту без левой клешни и сразу упал духом. Детишков у меня теперь счетом восемь, а тогда шесть было. Но это, я скажу, все одно много. Чтобы прокормить такую саранчу, особо при моей штукатурной профессии, позарез две руки нужны. Вот и задумался. А от задумчивости – что? Пьянство. Не знаю, как там в Канаде, а у русского человека это так… Стал я, значит, пенсию свою дотла пропивать, а потом и барахлишко из дому потаскивать. Дотаскался – смотрю, ничего уже не осталось, и надо дальше чем-то промышлять.
До войны любил я рыбачить. Наш край Владимирский – озерный, весь речками, как паутиной, повит: есть где рыбу взять, коль рыбак с головой. А у меня к этому делу сызмала талант был. Ну, и начал я той рыбой промышлять. Летом на червя ловлю, на букару, на ручейника; по перволедью – на блесну; зимой – на мормышку с мотылем. И так ловко насобачился одной рукой насадку делать, что рукатый за мной не угонится. К штанам на коленке у меня клееночка была пришита. Сейчас я на нее червя или мотыля вытряхну – цоп его крючком, и – готово. Одно неспособно было: со льда на глубоких местах ловить. Никак одноручь леску не выберешь. Пихаешь ее в рот и… гм… И вокруг шеи до пяти раз обвернешь, а конец все в лунке. Одно слово – неспособно.
Ловил я, однако, во всякое время достаточно. После выйду на базар, разложу рыбу на кучки – эта десять целковых, эта – пятнадцать, эта – два червонца, а эта для кошки – и за рубль… Поначалу стыдился, глаза прятал, а потом покрикивать стал: «А вот, гражданки, свеженькая! Подходи, налетай, не зевай!..»
Блеснил я как-то по перволедью на озере Мшары. Озеро это провальное, глубины непомерной, чистое, как слеза, и все сосновым бором обросло. Напал я на приглубное местечко – окунь берет редко, но такой черт: ото дна не оторвешь. Никак я с ним одной рукой не совладаю. Потом вижу – на льду еще рыбак появился. Ходит с пешней и все ближе да ближе ко мне подрубается. Подошел вплотную. Глядь – а он тоже без руки. Здорово, мол, приятель! Слово за слово – разговорились. Того Андрюхой зовут. Встали рядом. Я говорю:
«Давай, Андрюха, сообща ловить. Как у меня окунь возьмет, я с леской отбегу, а ты ее у самой лунки поддерни, чтобы за край не задела».
Так и приноровились. Если бы кто со стороны видел, живот надорвал. То я, то Андрюха сорвемся вдруг с места и бежим сломя голову от проруби – умора!
Спаялись мы с дружком – водой не разольешь. На всех озерах и реках вместе. А после рыбалки – в чайной. Еще пуще стал я запивать. Раньше хоть часть улова домой приносил, а теперь перестал – все начисто пропиваем.
Сидим как-то в буфете на станции, ждем поезда в город, пьем. Всю спустили, только я одну щучонку фунта на полтора ребятишкам оставил. Андрюха совсем уже на сносях, да и я порядком окосел. Вот в таком кураже сели мы в вагон, дружок и говорит мне:
«Дураки мы с тобой, Нанька (он меня Нанькой звал). Корежимся всю зиму на морозе, а можем жить как у Христа за пазухой. Только нахальства набраться».
«Как это?» – спрашиваю.
Выпростал он свою культю, шапку долой – и бойким голосом:
«Добрые, сознательные граждане! Братья, сестры, папаши и мамаши! Подайте калекам на пропитание… Пой!» – шепчет мне.
Спьяну это смешно вроде казалось, я, и гаркнул:
«Раскинулось море широко-о-о…»
Одежонка у нас была самая для случая подходящая: рвань рыбацкая. Стали граждане Андрюхе в шапку деньги сыпать. Прошли мы весь вагон. В тамбуре Андрюха деньги в карман начал пихать. А меня, не совру, вдруг затошнило даже:
«Андрюха, – говорю, – брось эти деньги сейчас же, а не то я в морду тебе дам».
«Дурак ты, – говорит. – Мы на них в городе сейчас выпьем. Пошли дальше, привыкнешь».
Чувствую – и сам я виноват, что поддался, и оттого еще пуще осерчал. На боку у меня в противогазной сумке щука болталась. Схватил я ее за голову да хрясь дружка по морде.
Конечно, будь у меня две руки, я бы его не тронул. Ну, а как мы в равном состоянии, то не зазорно было и по рылу ему разок съездить: не втравливай! У меня все-таки два ордена и четыре медали…
Домой я приехал сам не свой, аж дрожу весь. Две недели на озеро не ходил. Вот тут-то и встретился я со своей совестью. Глажу мальчонку по голове, а сам голову-то вниз давлю, чтобы, значит, в глаза не смотрел.
Помаялся так, потерзался и поехал в Москву. Пришел там на протезную фабрику, показал мастеру кельму, сокол, терку – штукатурный свой инструмент – и говорю:
«Должен ты, трудовой человек, меня понимать. Погибаю через свою нетрудоспособность. Можешь сделать такой протез, чтобы я эти штуки держал?»
«А какую из них, – спрашивает, – тебе в левой руке нужно держать?»
«Вот эту», – показываю на сокол.
«Обожди, – говорит, – померяю».
Мерял он меня всячески, как портной, а напоследок обнадежил:
«Сделаем», – говорит.
Ну, сделали. Вернулся я домой, стал опять на озерах рыбачить, а по вечерам учился сокол держать. Наконец решил испытать себя.
«Давай, – говорю жене, – халупу свою штукатурить».
«Да что ты! – кричит. – Зачем ее штукатурить?»
«Молчи, дура! От клопов».
Набросал я на стену штукатурку, стал соколом подбирать и уронил, конечно. Если б бабы рядом не было, заплакал бы, как дитё. Однако сдержался и снова. Месяца полтора, наверно, с одной стенкой бился. А не прошло и году – весь дом снутри и снаружи в лучший вид произвел… Потом в стройконтору поступил. Так-то вот…
А сюда я – точно, за длинным рублем приехал, потому что он моей саранче нужен. И дело, головастик, не в том, длинный он или куцый, а в том, что я при своей инвалидности могу его честно заработать.
Ананий повернулся к Грише и с грозной ноткой в голосе спросил:
– Понял?
Гриша сконфуженно потупился.
– Случай-то забавный обещал, – напомнил кто-то.
– А как я его щукой по морде – разве не смешно? – удивился Ананий.
– Н-не очень…
– Ну и ладно. Вон смена кончилась. Пошли, ребята!
5
Вместе с ними я поднялся на строительные леса. Приближался вечер. Меловые обрывы за Днепром долго хранили фиолетовый отблеск заката, потом мертвенно позеленели в свете осенних сумерек и наконец как будто впитали в себя густую синь ночи. На берегу и на темной воде Днепра заблестели огни.
Прямыми линиями они тянулись вдоль городских улиц, кольцами опоясывали котлованы, змеевидной гирляндой висели над эстакадой пульпопровода, кучей грудились на земснаряде – и все сообща кидали на бегущие облака мутно-оранжевое зарево. Ветер словно мягкой лапой гладил по лицу.
Костер внизу все еще горел, и вокруг него сидели сменившиеся рабочие. Их фигуры – темные с одной стороны и красноватые с другой – напоминали плакат давних революционных дней, который я видел в какой-то книге по полиграфии.
– Огнями любуетесь? – раздался сзади меня голос.
Я оглянулся. Кто-то стоял в ярко освещенном проеме окна, и мне с наружных лесов не было видно его лица.
– Кто это? – спросил я.
Он шагнул словно из рамы портрета и остановился рядом со мной. Это был Гриша Астахов.
Несколько минут мы продолжали молча смотреть на огни. Их было великое множество. И все – яркие и тусклые, ровные и беспокойно бьющиеся под рукой электросварщика, далекие и близкие, желтые и голубоватые, – дробясь и переливаясь, повторялись в мелких волнах Днепра.
– Когда-нибудь, – тихо сказал Гриша, – мы будем рассказывать нашим детям, как работали здесь их отцы.
Я улыбнулся. Было забавно услышать такие слова от семнадцатилетнего паренька, занимавшего в общежитии узкую железную койку, не имевшего ни дома, ни жены, ни детей, но так уж он, недавний выпускник ремесленного училища, штукатур, понимал значение и смысл своего труда, что заранее гордился им перед потомством.








