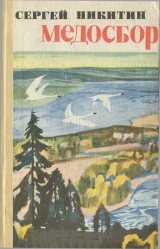
Текст книги "Медосбор"
Автор книги: Сергей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Блистающий мир
Когда летишь в самолете над облаками, то видишь внизу не просто облака, а особый, как бы иной мир, с неповторимыми формами, красками и такими же особыми и неповторимыми влияниями на все существо твое. Понимаешь тщетность стараний охватить этот блистающий непорочной чистотой мир пятью человеческими чувствами, и с томлением, с болью хочется тогда вырваться из своей телесной оболочки и свободным всепознающим духом влиться в этот свет и беспредельность.
Вот так я летел, кажется, из Челябинска и вспомнил одного человека, знакомого мне, которого теперь вдруг как-то легко и сразу понял, а раньше не понимал.
Встретил я его в тяжелом сорок втором году в огромной землянке военного лагеря под Тейковом, где нас, девятиклассников, помаленьку приучали к будущей армейской жизни. Было это существо доброе, безответное, подслеповато смотревшее через очки близорукими глазами, а без очков становившееся совсем беспомощным и до слезных спазм трогательным. Поев в столовой пшенной каши без масла и соли, оно забиралось на солому, на первый этаж нар и, поджав к подбородку колени, мечтательно изрекало:
– Теперь бы чего-нибудь сладенького…
Потом я не видел его лет шесть и вновь встретил в редакции районной газеты, где стал бывать по средам на занятиях литературной группы. Он значительно опередил меня в литературных начинаниях, печатал отрывки из повести, впрочем, как оказалось, не существовавшей в законченном виде, писал стихи и успел поучиться на сценарном факультете кинематографического института, который бросил не то через полтора, не то через два года.
Он был талантлив, но ленив. Прямо-таки классически, грациозно ленив. В институтском общежитии он как-то надел правый ботинок на левую ногу, а левый – на правую и, ленясь переобуться, проходил так весь день. Вечером, заметив это, студенты возмутились, распластали его на койке и выпороли ремнем. То ли экзекуции был придан шутливый оттенок, то ли наказуемый был от природы необидчив, но рассказывал он мне об этом случае легко, со смехом, походя.
Мы задумали с ним писать вместе повесть. Пока шло время бурных споров, пока плутали мы в лабиринте сюжета, пока витали перед нами в загадочном тумане образы героев, он был деятелен и неистощим на оригинальные выдумки. Но, когда настала пора сесть за письменный стол и водить перышком по бумажке, пора черной работы, он исчез. Однажды я силой привел его к себе, поймав на улице.
Была весна, бело-розовой пеной вскипали под окном цветущие яблони.
Он попросил пить. Я вышел, а когда вернулся с ковшом воды, в комнате его не было. На столе лежала записка: «Боюсь, заставишь работать. Удрал в окно, в мир».
Я невольно взглянул на этот заоконный мир, на клубы яблоневого цвета, на золотые и синие облака по горизонту, и томящее чувство, похожее на то, что испытывал я теперь в полете над облаками, мягко сжало мне тогда сердце.
Знакомый мой стал работать в редакции секретарем и уже ничего не писал даже для этой скучненькой районной газетки, а только со строкомерной линейкой в руках изо дня в день однообразно макетировал ее номера. Вскоре он женился и очень любил свою жену, но она все-таки была несчастлива с ним, потому что осветить ее жизнь какой-нибудь, хоть малой, радостью он, казалось, был просто не в силах.
И вдруг он исчез. В один день бросил работу, жену и уехал, словно, как тогда у меня, шагнул за окно, в мир. Его скоро забыли: неглубоко прошелся он плугом своих дел по ниве жизни. Некоторое время в городе можно было встретить его жену – в платочке, завязанном на подбородке, с плаксиво опущенными углами губ – и при этом хотелось сбежать от встречи на другую сторону улицы. Потом как-то незаметно исчезла и она.
– А всему причиной рожь, – рассказывал он мне семь лет спустя.
Опять была весна, но уже в другом городе, где от слов «порт» и «море» не веет экзотикой и они обыденны, как в наших хлебопашеских глубях континента слова «село» и «поле». Весна здесь пахла йодом и миндалем. И еще всем сложным букетом южного рынка, где мы случайно встретились у бочки с мальвазией.
– Не знаю, что тогда со мной было, наваждение какое-то, – продолжал мой знакомый. – Приехал я по профсоюзной путевке за девять рублей в дом отдыха. Ты знаешь его, – лесок, грибы, ягоды, речка, пескари, раки. Пошел как-то ночью гулять и вышел из лесу к ржаному полю. Днем здесь бывал – поле и поле. А тогда – стоит в небе июньская луна, холодная, далекая, и рожь в ее свете сияет голубым блеском. Меня этот блеск точно миллионом холодных спиц пронзил. Я и уже как будто не я стыну перед чудом. Отчаяния моего ты, наверно, не представишь, когда я подумал, сколько не видел в жизни и не увижу никогда. Право же, решил в тот момент, что лучше не жить с таким гвоздем в башке… Но, видишь, жив и только стал с тех пор неуемен и ненасытен в открытиях чудес мира сего. Нет, я не путешественник, – прибавил он, помолчав. – Я работник. Жена этого не поняла и вышла за другого. Я же по девять месяцев не видел земли, плавая матросом в северных морях, даже цингу нажил. Смотри.
Он оскалил нержавеющий ряд зубов и засмеялся.
– Пригодятся при штурме издательств. Закончил книгу.
Мы не расставались весь день, а я все дивился игре подспудных сил души, двигающих человека по неисповедимым путям жизни.
Сапоги
Начальник инженерно-геологической партии Косарев вылез из палатки и, любуясь эластичной игрой мускулов на своем торсе, стал делать утреннюю гимнастику.
Он был молод и еще не успел до конца переболеть обязательной, как корь, болезнью, симптомы которой состоят в навязчивом стремлении подвергать любое явление жизни пробе на вопросы «почему?» и «зачем?». Нагибаясь, приседая и подпрыгивая, он думал о том, почему настроение человека зависит от таких в сущности преходящих мелочей, как погода, сон, завтрак. Он отлично спал – недолго, но глухо, без сновидений, без проблеска сознания, – утро вставало над степью свежее, ясное, в сухом сверкании осеннего солнца, завтрак обещал быть гурманским – кумыс, мясо подстреленной вчера дрофы, растворимый кофе, – и вот настроение у него такое, что хочется рвануться в солнечную синеву небес и купаться в ней, как вон тот канюк, парящий высоко над палаточным лагерем.
Косарев упал на руки, чтобы тридцать раз отжаться от земли, и канюк, словно подражая ему, тоже ринулся к земле, заметив с подоблачных высот какую-то добычу.
– Ах, дуралей! – сказал Косарев, увидев, что канюк нырнул в заложенный геологами шурф.
Охотясь за змеями, эти птицы часто попадали в шурфы и бились там до изнеможения в тщетных усилиях расправить свои широкие крылья и снова взмыть в родную стихию небес. Тогда приходилось накидывать на пленника куртку, спускаться в шурф и помогать канюку выбраться на волю.
Косарев отжался тридцатый раз, поднялся и полез в палатку за курткой и сапогами. Без резиновых сапог в шурф спускаться было нельзя, потому что за ночь туда набивалось до десятка гадюк, которых надо было еще пришибить камнем или геологическим молотком на длинной ручке.
Куртку и молоток Косарев нашел, а сапог на месте не оказалось.
Он вспомнил, что вчера его заместитель по хозяйственной части Сосновка взял у него отслужившие срок носки сапоги, обещал принести новые и вот – не принес.
«Ну, почему людям непременно нужно напоминать об их прямых обязанностях?» – спросил себя Косарев, и настроение у него стало не совсем плохое, но все-таки хуже, чем давеча.
Сосновку он нашел в складе, где тот обычно ночевал, если с вечера поругался с женой. По той же причине завхоз, наверно, забыл и про сапоги.
– Сосновка, – сказал Косарев, – времени половина шестого, и, между прочим, дай мне сапоги. Взял вчера мои, а новые не принес. Почему?
– Одну минуту, Юрий Михалыч, – ответил сиплым со сна голосом завхоз.
Он долго зевал, потягивался, кряхтел, отплевывался, потом закурил, и Косарев, глядя на его серое даже под степным загаром лицо, думал:
«Ну, почему люди так наплевательски относятся к своему здоровью? Курят до завтрака, пренебрегают физическими упражнениями, ссорятся на ночь с женами, встают утром в дурном расположении духа… Почему?»
Он думал так, и настроение у него самого становилось от этих мыслей все хуже.
– Размер какой? – спросил Сосновка.
– Сорок первый.
Завхоз, согнувшись, ушел в глубь склада и вскоре вынес новенькие, в седой пыли талька сапоги.
– У меня, Юрий Михалыч, – сказал он, – накопилось пар тридцать списанных. Надо бы уничтожить, а то от них в складе не повернешься.
– Уничтожь. За чем же дело встало? – сказал Косарев.
– По инструкции положено в вашем присутствии.
– Ну, вот оно – мое присутствие. Валяй действуй, как положено, – усмехнулся Косарев, а про себя подумал, что на всякие пустяки зачем-то существуют специальные инструкции.
Сосновка опять ушел в склад и стал швырять оттуда сапоги, пока не нашвырял большую черную груду, зеркально поблескивающую на солнце глянцевыми голенищами. Потом он выкатил толстый чурбан, поставил его на торец, как плаху, и топором с широким лезвием стал в два удара отрубать сначала от головок носки, а потом головки от голенищ. Удары по резине получались плескучие, как пощечины. Изрубив пар десять, Сосновка сложил резиновую лапшу поодаль от склада в кучу и, полив из бутылки бензином, поджег. Черный вонючий дым поплыл в сторону по легкому утреннему ветерку. Пламя в черном дыму билось оранжевое, зловещее, как на антивоенном плакате.
К складу за какой-то надобностью, а может быть, просто так, пришел наемный рабочий – старик Авдей Миронов. Когда он нанимался на работу, его из-за ветхости не хотели брать, но он вырвал у молодого парня лопату и стал копать, да так сноровисто и неутомимо, что к обеду вынул из шурфа земли больше всех. Он был махонький, этот старик, с гнутой, как серп, спиной и длинными толстыми руками.
– Здорово живете, начальники, – сказал он. – Эко товару-то сколь накидали – купцы!
Он поднял из груды один сапог и стал вертеть его у подслеповатых глаз, щупать, пощелкивать по подошве. Сапог был целехонек, как, впрочем, и все остальные. Сосновка тем временем опять принялся за свое занятие – стукнул топором раз, и отскочила чашечка носка, стукнул два, и отвалилась, похожая на колено трубы, головка.
Видно, только теперь Авдей Миронов уяснил смысл происходящего. Он прижал ко груди сапог и в изумлении посмотрел на орудующего топором Сосновку, а потом на Косарева, точно недоумевая, почему начальник не остановит завхоза, который не иначе как сбесился. И Косарев под этим взглядом вдруг как бы со стороны увидел и себя, и палачествующего Сосновку, и этот инквизиторский костер, и нелепость того, что здесь делалось, стала ему до обескураженности очевидной.
– Они что – сапоги-то… Заразные, что ли? – неуверенно спросил Авдей Миронов.
– Какого еще черта – заразные, – прикрякнув, ответил Сосновка. – Вышел им срок носки, и – под топор.
– Дык ведь прочные совсем сапоги!..
– Прочные не прочные, вышел срок носки – подлежат по инструкции уничтожению.
– Ты погоди, милок, – быстро заговорил Авдей Миронов, придерживая занесенную руку Сосновки. – Ты, милок, отдай их мне… Я в них полсела обую, в поле ходить… К нам их не привозят, сапоги-то… Зачем же добро под топор?
«Да, зачем?» – спросил себя Косарев и, морщась, сказал вслух:
– Ты, Сосновка, и верно, отдай-ка сапоги старику, пусть в село унесет.
– Нельзя, Юрий Михалыч, – возразил завхоз. – По инструкции мы не имеем такого права.
– Почему?
– А я знаю?
– Ну, продай, – настаивал Авдей Миронов.
– Еще хуже придумал! Не могу, дед… Да отпусти ты руку-то мою, черт двужильный! Впился, словно клешней, – отбивался от него Сосновка.
– Хоть одну пару продай!
– Уйди!
– Сосновка, – опять вмешался Косарев, но уже не так уверенно. – Отдай, право, ну их к черту…
– Да что вы, Юрий Михалыч! – взмолился завхоз. – Порядка не знаете? Я раз вот так же на Кольском раздал валенки, а потом пошел слух, будто я их пропил… Выговор по партийной линии схлопотал, едва под суд не угодил… Хватит с меня, учен… – Он вдруг криво усмехнулся в сторону Авдея Миронова и прибавил:
– Ты лучше укради, дед. Хватай пару и тикай на полусогнутых. Мы глаза закроем.
– Вот и вышел дурак, – без злобы, но угрюмо сказал старик. – В мальчишестве на ярмарке украл глиняный свисток – до сих пор ухи горят.
Он бросил в кучу сапог, который все еще прижимал одной рукой ко груди, и отошел в сторону.
– Кончай, что ли, – раздраженно сказал Косарев и почувствовал, что от его хорошего настроения не осталось и следа.
Когда обрубки последнего сапога были брошены в костер, он вспомнил о канюке, попавшем в шурф, и пошел вытаскивать его. Геологи берегли этих птиц, помогавших им бороться со змеями. Шел он и в утешение себе думал о том, что скоро сюда придут строители и возведут большой новый завод и что такие мелочи, как поношенные сапоги, не стоят того, чтобы из-за них портилось настроение.
Но оно все-таки было у него испорчено…
Отойдя шагов на двадцать, он оглянулся. Сосновки не было, – должно быть, ушел в склад, а старик Авдей Миронов сутуло стоял над костром и, видимо, в знак порицания содеянного над сапогами злодейства мочился в черный дым и оранжевый огонь.
Огонь
В ту зиму стояли сухие жгучие морозы. За ночь придорожная чайная промерзала так, что отсыревшие в кухонном пару обои покрывались пышными лишаями игольчатого инея.
Однажды утром, с трудом оторвав примерзшую к косякам дверь, в чайную вошел шофер тяжелого лесовоза Василий Силов, молча подвинул к печке стул, поставил ноги в затвердевших валенках на охапку дров и открыл печную дверцу.
Хилый огонек, возившийся там, в дровах, зачадил серенькой копотью и погас.
– Изверг ты! – со слезами в голосе сказала буфетчица Ленка. – Я на два часа раньше встаю, чтобы разжечь ее, треклятую, а ты загасил.
– Ничего, – сказал Силов.
Он вынул из кармана засаленных и холодных, как жесть, брюк складной нож, настрогал с полена тонких стружек, надрал бересты, нащепал лучины, переложил по-своему дрова в печи – нишей – и развел под ее сводом огонь. Скоро печь ревела, высасывая из чайной студеный, провонявший табаком и сальными котлами воздух.
Ленка повеселела, проворней забегала по маленькому, на пять столиков, зальцу, дышала в ладони, тыкала на столы солонки, перечницы. Была она вся кругла – и щечки, и плечи, и грудь, и задик, и даже ножки были круглы в икрах, и, казалось, натолкнись она на стенку – отскочит, как мячик.
Среди леспромхозовской бойкой шоферни, часто залетавшей в чайную, Ленка слыла бабенкой доступной, хотя никто не мог убедительно и достоверно сказать, что пользовался ее расположением. Так, видно, выкобенивались друг перед другом своей удалью и болтали зря: раз живет бабенка одна, без мужика, с нагуленным где-то мальчонком, значит – понятное дело.
– Эй! – крикнул от печки Силов. – Дай-ка мне водки.
Ленка даже не повернулась к нему.
– Сдурел? – только спросила она, вытирая горячей тряпкой обледеневший пластикатовый прилавок. – При дороге не торгуем. Да и с машиной ты.
– Дай, говорю, дура, – повысил голос Силов. – Заболел я, не видишь?
Он и впрямь весь как-то обмяк на стуле, ноги у него ехали по железному листу у печки, а лицо было красно, в крупном поту.
– Погоди, я на плитке погрею, – всполошилась Ленка.
И вскоре принесла стакан теплой водки, которую Силов выпил залпом, стуча стаканом о зубы.
– А машина? – спросила Ленка.
– Ребята поедут, отбуксуют… А я готов… Зря выехал, – то ли хмелея, то ли окончательно слабея, едва выговорил Силов и закрыл глаза.
Ленка постояла над ним, потрогала его липкий от пота лоб, залезла рукой за рубаху, ощупала спину, грудь.
– Горишь, Вася, – сказала она. – Пойдем-ка ко мне, полежишь. А за машиной я пригляжу. Пойдем, Вася, не беспокойся.
Через смерзшиеся звенящие сугробы закутанного поверх стеганки пуховым платком привела Ленка Силова в свою избу, уложила в постель, а когда за ним приехали из леспромхоза, чтобы увезти в больницу, не отдала, ругалась с шоферами их же крепкими словами и выходила сама.
Васька Силов был человеком нелегким. Поэтому и занимал в общежитии хоть и крохотную – три на четыре шага, – но отдельную комнатуху. Жил в ней грязно, пьяно, голодно, ничего не имел, кроме немытой кружки да замасленной шоферской робы, и к лучшему, видно, не стремился. Друзей у него не было, – только собутыльники, да и те непостоянные, на час, потому что во хмелю Васька ни с того, ни с сего бил их в морду. Двинет и молча, угрюмо смотрит, ждет – обидится человек или нет.
Теперь со сливой то под одним глазом, то под другим стала ходить Ленка. Но всегда она умела повернуть так, что Васька в этом ее украшении был вроде бы непричинен, – или терла полы с мылом и поскользнулась, или впотьмах на косяк налетела, или сапог с полатей некстати упал. В селе дивились Ленкины соседи, в леспромхозе – знавшие ее шофера: зачем ей этот угрюмый мужик, почто терпит от него, неласкового? Да и не баловал ее, надо сказать, Васька своими наездами. Не на каждой неделе вваливался в ее чистую, выстланную пестрыми половичками избу, усталый, грязный, и сначала пил, ел, а потом уже мылся на задах в баньке и заваливался спать…
Летом, когда лилось с неба беспощадное огненное солнце, взялось пожаром придорожное село с чайной. Мелкую ребятню заперли в каменной, стоявшей поодаль от села школе, а взрослые кидались, кто с чем, на огонь, стараясь сбить его со своих изб и дворов.
На пожаре всегда, даже в тихую погоду, бывает ветер. И вот словно оранжевым лоскутом, оторванным от огненного вихря, накрыло вдруг Ленку, и все на ней – платьишко, волосы – взвилось короткой вспышкой пламени.
Кто видел ее тогда, говорили, что она осталась стоять черная, как головешка. Глаза у нее остались целы, и такой она увидела себя сама. Ее пытались оттащить подальше от огня, но она рвалась из рук, оставляя в них клочья обгоревшей кожи, и кричала:
– Зачем я ему теперь? Зачем я ему такая?
И, вырвавшись, побежала в огонь, в гудящий, добела раскаленный смерч.
Скорей всего, она не выжила бы после таких ожогов, но все было так, как было. И об этом, конечно, рассказали Ваське.
В тот же день Силов нашел в школе, где разместились погорельцы, Ленкиного мальчонку Ромку и молча повел его за руку к своему лесовозу. Председателю сельсовета Латынину, инвалиду войны, орденоносцу, когда тот попытался вмешаться и остановил их, пообещал оторвать вторую ногу.
– Да ведь его в детдом сдать надо. Я ж в ответе, – взывал Латынин.
– Во, видел – детдом? – спросил Силов, показывая сбитый на железках кулак.
– Да почто он тебе? – спросил Латынин.
– Усыновлю. Мой будет.
– Да ведь ты кот!
– Во, видел – кот? – опять сказал Силов.
В общежитии он призвал к себе в комнату уборщицу, старуху Пашуту, вывалил перед ней на стол ком пятерок, рублей, трешниц и приказал:
– Смотайся, карга, за жратвой и учини мне здесь чистоту. С занавесками, с посудой… Поняла?
Сельчане опять дивились: ну, останься за Ромкой изба, материно добришко, тогда понятное дело, а так – зачем коту мальчонка? И подбивали Латынина взять у него Ромку по суду, но Латынин, хлебнувший в свое время горя и помудревший на его горькой выучке, рассудил подождать, посмотреть, что будет дальше.
Той осенью Ромке пришла пора учиться в школе. Силов привез его на лесовозе, и на Ромке, как на всех, была серая, чуть не по росту школьная форма с белым подворотничком, а за плечами – блестящий дерматиновый ранец…
Тому уже много лет. Ромка теперь живет в городе, учится в техникуме. Силов без него снова захламил, запустил комнату в общежитии леспромхоза, где работает теперь уже по ремонту машин, и только перед студенческими каникулами призывает к себе совсем уже состарившуюся Пашуту и приказывает:
– Учини-ка мне здесь, карга, чистоту.
Она прибирает комнату, обстирывает ее хозяина, и он все дни, пока гостит Ромка, ходит чист, трезв и смирен.
Коптитель
Случилось мне как-то прожить несколько дней в тульском селе, в избе колхозницы Нюры Стрепетовой, пока добровольные механики со всего села помогали шоферу Коле чинить машину, на которой я ехал.
Нюре тогда было около сорока лет, и цвела она, как золотая осень, яркой, зрелой, чуть грустной красотой.
Коля – лихач за рулем и в любви, молодой, с бесшабашинкой парень – говорил про нее, судорожно вздыхая:
– Опаляющая женщина. Не то, что те болонки.
Каких «тех болонок» имел он в виду, было неизвестно; я только знал, что болонками он называл всех маленьких крашенных в блондинок женщин и относился к ним пренебрежительно.
Нюра была стройна и туга телом, с лицом румяно-смуглым, с тяжелым комлем черных, но кое-где выцветших до медной рыжины волос на затылке и взглядом каким-то медленным, обволакивающим. И чем красивее выглядела Нюра, тем в большее раздражение приводило Колю то обстоятельство, что замужем она была за мужичонкой вовсе пустяковым. Возможно, в парнях он был и хорош собой – рослый, с крупными правильными чертами лица, – но теперь от запойной жизни приопух весь, обряк, нездорово побагровел и к тому же, опохмелясь какой-то дрянью, потерял голос, – сипел со свистом и клекотом.
По своеобразной Колиной системе определения человеческой сущности он был «коптителем».
– Что это такое – коптитель? – спросил я.
– Не горит мужик, коптит только смрадно и зловонно, – объяснил Коля.
В колхозе коптитель не работал, шабашил, где придется, по печному ремеслу, а еще промышлял лепкой из гипса и раскраской кошек-копилок.
Нюра, видимо, брезговала им, не пускала пьяного в избу, и он спал в сарае на сушилах, если мог туда забраться, а нет – валился прямо у лестницы в пыль и щепной мусор. Тогда рядом с ним пристраивалась собака Стелька – серо-рыжая сука с хвостом в репьях, – и он, наваливая на нее тяжелую пьяную руку, сипел ласково;
– Ах ты, про-по-о-и-иц…
В хмельном изнеможении он был спокоен, но, когда случалось ему не допить, зверел и кидался на людей, всегда с расчетом выбирая слабого.
Однажды ночью мы с Колей были разбужены шумной возней в кухне, грохотом табуреток и сипящим свистом коптителя. Колю подкинуло, как пружиной. Я выскочил вслед за ним в кухню и увидел, что коптитель, схватив Нюру за распущенные волосы, тащит ее к входной двери, а Нюра молча, лишь тихо постанывая, чтобы, видимо, не услышали дети, старается разжать его пальцы и освободить волосы.
Мне показалось, что Коля хрястнул по руке коптителя чем-то тяжелым, – такой был хрусткий, сухой звук. Коптитель схватился за руку и грязно выругался.
– Маленько я ее, стерву, до топора не дотащил, – с трудом выдохнул он. – Быть бы ей без башки.
Почувствовав в небольшом, но жилистом, ловком Коле силу, превосходящую его дряблую массу, он отступил и, уходя, просипел:
– А вы сейчас же… к чертовой матери…
Нюра пятерней выбирала вырванные волосы.
– Ложитесь. Он теперь не придет, – устало проговорила она.
Коля заикнулся было что-то сказать, но Нюра перебила его:
– Я же в рубашке стою. Идите, ложитесь.
Мы вышли.
Утром, как обычно, я проснулся позже Коли. Из боковушки через тонкую перегородку мне было слышно, как Нюра звякала чашками и говорила:
– Нет уж, Коля, что теперь от меня осталось… А в девушках я, правда, хороша была. Только быстрое это время. Мигнуло, как огонек на ветру… Мне семнадцати еще не было, когда немцы сюда пришли, но я была здоровая, рослая и знала, не уберегусь от этих рыжих кобелей, ежели не схитрю. Ох, что я над собой только не делала! Лицо в кровь ногтями раздирала, грязью мазала, чтобы струпья пошли. За пазуху сухой навоз клала, чтоб разило за версту, в рванье со вшами ходила… От этой-то грязи, думаю, отмоюсь.
– Эх, – с досадой сказал Коля и чем-то крепко пристукнул по столу. (Это, как я узнал потом, было у него ребро ладони намято до каменной твердости.) – Подумать, для кого эдакую красотищу берегла!
– Он не всегда такой был, – опять послышался ровный голос Нюры. – Ушел на фронт, мы и погулять-то успели два-три вечерочка, а когда вернулся, сразу поженились. И жили хорошо. Вон, видишь, – четверых народила. Это ж не по неволе делается.
– Ребята у тебя славные, – сказал Коля.
– В любви нажиты, – вздохнула Нюра. – Они всегда так-то хороши выходят.
– С чего ж он у тебя пьет?
– А кто вас, мужиков, поймет, с чего вы пьете? Протрезвеет, поплачет, покается и опять – горькую. Баловство. На суде оправдывался и такую небывальщину про меня наплел, – если б не дети на мне, руки б на себя наложила.
– На каком суде? Какую небывальщину? – спросил Коля.
– Да и вспоминать-то об этом – на душе погано становится. Суд ему товарищеский был за пьянство, когда он еще в колхозе работал. Так он сказал, будто через то пьет, что я в войну с немцем путалась, офицером, который у нас стоял… Все вы тут, кричит, немецкие подстилки… Врет. Я девушкой за него пошла… Даже нецелованной…
В горнице долго молчали.
– Гнала бы, – послышался наконец глухой Колин голос.
– Эко у тебя все просто, – усмехнулась Нюра. – Гнала, а он не идет. Летом в сарае спит, а зимой приползает на крыльцо – нешто я без сердца, дам замерзнуть? Подумаю, что отец он моим, и открою.
– Бабы… – сказал Коля и вздохнул тяжело, протяжно.
Видно, нелегкую задачу задала жизнь молодому бесшабашному уму его. В этот день мы уехали. Всю дорогу Коля молчал, лишь изредка роняя нелестные замечания по поводу усердия самодеятельных сельских механиков в ремонте его машины, и, только когда открылись нам вдали кущи Ясной Поляны, спросил – кого? Меня? Незримый дух великого мыслителя Толстого?
– А подумаешь – что, право, делать бабе? Э-эх…








