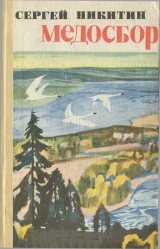
Текст книги "Медосбор"
Автор книги: Сергей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
И было видно, что Галина горда своей ролью его опекунши и помощницы и что перепечатка рукописей, подшивание газет, отыскивание нужных книг, справочников, календарей составляют для нее истинное наслаждение.
Комната в мезонине была завалена этой справочно-информационной литературой. Гришка писал роман о колхозной деревне, и на двух столах, на диване, на подоконнике, на полу лежали развернутые подшивки «Сельскохозяйственной газеты», брошюры, справочники председателя колхоза и агронома, календари природы, заложенные бумажными ленточками на многих страницах, и, когда роман был написан, все это сейчас же сменила справочная литература по металлургии, потому что Гришка начал работать над романом о Магнитогорске.
Гришкины романы печатались. Следуя за всеми превратностями времени, они имели видимость остроты, и автор их был венчан признанием, популярностью, латературными премиями. Гришка бежал за временем по пятам, и оно не давало ему передышки. Эта погоня даже представлялась мне в осязаемо-зримых образах. Жидкая серая масса времени, подобно океанскому отливу, отступает перед Гришкой, а он босиком, в толстовской блузе бежит за ней и не может замочить даже кончики пальцев.
Просторную блузу из суровья под шнурочный поясок Гришка, действительно, завел. Надевал он ее только дома и был патриарше величественен в ней, когда спускался из своего мезонина по скрипящим под его телесной массой ступеням. За поясок он засовывал большую и толстую записную книжку, которая не уместилась бы в кармане, и часто во время прогулки, обеда или разговора что-то размашисто начертывал в ней.
– Покажи, Ястребочек, – требовала Галина и, прочитав, неизменно одобряла: – Это – гвоздь, Ястребочек. Ты молодец!
Случилось так, что мы не встречались с Гришкой несколько лет. К тому времени я уже перестал читать его романы, находя в них тех же Гришкиных «вписанных в обстановку мужиков», сработанных как по колодке, и теперь ехал в загородный дом, предчувствуя ту неловкость, которая должна возникнуть, если Гришка спросит о своих романах.
При встрече и за обедом он не спросил. Сам Гришка как-то обвял за эти годы – надолго опускал набрякшие веки, мял свой массивный подбородок, говорил медленно, нехотя. Перед обедом выпил несколько больших рюмок водки, закусив редиской, и, когда опять потянулся к графину, жена остановила его:
– Ястребочек, ты не сможешь вечером работать.
– Отстань, – поморщившись, сказал Гришка, но пить не стал.
После обеда он вопреки обычаю не поднялся к себе в мезонин, а позвал меня гулять. На нем по-прежнему была холщовая блуза, за поясом торчала записная книжка, но появилась и новая привычка – опираться при ходьбе на суковатую палку с серебряной насечкой.
Мы прошли через пронизанный солнцем, наполненный птичьим щебетом лес к ручью, постояли над водой, прислушиваясь к ее бурлению, подобному тихому звону, и вдруг Гришка, шумно выдохнув, сказал сквозь зубы:
– Бабу свою ненавижу.
Я не нашелся, что сказать ему в ответ, да он и не ждал никакого ответа, продолжая говорить как бы сам с собой.
– Знаю, что несправедлив, а все мне кажется, что это она понуждает меня к моей литературообразной стряпне. Вроде, не будь ее, не будь этого дома, и я писал бы совсем по-иному.
– Ну и пиши, – сказал я.
– Не могу, старик, – вздохнул Гришка. – Я словно серпантин жую. Надо или всю ленту вжевать или оборвать. А оборвать уже духу нет. Я ведь знаю, что меня тут же забудут, если я перестану выдавать в год по роману. Мудрый старик Вильям Шекспир верно сказал: время проходит, а с ним проходит все временное. О своем времени нужно писать вечным словом.
Вернувшись с прогулки, Гришка опять не поднялся в мезонин, сидел на открытой веранде в поскрипывающем плетеном кресле, опустив веки, мял подбородок.
В поникших от зноя клумбах перед верандой свиристели кузнечики.
– Курятником пахнет, а? – спросил вдруг Гришка, не открывая глаз.
– Каким курятником, Ястребочек? – встревоженно спросила Галина, подходя к нему сзади. – Никакого курятника у нас нет.
Она по-прежнему была красива пышной здоровой красотой тридцатипятилетней женщины, и все та же искренняя гордость сопричастницы к работе мужа сквозила в каждом ее взгляде на него, в каждом движении к нему.
– Когда же мы сегодня будем работать, Ястребочек? – спросила она, запуская руку в его жесткие волосы.
Гришка нагнул голову, вынул из-за пояса свою толстую книжку и размашисто черкнул в ней несколько слов.
– Покажи, Ястребочек, – потребовала Галина с привычной уверенностью протягивая руку.
Он вырвал из книжки листок, сунул его жене и зашагал через клумбы прочь.
Галина держала перед собой листок на обеих ладонях и долго вчитывалась в то, что было написано на нем, потом вдруг с криком оттолкнула его от себя, точно омерзительного паука, и убежала в дом.
В растерянности я машинально поднял с полу этот косо оторванный листок и, прежде чем успел сообразить, что совершаю бестактность, одним взглядом промахнул короткую фразу:
«Осточертела ты мне, проклятая баба».
Я понял, что хозяевам теперь будет не до меня. Положив листок на прежнее место, на пол, как будто никто и не поднимал его, я спустился с веранды и пошел на станцию.
Под старыми тополями
Старые тополя на бульваре моего родного города всегда вызывают у меня воспоминания о далеком прошлом, и не потому ли я так люблю побродить по бульвару, особенно в ранний утренний час, когда влажный воздух пропитан запахом тополиной листвы. Ведь мир воспоминаний населен людьми и наполнен событиями не менее интересными и значительными, чем день бегущий. В воспоминаниях друзей и близких бессмертен человек. Воспоминания неистребимы, даже если уже исчезли с лица земли люди, дела и вещи, вызвавшие их к жизни.
В этот раз, приехав в К., я мельком увидел на бульваре двух знакомых людей, с которыми, по сути дела, не был знаком, но так часто встречал их в прошлые годы, что в представлении моем они были неотделимы от города как часть его истории.
Они стали старше на тридцать лет, оба заметно потучнели, обрели плавную неторопливость в походке и прочное спокойствие в выражении лиц. У него на воротничок рубашки набегала толстая складка шеи, было бело-розовое лицо здорового, трезвого и некурящего человека, в одежде бросалась в глаза подчеркнутая чистота и аккуратность. Она же – эдакая крупная, красивая полнотелой красотой женщина, медленная и даже величавая – спокойно глядела перед собой кустодиевским взглядом.
Рукава его пиджака, застегнутого на все три пуговицы, были, как и прежде, засунуты в карманы. Он не носил протезы.
Даже через тридцать лет память легко подсказала историю этих людей. Перед войной они, может быть, один-единственный раз поцеловались на школьном вечере где-нибудь в залитом лунным светом коридоре или под этими лопотавшими листвой тополями. На фронт она написала ему два письма; он не ответил.
Когда вскоре он вернулся в город без обеих рук, она пришла к нему и сказала, что никогда не уйдет. Он прогонял ее; нарочно, чтобы обидеть, ругал самыми бранными словами, бился головой о стену, истерически вопя, что лучше убьет себя, чем позволит ей ухаживать за ним. Но она не ушла.
На первых порах ей, семнадцатилетней девочке, любив шей романы Тургенева и разводившей у себя во дворе пионы и георгины редких сортов и необыкновенной красоты, пришлось справлять за ним весь грязный уход. Это было, наверно, тяжелым испытанием, тем более что он ощетинивался против любого проявления ее заботливости. А сам в это время бегал к хирургам по госпиталям, которые тогда были размещены почти во всех школах города.
Каким-то непостижимым хирургическим волшебством приспособленные сначала держать ложку, его короткие култышки со временем оказались способными держать и рейсфедер. Он стал работать на заводе чертежником, калькировал медленно, но аккуратно и точно, и ему поручали неспешную, но особо тонкую работу.
Узнал я, что работает он там и поныне.
Мы восхищаемся красотою подвига-порыва, но есть неэффектный внешне подвиг самоотверженной любви на всю жизнь, за который люди еще не придумали награды…
Выздоровление
Приближение болезни я почувствовал еще в пути и, когда вышел из вагона у деревянного вокзала маленького северного городка, то уже знал, что мне не избежать больничной койки.
Больница была тоже деревянной. Серые некрашеные бревна ее построек казались какими-то скитами и должны были действовать удручающе не только на больного человека, но и на здорового. И короткие дни северной зимы тоже были серы, мглисты, мутны, точно окна снаружи занавешивались грязными простынями.
Сколько насчитал я этих тягучих, как резина, дней, – несть числа!
Но по календарю на юге уже была весна и двигалась, подтачивая снега, озаряя небо синью марта, накаляя добела солнце, двигалась на крыльях теплых ветров к маленькому северному городку.
В один из ясных мартовских дней мне было позволено гулять. Необыкновенной радостью вдруг обернулись в этот день самые обычные вещи. Приятен был запах бобрового воротника на легком морозе, скрип досок на промерзшем крыльце, вороний, уже совсем по-весеннему хриплый, кар, и сверканье первой тоненькой сосульки на водосточной трубе, и особая встревоженность разномастных собак, рыскавших по больничному двору в поисках объедков… Но еще большей радостью пронизывало сознание выздоровления, входившего, казалось, в меня с каждым глотком чистого колкого воздуха.
Больница стояла на окраине города. Город жил лесом и поэтому давно уже свел лес на много километров вокруг, и теперь сверкающая снежная равнина лежала передо мной на сколько хватал глаз. Точно поредевшее войско деда Мороза, толпились кое-где низенькие пеньки под круглыми снежными шапками.
Я спустился с крыльца и, повернув за угол, увидел старика в нагольном, узко приталенном полушубочке, заячьей шапке и высоких валенках. Белая борода его золотисто сквозила на солнце. Мне, давно уже не говорившему ни с кем, кроме врачей, сестер, санитарок и больных, захотелось переброситься хоть несколькими словами со свежим человеком, и я сказал:
– Здравствуй, дедушка. День-то какой славный, а?
– Чистый денек, прямо – хрусталинка, – улыбнулся старик.
Улыбки его не было видно в бороде, но она так и брызнула из его зеленых от этого обилия света глаз.
– На пенсии уже, наверно, дедушка?
– Пенсия пенсией, – все так же сияя глазами, сказал старик, – а я еще тружусь.
– Где же?
– А на поприще продления рода человеческого.
– Это как же прикажешь понимать тебя – буквально или иносказательно?
– Как ни на есть буквально.
– Не пойму я что-то, дед.
– Проще простого понять. Истопник я в родильном доме. Вот и выходит, что тружусь на поприще продления рода человеческого. Понял теперь?
Ах, лукавый старик! Весь день я пересказывал наш разговор больным в палате, а когда приходила сестра, меня заставляли пересказывать ей, потом – врачу, потом – санитаркам, и у всех в палате было такое ощущение, что собрала нас здесь не болезнь, а случайное недоразумение, которое вот-вот должно разрешиться, и мы вернемся в этот сияющий мартовской синевой и солнцем мир.
Ненаписанный рассказ
Сюжет этого рассказа давно занесен в мою записную книжку и ждет своей очереди уже много лет. По совету Чехова, писатель должен быть холоден, когда пишет, иначе он запоет фальшивым голосом. Я чувствую, что сфальшивлю, и поэтому, наверно, никогда не получится у меня этот рассказ…
По соседству со мной (умолчу, в коем городе и годе) жила женщина, занимавшая в том городе ответственную, как у нас говорят, должность (словно есть должности безответственные) и очень непривлекательная собой. Была она косоглаза, один глаз у нее затянуло голубовато-мутным бельмом, а другой смотрел так, точно дырку в тебе прожигал. Ходила она боком, – этим глазом вперед, – опустив плечо, вытянув в ниточку тонкие губы, и какой-то малыш на улице однажды сказал ей вслед:
– У-у, какая злющая тетка.
Провалявшись по госпиталям после войны еще семь лет, вернулся на нашу улицу к старой матери безногий сын. Мать вывозила его в коляске гулять. Он ловко играл с пенсионерами одной рукой в домино, потому что вторая рука у него совсем высохла, или просто сидел в тени уличных лип, пьяненький, учил мальчишек сквернословию и плевал в прохожих.
К осени мать умерла. А в погожий день бабьего лета, когда в синем небе золотом горели кроны лип, его вывезла в коляске гулять та самая женщина.
Они поженились. У них не было свадьбы, никто не видел, когда они ездили расписываться, но она взяла его фамилию, поменялась квартирами с соседями первого этажа, а в комнате, где он жил раньше с матерью, поселились новые люди. И он с тех пор был всегда трезв, как-то светел и радостен, не сквернословил и не плевался.
Одного за другим она родила двух детей – мальчика и девочку.
После женитьбы он вообще стал реже выходить на улицу постучать с пенсионерами костяшками, и поэтому, когда исчез совсем, на это не сразу обратили внимание. Потом стало известно, что он живет в доме для инвалидов в другом городе, и на улице во все тяжкие засудачили о ней у каждых ворот, у каждого дома. Она проходила мимо молча, сжав губы, прожигая всех своим взглядом, как раскаленной спицей.
Однажды она развешивала на веревке после стирки детское бельишко, а наш дворник, тоже инвалид войны, с которым он, бывало, частенько выпивал в каптерке, как они называли дворницкую, поносил ее бранными, грязными словами. Она молча закончила свое дело и ушла, а дворник крикнул ей вслед:
– Не занавесишься от стыда пеленками-то!
Тогда жена дворника – могучая женщина в сапогах и клеенчатом фартуке – треснула мужа по затылку и громогласно сказала:
– Ты, балабон, пеленки не тронь. Ты их не стирал. Ты за собой портянки не выстираешь. А ей при двоих детях еще за ним ходить – так, пожалуй, переломишься. Тогда дети куда?
– Зачем рожала? – возразил дворник.
– Опять дурак, – сказала дворничиха. – Какой бабе деток не хочется? А ее кто возьмет за себя, такую неказистую? Вы ведь как? Сам – пугало, а подавай ему кралю червонную.
– Деток! – фыркнул дворник. – Могла и так прожить.
– Тьфу, – плюнула ему под ноги жена. – Так-то ты про нас думаешь! А потом сам же язык свой поганый чесать станешь, плести про бабу всякое… Да и должность у нее, – вздохнув, добавила она, – там этого не одобряют, чтоб без мужа у бабы-дети. Никак не одобряют.
– Эт-то так, – обескураженный поворотом дела, сказал дворник.
Женщина та вскоре уехала с нашей улицы, – опять поменялась квартирами и живет теперь в новом доме на окраине города. А я так и не могу до сих пор написать рассказ на этот сюжет. Сначала надеялся на время, которое иногда помогает холодно оценить взволновавшие тебя поступки людей, но, видимо, время это еще не пришло. Да и сама жизнь не подсказывает мне конец рассказа. Погодки у той женщины выросли и оба заканчивают институт. Это очень красивые молодые люди, особенно девочка, – легкая, стройная и быстрая, как ласточка в полете. Я встречаю их иногда в городе, но не решаюсь спросить об отце, – а вдруг неосторожно и грубо заденешь чужую боль? Знаю только, что он живет все в том же доме инвалидов.
Последнее лето
В Подмосковье, вблизи истока большой реки, есть санаторий для сердечников. Санаторий как санаторий: белый корпус о двух этажах, открытая веранда, щелканье бильярдных шаров в холле, запах пригорелой каши из кухни, баян, культурник Сени в шелковой тенниске, скука.
Сюда-то и приехал в начале августа отставной полковник Иван Степанович Крестьянинов после тяжелой и долгой болезни. Первые дни он почти не покидал плетеную качалку на веранде; от слабости часто засыпал в ней, а проснувшись, не сразу приходил в себя и крепко тер лицо сухими ладонями, улыбаясь растерянно и смущенно.
Через неделю главный врач назначил ему прогулки по маршруту на двести метров. Он спускался через темную ореховую рощу к реке, шел берегом до купальни пионерского лагеря, возвращался, отдыхая несколько раз на подъеме, и все думал о том, – думал иронически и грустно, – что эти педантично отсчитанные метры уже не имеют для него никакого значения. И если бы ему сказали, что жизнь, счеты с которой он считал поконченными, напоследок взбудоражит его душевным потрясением невероятной силы, он бы только так же иронически и грустно усмехнулся: «Разве что это сама костлявая?»
Стоял прекрасный август – один из тех, когда сухая палящая жара перемежается освежающими дождями с ворчуном-громом за горизонтом и все цветет, зреет сильно, ярко, благоуханно, обильно.
Иван Степанович Крестьянинов гулял уже по маршруту на шестьсот метров. К пижаме за свою военную жизнь он так и не удосужился привыкнуть, надевал теперь рубашку взаправку, отутюженные брюки на тугом ремне и этаким не потерявшим выправки молодцом с прямо посаженной серебристой головой шел по берегу, поигрывая тонкой ореховой палочкой.
Однажды, как обычно, собираясь гулять, он спустился по трем широким ступеням санаторного портала и остановился на секунду, чтобы потянуть остуженный недавним дождем, пахнущий грибами воздух. В то же самое время он увидел идущую мимо женщину с таким знакомым лицом, таким знакомым, близоруким прищуром, такой знакомой походкой, что замер на полувздохе и, не сознавая в испуге, что говорит вслух, спросил:
– Кто это?
Его сопалатник, читавший на лавочке под липой мокрую газету, усмехнулся.
– Ну, батенька, значит, окончательно ожили, если вас красивые женщины стали интересовать. Это жена главного.
– Невозможно… Извините… – пробормотал Иван Степанович.
Сопалатник вскинул на него поверх очков удивленный взгляд, но ответить ничего не успел, только плечом пожал: блажит-де старик, и опять углубился в газету, а Иван Степанович, сорвавшись с места, задыхаясь на быстром ходу, сдавленно крикнул вслед женщине:
– Да постой же! Это я!..
Она остановилась.
Она оглянулась.
Она близоруко прищурилась на него.
Она выговорила совсем неподходящее к случаю, нелепое слово:
– Подтяжечки…
И он увидел, как мертвеет ее еще такое яркое и свежее лицо.
Машинально они пошли прочь от санатория, от любопытных глаз, смятенные и подавленные. Наконец она спохватилась, что ему трудно поспевать за ней, обернулась, сжала ладонями его виски и заплакала. У Ивана Степановича тоже плыло и туманилось перед глазами ее лицо.
– Как же так? – сказал он.
– Я ничего не понимаю, – ответила она. – Ведь я сама видела на нем голубые подтяжечки… Я сама их видела!
– О чем ты?
– Погоди, все путается… Давай сядем где-нибудь, меня ноги не держат.
Они прошли еще немного по берегу и сели на врытую в землю скамью. На реке, смеясь, визжа и горланя, барахтались в своей купальне пионеры, вожатая что-то кричала им в мегафон, никому не было дела до старика и женщины, сидевших, казалось, в полной санаторной праздности на скамье под прибрежным осокорем.
– Сын? – отрывисто спросил Иван Степанович, низко наклоняя голову, словно подставляя еще под один, уже последний удар.
– Шив, – сказала она. – Работает в Мурманске, морской инженер.
– Невероятно… – прошептал Иван Степанович.
Она взяла его волосатую жилистую руку, прижала ее к своей щеке.
– В тот день, когда ты приказал женщинам и детям покинуть заставу… Который это был уже день?
– Девятый.
– Да, девятый день… Сколько дней вы еще держались?
– Четыре.
– Так вот, мы шли и все оглядывались на заставу. Там за дымом ничего не было видно, а наутро с высокого берега Буга увидели над заставой красный флаг и поняли, что вы еще держитесь. Смотрели на флаг и плакали, тискали плачущих ребятишек и никак не могли уйти, прятались в кустах. Ушли лишь ночью, когда флаг перестал быть виден. Вы все еще держались.
– Да, еще четыре дня держались, – машинально повторил Иван Степанович. – Потом меня ранило. И не знаю, сам ли я уполз в болото или кто-то из живых товарищей оттащил меня, только очнулся я уже в деревне. Там мне сказали, что женщин, которые ушли с заставы, немцы расстреляли, а детей увезли куда-то.
– Почти так, – сказала она. – Вышли мы удачно, нас спрятали у себя крестьяне, но потом все-таки какой-то подлец выдал немцам. Ты помнишь, что в первый день, когда начался артобстрел, я вскочила в одной рубашке, и все у меня сгорело вместе с нашим домом, и я надела свитер с убитого немецкого мотоциклиста из тех двоих, что, помнишь, нечаянно заскочили на заставу.
Так вот, они обвинили меня в том, будто я убила немецкого солдата, и повели на расстрел. Я отдала Вадика Дусе и Клаве… Помнишь их?.. И пошла. Меня поставили лицом к сараю, а потом вдруг схватили за плечи, повернули и повели на допрос к их офицеру. Почему-то до сих пор помню, что у него на пальце было кольцо с черепом… Там уже были Дуся и Клава… Он требовал, чтобы мы показали на заставу дорогу, которой вышли. Мы отвечали, что шли наугад и никакой дороги не знаем. Да, впрочем, так оно и было на самом деле. Несколько раз нас водили к сараю, а потом вдруг перестали, словно забыли, и мы поняли, что на заставе все кончено. Через несколько дней нас проводил туда старик, у которого мы прятались. Дусе некого уже было там искать, она осталась с детьми в деревне. А мы с Клавой пошли. Клава сразу нашла своего. Он был с отрубленными ногами, голова замотана шинелью. Мы сняли шинель, и Клава увидела бинты, которые сама накладывала на его рану. А тебя мы долго не могли найти, приходили на развалины заставы несколько раз, разрывали могильные холмы. Наконец в одной яме, куда были свалены и убитые лошади, нашли обезображенный труп… Документов в гимнастерке не нашли, но на нем были новые голубые подтяжки… Ты, наверное, уже не помнишь, что накануне налета ходил в баню, и я положила тебе в чемоданчик новые подтяжки. Ты их выкинул, а я опять положила, и мы даже немного поссорились из-за них. Поэтому они мне запомнились, и я решила, что это ты.
Похоронила, несколько раз после войны ездила туда, на могилу…
Она опять прижалась щекой к его руке.
– Я потом сложными путями все-таки перешел через линию фронта, – сказал он, – пробовал наводить о тебе справки – ничего.
– Где же было найти! Я до сорок четвертого была в оккупации, потом поселилась вот здесь, работала поварихой. Тогда это был не санаторий, а госпиталь… Вадика я привезла из оккупации еде живого, и, скажу откровенно, если бы не моя работа на кухне, он вряд ли бы выжил.
– Он помнит меня?
– Нет. Но знает, что отец его погиб.
– У тебя есть еще дети?
– Да. Двое. А ты женат?
Он покачал головой:
– Так и не смог. Прожил было с женщиной около года, а потом оба почувствовали, что мы совершенно чужие друг другу, и разошлись.
– Ведь, наверно, тебе и стакан воды подать некому, когда заболеешь?
– Да, я сразу зову неотложку, и – в больницу.
Она заплакала, бормоча сквозь скомканный платок, которым зажимала рот, чтобы не разрыдаться:
– Что же нам делать?.. Что же нам делать?..
– Ну зачем ты, перестань, – ласково сказал он. – Что теперь поделаешь? Ничего делать не надо. Я уеду сегодня в Москву.
– Ты очень болен?
– Да.
– Позволь мне навещать тебя. Оставь адрес.
– Хорошо, – подумав, сказал он, – Только ничего никому не говори. Все должно остаться как есть.
– Я сама не своя сейчас… Я ничего не соображаю…
– Успокойся и подумай. Ведь у тебя еще двое, а я, не для жалких слов говорю, уже не жилец.
– Не надо так!
– Что уж там. Это правда.
В тот же день, сославшись главному врачу на «семейные обстоятельства», Иван Степанович уехал из санатория.
В Москве после санаторных приволий ему показалось жарко и чадно, он плохо спал по ночам, садился в майке у открытого окна и, подставляя грудь потоку прохладного ночного воздуха, думал. Жена навсегда осталась в его памяти тоненькой, худоплечей девочкой с маленьким Вадиком на руках, какой он видел ее в последний раз, когда она покидала осажденную пограничную заставу, и теперь с чувством смущения и недовольства собой не находил в себе никакого чувства к ней, теперешней сильной, цветущей женщине, кроме прежнего чувства безнадежной утраты, которым раньше точила его мысль о ее смерти.
«Это, может быть, самое страшное, что накорежила проклятая война, – думал он. – Никто из нас не убит, но жизнь нашу она все-таки унесла… Где, где в этом мире ты, моя девочка с маленьким сыном на руках?..»
Ночь помигивала в окно неяркими летними звездами; Ивану Степановичу становилось холодно, он кутал плечи одеялом и, согревшись, засыпал лишь незадолго перед самым рассветом.
Эти бессонницы изнуряли его, но в остальном он чувствовал себя сносно и дотянул так до осени, пока вдруг, казалось бы, пустячный случай опять не опрокинул его.
На завтрак и ужин он привык довольствоваться бутылкой кефира или стаканом чая с бутербродом, а обедал в столовой неподалеку от дома. Он так привязался к этой столовой, к ее сложным запахам из кухни, к ее кисейным занавесочкам, к одной и той же официантке в кружевной наколочке, к тусклой копии с фламандского натюрморта на стене, что, когда в конце лета столовую закрыли на ремонт, он не захотел изменить ей и готовил себе на обед сам какую-то ужасную стряпню из концентратов. Но вот столовая наконец открылась, и он с разочарованием, переходящим в брезгливое раздражение («Ох уж эти нововведения!»), не нашел в ней ничего от привычного. Исчезли занавесочки и салфеточки, исчез фламандский натюрморт, исчезла официантка в наколочке, и вместо запахов из кухни – запахов жареного лука и печеного теста – стало пахнуть от разноцветных пластмассовых столиков сальной мочалкой. Но главным, что вызвало его неудовольствие, было самообслуживание. Все приходилось тащить на стол сразу – и суп, и жаркое, и кофе, затем возвращать поднос, идти в буфет за минеральной водой, и при всем том у него начали дрожать руки, и он расплескивал суп и кофе по подносу.
Однажды он уронил поднос и, уже не владея собой, стал громко бранить новые порядки, а заодно и горничную, убиравшую битую посуду. Его посчитали пьяным; вышла из своего кабинета заведующая, холодно сказала:
– Пойдемте со мной.
«Упаду. Скандал», – успел подумать он и повалился на подвинутый кем-то стул.
Через несколько дней он оправился и пожелал увидеть сына, мурманским адресом которого заручился еще раньше. Одевшись в свою безукоризненно отутюженную форму без погон, с колодками всех орденов и медалей, он приехал в такси на вокзал, купил билет, но, выбравшись из душной очереди у кассы, вдруг схватил за рукав милиционера и сказал:
– Скорей проводите меня в медпункт.
Там, на жестком, обитом холодным дерматином топчане он умер, прежде чем ему успели оказать какую-либо помощь.








