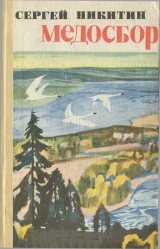
Текст книги "Медосбор"
Автор книги: Сергей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Не оборачиваясь, быстрой деловитой походкой уходят в село к автобусной остановке музыканты. Самое тяжелое позади. Уже с гомоном, с толкотней все рассаживаются по стянувшимся к кладбищу саням и рысцой – шевелись, резва-а-ая! – катят в деревню за поминальный стол.
Народу невместимо много для тесной передней. Родственники, друзья, соседи, сослуживцы-водники… Сижу стиснутый с обеих сторон плечами и – хочешь не хочешь – слушаю сетования колхозного бригадира, который кричит мне в самое ухо:
– Навозили мне вместо минеральных удобрений камней на поле, так и лежат кучей. Хоть камнедробильный завод ставь. Можно такое делать?
И чем больше он пьет, тем решительней наступает на меня:
– Лен у нас спокон веку не родится, а нас каждый год заставляют его сеять. Можно такое делать?
День быстро гаснет. Окно сначала розовеет, потом заволакивается сиреневой мглой и вскоре становится иззелена-синим, почти черным. Поднимаются из-за стола водники. Мне по пути с ними. Рассаживаемся в санях на морозно пахнущем сене теснее друг к другу, ноги мои в городских ботиночках спасительно придавливает бабий зад, и трогаем, скрипя гужами, повизгивая полозьями. Ветра опять нет к ночи. Опять в полях такая тишина, что каждый звук отчетлив, сух и чист, словно он тут же схватывается в звонкую льдинку. Но в санях, в сене, в овчине, в груде наших тел тепло и уютно. И уже без леденящего отчаяния, спокойно и грустно думается о том, что где-то за изволоком березки-свечечки стоят над суглинистым бугром, что вечные звезды с одинаковым равнодушием смотрят и на него и на наш угретый живым теплом возок, пробирающийся по снежному полю.
Осенние листья
В прошлом году было грибное лето. И до поздней осени в березовом лесу с можжевеловым подлеском держались крутолобые белые грибы.
Лес уже сквозил. Под чистым, словно отвердевшим небом летела паутина. Поляны были полны солнца.
Я ходил, расшвыривая листья палкой, искал грибы, а к вечеру вернулся на разъезд, сел под откосом, на угреве, и стал ждать поезда.
Ко мне подошел старик в обвислых портках, заглянул в корзину.
– Хороший грыб, – сказал он. – Ровный грыб, Крепкий грыб. Где брал? Стой! Не говори. Знаю, я по области первый грыбовар был. Несут ко мне, бывало, грыб, а я уж знаю: этот в Пронькиных борах взят, этот – на Машкином верху, этот – у Долгой лужи, этот – за Лыковой гривой. Все вижу – не криво насажен.
– До чего же некоторые трепаться любят, – сказал сидевший повыше меня парень в маленькой кепочке.
Он, видимо, ехал к вечерней смене на завод, о чем можно было догадаться по чрезвычайной замасленности этой рабочей кепочки.
– Стой! – вспыхнул старик. – Объясни, какая такая трепотня? Ты меня знаешь? Я – Лукич. Ага! Съел? Бывало, грыб еще не тронется, а председатель кооперации Иван Потапыч, полковник Набойко, уже у меня в горнице. Бух из галифе на стол литр: «Будешь, Лукич, в этом сезоне варить?» Я ему: «Стой!» Выпиваем литр. Иван Потапыч делает своему шоферу Ванюше глазом вот эдак, и Ванюша бух на стол еще литр.
– И до чего же их много развелось, стариков этих, которые трепаться любят, – опять сказал парень. – Их, я считаю, надо собирать в одно место, кормить, поить, газетами снабжать, но к нормальным занятым людям не подпускать ни под каким видом.
– А ты старостью его не попрекай. Ты, может, к ней, к старости-то, еще чудней придешь, – перебила парня большая краснолицая женщина с бидонами и корзинами, завязанными тряпицами.
– Врет уж больно, – вяло отозвался парень. – Я да я… Не уважаю.
– Вру?! – изумился старик. – Я же Лукич! Теперешний председатель кооперации рукава закатает, грудь распахнет, сапоги наденет и ну горланить. А грыба в магазинах нет. Грыб, он сапог не боится. А Иван Потапыч, полковник Набойко…
– Ну, уж так и полковник? – усомнился парень.
– Полковник в отставке и при двенадцати орденах, – не сплоховал старик. – Он, значит, хоть рукавов не закатывал, а план по грыбам у него всегда в круглых процентах был. Потому что полковник Набойко понимал Лукича. Выпьем мы с ним второй литр. «Будешь, – спрашивает, – в этом сезоне варить?» Я только на старуху свою гляну: как, мол? А она у меня махонькая, сухонькая, как веничек, винцо тоже попивает. Но силы семижильной – первеющая моя помощница. Она мне знак дает: соглашайся, дескать, чего уж там, выдюжим. По триста процентов выламывали мы с ней. Вот как!
– Нет, ну совершенно не могу я этого старика слушать, – сказал парень и пересел повыше.
– Слушай не слушай, а уж таковские мы, – ухмыльнулся старик. – Не криво насажены.
На разъезд пришел гармонист, за ним – девушки в нарядных платьях, коротких носочках и туфлях на толстых каблуках. Ни на кого не обращая внимания, они встали в кружок и ударили «елецкого». Потоптались немного, попели визгливыми голосами, а потом вдруг гармонист вывел странную и неизвестную мне песню о том, как «на шикарном на третьем троллейбусе кондукторша Маша была», как полюбила она молодого инженера в очках, он все время только и читал книгу и «в жизни билета не брал». Слова были самые примитивные, но грустная, исполненная доброго сострадания к несчастной Маше мелодия необыкновенно соответствовала настроению этого осеннего дня, и казалось, что, слушая ее, лесу хорошо ронять свои блеклые листья, солнцу хорошо греть последним теплом своим землю и небу хорошо сиять непорочной чистотой своей в недосягаемой выси.
– Все они, мужчины, такие, – вздохнула женщина с бидонами и корзинами. – Им бы только свой интерес соблюсти. То он книжку читает, то он рыбу удит. Я ему говорю: «Хоть бы речка пересохла, что ли». А он говорит: «В кадку воды налью и буду удить».
– А что ж ему? Круглый день возле тебя сидеть? – фыркнул сверху парень. – Это он, пожалуй, соскучится.
Женщина неторопливо развернула к нему свой мощный торс; мужской пиджак на ее плечах натянулся.
– Откуда ж ты такой тут взялся? – с удивлением спросила она.
– Я-то? Недальний, – усмехнулся парень.
– Трудно, я гляжу, тебе жить.
– Это почему же?
– С людьми не умеешь ладить. Ты, дедушко, – обратилась она к старику, – не давай внимания его словам, рассказывай дальше. Не варишь теперь грибы-то?
– Не нужен, видно, грыб стал, – вздохнул старик.
– Ну, а где же твой грибной полковник? – спросил парень. – Наверно, завалил план с таким войском, как ты, и поперли его по собственному желанию.
– Пустые слова, – сказал старик. – Стой! Я сейчас объясню. Он был одинокий человек, войной обитый, все одно что тополь грозой.
– Ох-хо-хо, – вздохнула женщина, – жизнь наша…
– Стой! В эти места он с тоски пришел. Посмотрел, что родной дом порушен, жены, детишков следа нет, и потел по земле один, как перст. «У вас, – говорит, – места древние, леса, реки дивные, люди приветливые. Мне понравилось, я и осел». Ну, осел, живет и, между прочим, как человек еще не старый, интересуется обзавестись новым семейством. Первый раз это дело у него не задалось. Попалась ему девка молодая, неудобная…
– Это как же – неудобная? – спросил парень.
– А так и неудобная. Накатит на нее: ходит неприбранная, нечесаная, сядет, молчит, ногой качает, ничего, кроме халвы, не ест…
– Ох, страсти, – ахнула женщина.
– Года не прожили – разошлись. После этого он долго бобылил. Обожжешься на молоке, на воду дуть будешь. Однако ежели человек хороший, счастье его в свой срок достанет. Тут уж как ни крути, а ежели человек хороший, то непременно либо он по билету выиграет, либо сын его на врача выучился и в шляпе ходит, либо дочь в Москве живет, и он к ней в гости катает.
– До чего же все-таки ты, старик, канительный, – вздохнул парень. – И рассказывать-то толком не можешь, все тебя куда-то в сторону заносит.
– Ничего подобного, по самой середке гребу, – невозмутимо отозвался старик. – Жила в нашем селе, – ткнул он рукой в сторону длинного ряда крыш за откосом, – учительница Анна Афанасьевна. Собой невидненькая и уже седенькая на височках, а такая веселая да хохотливая. Бывало, в тугие-то годы после войны заваривает морковный чай и все: «Ха-ха-ха, вот ведь, Лукич, и чай-то у меня морковный и сахару-то нет, совсем угостить тебя нечем». И опять: «Ха-ха-ха». А, между прочим, взяла из детского дома сиротку и пестовала ее, как родное дитя. Когда у нас Иван Потапыч, полковник Набойко, появился, эта самая сиротка уж девушкой была и в городе в медицинском училище училась. Чернявая, румяная – прямо яблочко анисовое, до чего хорошая девушка. Приезжала по воскресеньям домой. Идет вот так же осенью Иван Потапыч нашими задами, вышагивает, как журавль – высокий был, голенастый, – а она навстречу ему. И несет целый пук всяких листиков. «Зачем несешь?» А та отвечает: «Для гербария…» Знаешь ты такое слово, перец? – неожиданно спросил старик парня.
– Ну, ты не больно… Рассказывай знай.
– Стой, расскажу. «А кто тебя этому учил?» – спрашивает Иван Потапыч. – «А мы, – говорит, – этим с папой еще на Украине занимались, когда я маленькой была». – «А где твой папа?» – «Не знаю». – «А как тебя звать?» – «Катей». – «А маму?» – «Ту маму Верой звали, а эту Анной». Тут полковник Набойко даже на колени перед ней встал. «Прости, – говорит, – что поверил я, будто ты погибла, Катюша, и не искал тебя. Ведь ты моя дочка…»
– Ахти, – прошептала женщина и вытерла глаза.
– Стой! – сказал старик. – После этого Иван Потапыч и учительница порешили, что дочку им не делить, поженились и поехали в Сибирь.
– Зачем же в Сибирь-то? Нешто тут счастью тесно? – спросила женщина.
– А туда Катюшу после учебы послали. Вот снялись они и поехали на новом месте огород городить.
– И все врет, – заключил парень. – Ну разве так бывает в жизни, чтобы люди так просто друг друга на задах нашли? Нет, не могу я этого старика слушать.
И он подвинулся еще дальше, за гребень откоса.
– Ничего удивительного, – возразила женщина. – Человек войной корежен, всякими бедами трачен, он должен свое счастье найти.
– А то как же! – уверенно сказал старик.
Вдали зашумел по лесам поезд. Он набежал на разъезд в железном грохоте, в шипенье пара, в мелькающем блеске стекол, отразивших низкое солнце. Пока девушки суматошно залезали на высокие подножки вагона, гармонист все наигрывал вполголоса «елецкого», дожидаясь, когда поезд тронется, чтобы лихо вскочить на ходу. Угнездилась в тамбуре и женщина со своими бидонами и корзинами. Парень, посасывая окурочек, занял плечами всю дверь. Один только старик, оказалось, никуда не ехал. Он еще раз заглянул в мою корзинку и сказал:
– Хороший грыб, ровный, крепкий…
Паровоз загудел, и мы поехали.
Десяток крутых яиц
Эту историю рассказал мне цирковой клоун Жакони, старый добрый толстяк в сандалиях на босу ногу, длинной рубахе под поясок и штанах с огромными пузырями на коленках. Все у него было огромных размеров. Живот. Голова. Нос. Брови. Он много ел, громко смеялся, а храп его записывали на пленку и транслировали во время обеда по всему санаторию, дабы усовестить добрейшего Демьяна Данилыча.
– Да-а-а, – самодовольно сказал он, вслушиваясь в сложнейшие рулады своего храпа. – Бывало, львы дрожали в своих клетках, как болонки, когда я ложился за кулисами вздремнуть на куче опилок.
Мы сидели с ним за одним столом. Однажды нам подали на завтрак по два крутых яйца, обыкновенных куриных яйца, неспособных, казалось, вызвать в ком бы то ни было особой веселости. Но Демьян Данилыч, взяв в свою ручищу этот сгусточек белка, вдруг выпустил из себя серию таких громогласных «ха-ха-ха-хо-хо-ох-ха-ха», что официантка, вздрогнув, уронила на пол десертную ложечку.
– Демьян Данилыч, вы чему?
– Ха-ха-ха-ох-ох-ох-ха-ха… Зарежьте – не скажу. Лучше не спрашивайте… Ох-ха-ха… Этого я вам никогда не скажу… Ох…
Он вытер платком слезы и принялся облупливать яичко, по временам икая от смеха, которому, казалось, было тесно в его рубенсовском чреве.
Море в то утро, как синий плюш, было все в мелких серебристых волнах. Мягкие, теплые, они катились вдоль берега, омывая наши ноги, а мы лежали с Демьяном Данилычем на горячей гальке и в блаженном полусне щурились на сверкающее море.
– Хванчкара, виноград, солнце, пенсия… Скажите мне, как это называется? – сонно бормотал Демьян Данилыч. – Не люблю я себя на отдыхе, нет, не люблю. Потребленчество какое-то, ей-богу. Всю жизнь я был весел и теперь получаю за это пенсию… Абсурд! Вы думаете, я был весел по профессии? О, нет! Смех был моей потребностью. Я не только смешил людей, я сам смеялся на арене и в жизни. Веселость должна быть нормальным состоянием человеческого духа. И к этому мы придем в наш век, вот увидите! Человек станет в меру работать, хорошо и вовремя питаться, мыться каждый день в ванне, заниматься спортом и много-много смеяться. Тогда он будет здоров телом, ясен в мыслях, прост в желаниях и добросердечен в отношении к людям. Смех – это солнце в крови. Великий мастер смеха Марк Твен говорил, что морщины на лице человека должны быть только следами былых улыбок. Я много смеялся, у меня много морщин, но я проживу еще очень долго. Я уверен в этом.
– А чему вы смеялись сегодня за завтраком? – спросил я. – Может, все-таки расскажете?
– Черт с вами. Не слишком-то приятно рассказывать о том, как ты попал в смешное положение, но мне будет приятно, если вы тоже улыбнетесь хотя бы.
Этот пустяковый казус вышел со мной вскоре после гражданской войны, году в двадцать восьмом или девятом, точно не помню. Попал я как-то с цирком Шапито в один маленький городишко.
Приехали мы туда пароходом. Помню, стоял я на палубе, возле штурманской рубки, смотрел на город и все любовался стройной, беленькой, как невеста в кружевах, церковкой. Люблю я такие русские городки над речкой. Мечешься, мечешься по свету, шумишь, хохочешь, буянствуешь порой с друзьями – и вдруг попадаешь в эдакий бабушкин рай, где улицы сплошь зарастают мягкой гусиной травой и стоит такая тишина, что ночью можно проснуться от стука упавшего в саду яблока. Хорошо! В таких случаях я перво-наперво обзавожусь удочкой, ржавой банкой для червей и каждое утро устремляюсь к реке. Через неделю такой жизни я, как аккумулятор, заряжен на целый год энергией, бодростью и весельем.
В этом городе я проделал то же самое. Вырезал в прибрежном орешнике удочку и стал встречать утренние зори на речке. Нет, рыба меня не интересовала. Я просто наслаждался праздностью, а удочка служила ее оправданием, громоотводом любопытства, которое, естественно, должен был бы вызывать вид здоровенного детинушки, часами сидевшего без дела на берегу. Я дышал, пил тинный запах реки, валялся на траве, глазел в небо и был счастлив…
Всегда в такие вылазки я прихватывал с собой прочный завтрак. Взгляните на меня, и вы поймете, что он обязан был отличаться прочностью – ведь я к тому же был молод, здоров и чертовски подвижен.
Однажды у меня не нашлось ничего, кроме десятка яиц, которые я купил у хозяйки дома, где квартировал. Я сварил их в котелке над костром. Ох, это было наслаждением – сесть после купанья у дымящегося котелка, достать из него в меру остуженное яичко, тюкнуть его о краешек, благоговейно облупить и, посолив, отправить в рот!
За этим-то священнодействием и застали меня двое мальчишек – два таких, знаете ли, дикорастущих гения рыбной ловли с кривыми удочками.
Они внимательно и долго созерцали, глотая слюни, как я очищал первое яйцо, потом один из них издевательски заметил:
– Дяденька, а слабо вам целиком яйцо заглотать.
– Заглотает, – уверенно сказал другой, видимо соразмерив яйцо с моей необъятной утробой.
Я цыкнул на них, и они ретировались шага на два назад.
– А я заглотаю, – угрюмо сказал оттуда первый, и второй тотчас подтвердил, что это для них дело плевое.
– Дай-ка нам по яичку, мы тебе покажем, – добавил он таким тоном снисхождения к моему невежеству, что я почувствовал себя уязвленным.
Ах, думаю, черти полосатые, неуж проглотят! И дал им по яйцу. Они преспокойно очистили, сунули в свои цыплячьи ротишки и хоп! – готово.
– Ну, а теперь, – говорят, – вы.
А во мне, видно, тоже бродила изрядная порция ребячьего азарта.
Сунул я в глотку яйцо и, конечно, изрыгнул его на потеху мальчишкам со слюной и соплями прямо в золу.
Тут уж во мне было задето профессиональное самолюбие. Я умел делать множество очень сложных фокусов – из носа эти самые яйца вынимал, толок их в шапке, а потом в совершенно сухом виде надевал ее кому-нибудь из публики на голову – и вот осрамился.
– А ну, говорю, – показывай, как это делается.
– Да очень просто, дяденька.
Взяли они еще по яйцу – хоп! И опять я ничего особенного не заметил, никакого подвоха. Чистая работа. Нет, думаю, тут все-таки есть какой-то секрет.
– Стой! – говорю. – Теперь глотай кто-нибудь один, а я смотреть буду.
Проследил, как мальчишка еще два яйца проглотил, попробовал сам и получил тот же эффект с той лишь разницей, что яйцо у меня в глотке раскрошилось и брызнуло изо рта в разные стороны фонтаном крошек.
– Ну, – говорю, – деникинцы, если вы не расскажете, как это делается, я вам глаза на затылок переставлю.
– Расскажем, дяденька.
Взяли они по останному яичку, очистили.
– Смотрите, – говорят.
Хоп! – только я и видел эти яички.
– Ладно, – говорю им уже ласково. – Я вам трешницу дам, только расскажите, в чем тут секрет.
– Да ни в чем, дяденька. Просто глотаем – и все тут.
Посмотрел я на них – рожи серьезные, даже сострадательные, а глаза – н-ну, бедовые!
– Сыты, архаровцы?
– У, как сыты, дяденька! Спасибо!
И тут я захохотал.
Представляете? Блещущий летний день во всей своей красе, ветер с реки, одуванчиковый луг и на нем – мы втроем катаемся в приступе неудержимого хохота…
С тех пор я не могу равнодушно видеть крутые яички. Я вспоминаю и мальчишек, и этот день, и луг… И мне хочется смеяться так же неудержимо и весело.
Вот, мой милый. Не всегда грустны воспоминания стариков о прошедшей молодости, как это принято считать.
Демьян Данилыч откинулся на спину, закрыл глаза и стал меланхолично кидать камешки, падавшие в море с тихим бульканьем.
Над нами горело белое южное солнце.
Море
И в Москве, и в Серпухове, и в Туле шел дождь. За окном кружились раскисшие поля, взлетали и падали унизанные бисером капель провода, и вдаль, к мутному горизонту, тянулись, блестя, словно накатанные рельсы, залитые водой колеи проселков. Наступила осень, сырая и грязная. Хорошо было убегать от нее на юг, к морю, и, наверно, поэтому у всех пассажиров сочинского поезда было такое настроение, словно они, сговорившись, остроумно и безобидно надували кого-то.
Девушка, которую в Москве провожали шумные, хохочущие, а потом дружно всплакнувшие подруги, долго болела, была бледна, с тонкой слабенькой шеей, но и она, захваченная этим настроением, иногда улыбалась чему-то, сидя в углу, у окна, и кутая плечи в теплую кофту.
На третий день пути она проснулась очень рано. Поезд стоял. Широкая клубящаяся полоса солнечного света, проникнув в щель между шторами, косо рассекала полумрак купе; из коридора чуть слышно доносились прозрачные звуки радиопозывных Москвы. Девушка медленно и вяло поднялась, взяла полотенце, отодвинула тяжелую дверь и вдруг тихо вскрикнула, пронзенная каким-то неведомым доселе чувством. Она увидела море. Она ощутила его дыхание – йодистый ветер, залетавший в окно, – и для нее перестало существовать время. Голубовато-зеленая даль, вся в стеклянном блеске широких и плавных волн, смутила ее своей космической беспредельностью; о чем-то вечном и тайном рокотал меланхоличный утренний прибой, и самая обычная жизнь в виде белого вокзальчика, тощей козы на привязи, босоногой девчонки в полосатой тельняшке казалась ей от близости с морем какой-то неизведанной и странной.
Дрожащий отблеск лежал на ее руках, на помятой после сна пижаме. Он был как ласка, как доброе приветствие, как обещание здоровья и счастья, и, целуя свои руки, облитые этим чистым светом моря, она опять улыбалась сквозь слезы.
По утрам море неторопливо наваливало на берег мелкие прозрачные волны. Они бесшумно лизали пеструю гальку, заставляя ее слюдянисто блестеть в сизоватом свете южного утра, осененного гигантской тенью гор.
Девушка любила этот утренний час, когда воздух был свеж, как холодный нарзан, и спускалась к морю по широкой белой лестнице, нисходящей от санатория. На берегу она сбрасывала халатик и входила в воду. Потом ложилась на топчан, а ветер, густой и мягкий, гладил ей кожу, нагонял дремоту, словно гипнотизер. Она поворачивалась к солнцу то спиной, то грудью и постепенно начинала чувствовать, что дух покидает ее, мысли растворяются и остается только тело, пьющее жар солнца, обласканное ветром, пропитанное крепкой морской солью.
Она полюбила южный рынок. Всем – гомоном, запахом, цветом – он отличался от московского. Когда она впервые очутилась среди россыпей полосатых арбузов, янтарных груш, смуглых персиков, алых помидоров, восковато-румяных яблок, прозрачного, налитого жидким солнцем винограда, глаза у нее по-детски вспыхнули любопытством и страстью.
Она купила огромную тяжелую кисть винограда сорта «чаус» и, чувствуя на ладони ее соблазнительную тяжесть, не могла удержаться, стала отрывать и есть упругие, круглые ягоды, заливавшие рот густым соком.
Потом она попробовала нежно-сладкой хванчкары, которую наливала прямо из бочки толстая флегматичная армянка, и долго еще, как зачарованная, толкалась среди этой яркой пестроты, гортанных выкриков кавказского люда, весело торговалась с продавцами, пока наконец солнце, горевшее в небе, как магний, не погнало ее опять к морю.
По вечерам на спортивной площадке санатория играли в волейбол. Сидя на лавочке под большим платаном, трещавшим на ветру своими жесткими листьями, девушка издали следила за игрой, волновалась, досадовала и радовалась, то хлопая в ладоши, то нервно ударяя кулачком по коленке.
Был теплый влажный вечер, полный фиолетового сумрака и предгрозовой тревоги.
Внезапно на листву платана рухнул дождь. Без молний, без треска он лил, обильный и теплый, непохожий на летние дожди среднерусской полосы. И пахло от него незнакомо – должно быть, эвкалиптом и лавром.
Девушка укрылась в ажурной беседке, куда залетали тяжелые, как пули, капли. Воздух был густ и черен, как тушь, но море все равно вспыхивало на гребнях волн светом стальной окалины и казалось очень холодным. Она стояла, прикусив листок лавра, вдыхая пахучую пряную горечь, и голова у нее покруживалась от этого запаха, от предчувствия чего-то большого и необыкновенного, от счастья.
Когда дождь кончился, она вышла за ворота и побрела по улицам незнамо куда. Казалось, что в этом большом городе почти нет домов. Они были скрыты за деревьями а только кое-где выступали из темных кущ белыми пятнами. Звучно щелкали по асфальту капли.
Она заплуталась, села на какую-то лавочку и просидела до рассвета. Он тянулся бесконечно долго; в нем совсем не было золотых и розовых тонов, зато преобладали серый, голубой и синий, а туман, которым курился мокрый асфальт, дополнял подбор красок фиалковой мглой.
То ли потому, что она не спала всю ночь, или надышалась лекарственными испарениями южной зелени, у нее болела готова. Она встала и пошла наугад по длинной улице, туда, где, ей казалось, должно быть море. Улица вывела ее к знакомым местам, к рынку. Он был еще пуст. За решетчатым забором ходила женщина в брезентовом фартуке, в резиновых сапогах и, влажно ширкая метлой, гнала перед собой вал мусора.
Вернувшись в санаторий, девушка нырнула под свистяще-скользкую, прохладную простыню и тотчас заснула. Несколько раз ее будили, справляясь о здоровье, а когда она наконец проснулась, солнце, клонясь к западу, желто светило сквозь легкие вогнутые ветром шторы, и в комнату доносилась гулкие удары по мячу.
– Спокойно. Беру, – слышался чей-то голос.
Ей хотелось тотчас же выбежать туда, на простор к свету, к движению, но, еще не веря в свои силы, она продолжала лежать с закрытыми глазами.
– Спокойно. Беру, – опять послышалось за окном.
И она уже не могла оставаться в комнате. Вскочила с постели, набросила платье, махнула расческой по волосам и выбегала в парк – весь в ярких движущихся пятнах тени и света.
Потом, напрыгавшись, насмеявшись, еще в азарте игры, разгоряченная и счастливая, она сбежала по лестнице к морю. Прыгая по ступеням, она не чувствовала своего веса, ей было легко, словно кисейные стрекозьи крылья поддерживали ее в неосязаемо нежном воздухе, и казалось, что еще одно усилие, согласный порыв души и тела – и она, раскинув руки, плавно полетит над морем. Внизу она села на мокрую гальку в полосе прибоя, положила голову на колени и вся отдалась ласке теплых бархатистых волн.
Море ласкало своей нежной голубизной ее глаза, йодистый ветер гладил волосы, и невысокие длинные волны окатывали ступни ног, щекоча их высыхающей пеной.








