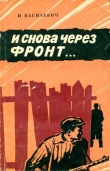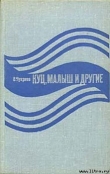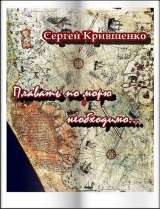
Текст книги "Плавать по морю необходимо"
Автор книги: Сергей Крившенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
В другом месте Гончаров более точен, он скажет, что русские люди шли в эту глушь, осваивая восточные окраины, приносили славу отечеству. Здесь же он отмечает, что русские матросы быстро сходятся с местными народностями. Не ускользнет от взора Гончарова умение русских матросов «объясняться по-своему со всеми народами мира». С большой симпатией делает он зарисовки быта нивхов, нанайцев, рисует облик тунгуса Афоньки с товарищем своим Иваном, как их называли моряки. Их портреты даны с долей характерности. Афонька ходит на зверей с кремневым ружьем, которое сделал чуть ли не сам или выменял в старину. Гончарова радует дружба русских моряков с коренными народами Дальнего Востока и Сибири: нанайцами, нивхами, якутами. Это в традиции русской литературы. Гуманистическая традиция эта идет от очерков Крашенинникова, от произведений Радищева, Пушкина (вспомним его замечания на полях книги Крашенинникова). Большая русская литература всегда отличалась демократической отзывчивостью, гуманностью, уважением других народов, стремлением к правдивому отражению жизни, пробуждению добрых чувств. Вот один из эпизодов, подмеченных Гончаровым на Дальнем Востоке – в нем есть символическое обозначение рождающейся дружбы народов. Дружбы, которая закрепилась в общем труде. Это этюд из главы «От Манилы до берегов Сибири»: «Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один, высокого роста, красивый, с покойным, бесстрастным лицом: это из наших. Другой, невысокий, смуглый, с волосами, похожими и цветом и густотой на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия: это – из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом…» Гончаров любуется слаженностью работы, которая свела двух разных людей. Бытовая картина, но сколько в ней жизненной энергии!
Так в общем деле росли связи людей труда различных национальностей, рождалось чувство трудовой общности, и это зорко увидено писателем. Такие наблюдения писатель пополнит на пути в столицу, в Якутии, в Сибири, где жизнь не раз сведет его и с местными жителями. Гончаров видит, что приход русских в Сибирь, движение их на тихоокеанские берега благотворно сказывается на развитии местных жителей. Он вступает в полемику с автором книги о якутах «Отрывки о Сибири» Геденштромом[133]133
СПб, 1830.
[Закрыть]. Тот высокомерно утверждал, что «якутская область – одна из тех немногих стран, где просвещение или расширение понятий человеческих более вредно, чем полезно». «Другими словами, – иронизирует Гончаров, – просвещенные люди, не ходите к якутам: вы их развратите! Какой чудак этот автор!» Гончаров высмеивает столь нелепые «парадоксы», размышляет о необходимости просвещения якутов и других народов, о прогрессивной роли передовых русских людей в этом полезном и благородном деле.
Гончаров кратко описывает свое пребывание в лимане Амура, куда он пришел в августе 1854 года. Шхуна «Восток» покачивалась, стоя на якоре, между крутыми зелеными берегами Амура, а Гончаров и его спутники гуляли по прибрежному песку, праздно ждали, когда скажут трогаться в путь, сделать последний шаг огромного пройденного пути: оставалось каких-нибудь пятьсот верст до Аяна.
Фрегат «Паллада» был оставлен в Императорской гавани. Чтобы не допустить захвата его англо-французской эскадрой, бродившей по океанским просторам, администрация дала распоряжение затопить «Палладу». И 31 января 1856 года «Паллада» была затоплена в Константиновской бухте Императорской гавани. О судьбе «Паллады» Гончаров коротко расскажет в главе «Через двадцать лет», написанной в 1874 году. В 1891 году вышли очерки «По Восточной Сибири. В Якутии и Иркутске». Эти главы вошли в состав книги.
Гончаров побывал в Петровском зимовье. Он упоминает об открытии транспортом «Байкал» в 1849 году Амурского лимана, а также пролива между материком и Сахалином. Естественно в этом месте было ожидать встречи с Невельским и его сподвижниками, упоминаниями их имен. Но этого не произошло. «По ряду причин, и главным образом, из-за секретности мероприятий, проводившихся в то время в устье Амура, он не оставил описания этих мест», – пишет один из исследователей[134]134
Большаков А.П. Гончаров на ДВ // Материалы межвузовской конференции… Хабаровск, 1968. С. 135.
[Закрыть]. Объяснение не во всем приемлемое. Тем более, если помнить, что и ранее Гончаров обходил многие факты освоения Дальнего Востока, не считая нужным называть имена мореплавателей, заслуги которых, конечно, знал. Здесь же Гончаров все объяснил по-своему: «Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал с нашими, в качестве путешественника, на берег в Петровском зимовье и нетерпеливо ждал, когда они воротятся, чтобы перебежать Охотское море, ступить, наконец, на берег твердой ногой и быть дома». Но задул жестокий ветер, и его спутники пробыли на берегу целые сутки. Кто знает, не пожалел ли Гончаров впоследствии, что не съехал на берег, не встретился с Невельским… А нам, читателям, очень жалко!
По пути в Аян «Восток» подстерегала опасность встречи с французскими и английскими судами. Но и здесь тон описания лишен романтического ореола. Автор рассказывает, как по пути, якобы для развлечения, приняли участие в войне, задержали судно, оказавшееся китоловным. И только в примечаниях Гончаров считает нужным отметить, что «в это самое время, именно 16 августа, совершилось между тем, как узнали мы в свое время, геройское, изумительное отражение многочисленного неприятеля горстью русских по ту сторону моря, на Камчатке». Геройское, изумительное отражение неприятеля – такова оценка Гончаровым Петропавловской эпопеи.
Плавание «Паллады» в этих условиях было далеко не безопасным. «Палладе» «пришлось переживать много такого, что не выпадало на долю других русских судов и что никак не укладывается в рамках мирного и безмятежного вояжа», – замечал Энгельгардт. Было решено при встрече с неприятелем принимать бой. Но, слава богу, все обошлось.
Замечательны по-своему страницы, посвященные прибытию в Аян, завершению путешествия. С одной стороны, это реалистически точные, зримые описания тамошних мест, а с другой – авторские размышления несколько приподнятого, даже романтического характера. Зримо предстает перед читателем этот «маленький уголок России», как называет Аян автор: «Ущелье все раздвигалось, и, наконец, нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных домиков, стоящим друг к другу, как известная изба на курьих ножках, – по очереди появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между ними кочки болот. Вот и весь Аян». Основание Аянского порта положено благодаря трудам архиепископа Вениамина и бывшего губернатора Камчатки Завойко, отмечает Гончаров.
А в душе путешественника – возвышенные примеры возвращения к родным берегам знаменитых путешественников, когда кровля родного дома кажется сердцу «целой поэмой». Античное, своеобразно-романтическое сталкивается с обыденным, реальным – и, кажется, подчас Гончаров нарочито снимает ореол романтики. «Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскал глазами Итаки? Это пакгауз, – прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников». Однако же за этим явным снижением идет и возвышение романтического и героического в жизни – и этого нельзя не заметить. Путешественники ступают на родной берег: «Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака, и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп!» – восклицает Гончаров, рисуя реалистически достоверную картину предстоящего пути. Романтический мотив врывается в рассказ о прощании с морем. «Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было сине, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута – и скала загородила его. „Прощай, свободная стихия! В последний раз…“» В реалистической картине Гончарова мелькнул романтический пушкинский образ, приоткрывая душевное волнение героя. Развивая мотив романтики и героики, Гончаров потом в главе «Через двадцать лет», вспоминая «страшные и опасные минуты плавания и рассказывая историю гибели „Дианы“, сравнит подвиги русских моряков с подвигами героев „Одиссеи“ и „Энеиды“ и скажет: „Ни Эней с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты…“
* * *
И здесь пора вернуться к спору о героическом начале в книге Гончарова. В 30-е годы Б.М. Энгельгардт высказал мнение, что героический план начисто отсутствует у Гончарова и что в силу особого характера его творческого сознания „патетическое“ давалось ему чрезвычайно трудно»[135]135
Литературное наследство, 1935, кн. 22, С. 331.
[Закрыть]. По мнению Энгельгардта, Гончаров изгнал из своей книги патетический и романтический элементы. Это мнение оспорил Г.Ф. Лозовик в статье «Морская тема в книге И.А. Гончарова „Фрегат „Паллада“[136]136
Ученые записки // Ростов-на-Дону, 1955. Вып. 2, т. 13. С. 89.
[Закрыть]“». «Но разве реализм исключает изображение героического, в частности, повседневной „будничной“ героической борьбы людей с грозной и капризной морской стихией?» – спрашивал он, оспаривая утверждение Энгельгардта, что Гончарову «не давалась беспокойная героическая тематика, требующая повышенно-эмоционального напряжения стиля». Лозовик приводит примеры описания урагана в Тихом океане, ряд морских пейзажей, свидетельствующих, по мнению автора статьи, о романтической приподнятости «Фрегата „Паллады“». Отмечая это, В.Г. Вильчинский в книге «Русские писатели-маринисты» подчеркивал, что подобные страницы «составляют исключение в ровном и нарочито приземленном стиле Гончарова», для которого в целом, по справедливому замечанию Энгельгардта, характерно «спокойное, слегка ироничное, шутливо-добродушное описание». Этому вторят и другие: «добродушно-ворчливый, шутливый (по отношению к себе) тон рассказчика…»[137]137
Семанова М.Л. О своеобразии жанра путевого очерка. В сб. «Проблемы метода и жанра», Томск. 1978. С. 28.
[Закрыть].
А между тем характеризовать стиль повествования как только «спокойное, слегка ироничное, шутливо-добродушное описание» или «добродушно-ворчливое», «нарочито приземленное» было бы неточно. Гончаров не отрешается и не от патетики, и не от своеобразного пафоса. И, несмотря на справедливость многих упреков в том, что он не показал в полную силу героику морского труда, героическое начало в книге обойти нельзя. К сожалению, дальневосточные и сибирские страницы, оказавшиеся за пределами морского путешествия, оказались за бортом некоторых литературоведческих работ. А между тем без этих размышлений не мыслится образ одного из главных героев этой «скромной Одиссеи» – образ самого автора с его глобальной мыслью о путях России.
Продолжалось путешествие, но не похожее уже «на роскошное плавание на „Фрегате“». Как известно, Гончаров в дороге от Аяна до Петербурга пробыл полгода. «Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь», – замечает будущий автор «Обломова». Особая жизнь! Дорога! Болота, реки, бедные жилища, своеобразие языка, снег, морозы. И опять: «Зачем я здесь? Что суждено этому краю?» Сухопутным путем, на коне, в телеге, на лодке, а где и пешком возвращался он в столицу. Конечно, на его долю не перепадает всех тех тягот, которые достаются казакам и проводникам-якутам. Его «высокоблагородие» опекают, но все же… Одна дорога через тайгу и болота, через каменистые отроги и перевалы, через студеные реки не раз повергает в изумление и заставляет подумать о тех, кто живет в этом краю, слывущем «безымянной пустыней». «Он пустыня и есть. Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с ледяными вершинами…» – признается писатель. И при этом, рассказывая, что всюду путешественника встречает кров и очаг, не удержится воскликнуть, вопрошая: «Увы! Где же романтизм?»
Он показывает тех, кто одолевает эту природу, кто на этих землях обжился, обустроился, занимается хлебопашеством, в поте лица своего добывает хлеб насущный.
Русские обустроили эти места, проторили тропы, построили мосты, станции. Конечно, все это еще зыбкое, первичное, но все же: пусть «мост сколочен из бревен, но вы едете по нем через непроходимое болото». Пусть на станции плохая юрта для ночлега, но все же это кров, тепло. И здесь естественно возникает перекличка с Аполлоном Майковым, который в своей статье назвал «русский пикет в степи зародышем Европы»[138]138
СПб Ведомости, 11 августа 1854 г.
[Закрыть]. В таком случае, спрашивает Гончаров, «чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи еще в памяти у нас мрачные предания, как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений?» Так набирает высоту мысль о героическом начале и деяниях русских людей в Сибири. «Робкие, но великие начинания» – и Гончаров по-своему благословляет их. Гончаров напоминает о порочных методах западной цивилизации. В этом молодом крае одно только вино, на его взгляд, погубило бы местных жителей, «как оно погубило диких в Америке». И потому хочется ему видеть в русской работе в Сибири «уже зародыш не Европы в Азии, а русский самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно». Мы не утверждаем, что вся жизнь пошла по Гончарову, но мечта была реальной, в ней светится русский идеал.
Как будто и не в манере Гончарова, скажем, рисовать характер русской женщины так, как о нем писал поэт Некрасов, но вчитайтесь в отрывок, где он описывает встречу с молодой крестьянской девушкой, и вы почувствуете – не мог и он не восхититься красотой и силой русской крестьянки. Девушка пригласила Гончарова осмотреть строящуюся избу. «Мы вошли: печь не была еще готова; она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень высок; три большие окна по фасаду и два на двор, словом, большая и светлая комната. „Начальство велит делать высокие избы и большие окна“, – сказала она. „Кто ж у вас делает кирпичи?“ – „Кто? Я делаю, еще отец“. – „А ты умеешь делать мужские работы?“ – „Как же, и бревна рублю, и пашу“. – „Ты хвастаешься!“ – Мы спросили брата ее: правда ли? „Правда“, – сказал он. „А мне не поверили, думаете, что вру: врать нехорошо! – заметила она. – Я шью и себе и семье платье, и даже обутки (обувь) делаю“. – „Неправда. Покажи башмак“. Она показала препорядочно сделанный башмак. „Здесь места привольные, – сказала она, – только работай, не ленись…“[139]139
Указ. собр. соч. С. 509.
[Закрыть]». Как тут не вспомнить пафосных строк о русской женщине в финале романа «Обрыв»? Русская «женщина из народа» видится писателю великой силой, как новгородская Марфа, как те царицы и княгини, что, «не оглянувшись на столп огня и дыма, идут сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, ведя дряхлую мать и взглядом и ногой толкая вперед малодушного мужа… На лице горит во всем блеске красота и величие мученицы. Гром бьет ее, огонь палит, но не убивает женскую силу» («Обрыв»). А ведь не написал бы Гончаров этого доброго слова во славу русских женщин, если бы он не знал и не ведал о русских женщинах, женах декабристов, которые пошли в Сибирь во след за мужьями, о женах русских путешественников – и Наталье Шелиховой, и Екатерине Невельской, и многих других.
И эта встреча с молодой крестьянкой, строящей избу, и с ямщиком Дормидонтом, претерпевающим все людские скорби и неунывающим, и другие встречи с якутами, русскими – побуждают писателя думать о будущем богатого и пустынного, сурового и приветливого края. Писатель убежден – придет время, «безымянная пустыня» превратится в жилые места, и спросят тогда – кто же «этот титан, который ворочает сушей и водой? Кто меняет почву и климат?» И уже совсем патетически заговорил Гончаров, и патетика его тревожит сердце читателя: «И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и также не допытаться, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться – и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее, и теперь хотят возвратить творцу плод от брошенного им зерна. А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом…»[140]140
Там же. С. 527.
[Закрыть]. Что здесь? Идея величия труда созидателей египетских пирамид? Прославление успехов цивилизации, освободившей черных от рабства? Особое слово о мужестве тех, кто «выдумал Сибирь» и кому предстоит еще так много сделать под северным небом? И то, и другое, и третье. Но по-особому подчеркнуто здесь значение цивилизующего влияния русских, России, ее «легиона героев». Потому не следует мысль Гончарова подправлять, как это подчас делается. Особенно не хотят замечать жесткой критики Гончаровым западных колонизаторов, его стремления предостеречь русских людей от эгоизма и цинизма, свойственных и англичанам, и американцам. У Гончарова вы не найдете ни грана умиления. И не случайно он подчеркивает цивилизаторскую миссию России перед человечеством. Преображение Сибири – русский самобытный пример цивилизации… Что из того, что это не только реальность, но и мечта? И не случайно также эта мечта о могуществе человека в Сибири откликнется потом у Чехова. А в ХХ веке, уже на новом историческом материале, подхватит ее Твардовский в поэме «За далью – даль»…
Нельзя не вспомнить, что именно сибирские картины как-то по-особому всколыхнули душу Гончарова, возбудили мысль о пагубности крепостничества, порождающего обломовщину. Вот проезжает он сибирским трактом, проселочной дорогой. Всматривается в облик селений, деревенек. Летают воробьи и грачи. Поют петухи. Мальчишки свищут, машут на проезжую тройку. И дым столбом идет из множества труб – дым отечества! «Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне. Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии», – заключает свои наблюдения Гончаров[141]141
С. 553.
[Закрыть]. Вот вам и мысль, которую он будет «любить» в «Обломове»! Так думал писатель в 1854 году, за семь лет до отмены крепостного права в России.
А разве не патетичны по своему размышления автора о героическом в жизни, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока? Это такой глубинно-смысловой пласт очерков, что обойти его нельзя. Гончаров размышляет о героизме русских людей, о героях истории, о зарождении дружбы с народностями Сибири и Дальнего Востока.
Кого же он причисляет к когорте славных героев, достойных памяти потомков? Гончаров называет имена атамана Атласова, генерал-губернатора Муравьева-Амурского, адмирала Завойко, ла Завойко, мореплавателя Врангеля, а наряду с ними – слово об отсалово об атетавном матросе Сорокине, о гих других. Сорокин затеял в Сибири хлебопашество. «Это тоже герой в своейерой в своей роде, маленький титан. А сколько иед за ним! И имя этим героям – легион…»[142]142
С. 532.
[Закрыть]. Особое слово произнесено авторности «наших миссионеров». Вначале идут имена никому не известных сибирских священников – Хитрова и Запольского. «Знаете, что они делают? – задается вопросом автор. – Десять лет живут в Якутске и из них трех лет не прожили на месте, при семействе»[143]143
С. 533.
[Закрыть]. Приобщают к православию, учат грамоте, просвещают. И.А. Гончаров ввел в большую художественную литературу имя русского просветителя, священника-миссионера Иннокентия. К тому времени он был епископом камчатским, курильским и алеутским, в его епархию вошла и Якутия. Происходил Иннокентий из семьи сибирского сельского пономаря Евсевия Попова. После окончания Иркутской семинарии Иван Евсеевич Попов получил фамилию Вениаминов – в честь умершего иркутского епископа Вениамина, а 24 ноября 1840 года, после смерти жены, принял монашество и стал отцом Иннокентием. Десять лет он провел в Русской Америке. Гончаров встречался с ним в Якутске. Одному из друзей он писал: «Здесь есть величавые колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий, как бы хотелось познакомить Вас с ним. Тут бы Вы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную речь. Он очень умен. Знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а все потому, что кончил не академию, а семинарию в Иркутске, и потом прямо пошел учить и религии, и жизни алеутов, колошей, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот»[144]144
Жилин М. «Причислен к лику святых…» // Дальний Восток. 1997. С. 252.
[Закрыть]. Иннокентий создает буквари, переводит на язык алеутов Библию, ведет научные наблюдения по этнографии, географии, топографии, натуральной истории. И все это не может не восхитить Гончарова, особенно высоко он оценивает его главный труд – трехтомные «Записки» об Алеутских островах. «Прочтя эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания…»[145]145
Указ. собр. соч. С. 535.
[Закрыть].
Гончаров указывает, что в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущей истории. И замечает здесь же, что описаний достойны не только прошлое, но и «подвиги нынешних деятелей», которые «так же скромно, без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища». «В сумме здешней деятельности хранится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас, из скромности, молчат», – с укоризной отечественным журналистам замечает Гончаров.
С большим внутренним одушевлением, можно сказать, с пафосом, напоминает автор о русских землепроходцах, которые шли и идут в Сибирь. «Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями – все это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство, печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой»[146]146
С. 537.
[Закрыть].
Вспомнив походы тех, кто ходил на край земли «ради славы», Гончаров не забывает и неприметных подвижников, кто ездит по дальним местам, вплоть до Ледовитого океана по казенной надобности. И якутские купцы не забыты – предприимчивые и отважные, они достигают и юга, и севера.
* * *
Еще и еще раз вчитываясь в путевые очерки Гончарова, вглядываясь в десятки встреч с разными людьми, от крестьян до губернатора, входя в размышления писателя о подвигах и героях, мы видим, чем жива его задушевная мысль: да, для освоения жизни во всех краях отечества нужны герои, нужны подвижники. Героическое начало находит прямое и недвусмысленное выражение в очерках о Сибири и всего плавания: героев – легион. В Сибири не было крепостного права, откуда во многом истекала обломовщина. И это приоткрыло русский народ в его самых богатых духовных возможностях, показало силу его действия, вселяло уверенность в будущем. Здесь зрела дума о конце крепостного права. И к этому периоду можно отнести слова Гончарова, которые он напишет в 1879 году, подводя итоги своего творчества: «Даль раздвигалась понемногу и открывала светлую перспективу будущего». Заметим, что здесь и открытие образа далей, который неслучайно прозвучит в другом веке в поэме А. Твардовского – «За далью – даль», поэме путешествия.
Где уж нет ни строчки пафосной – это там, где Гончаров пишет о себе, – но как интересен образ путешественника! Нет ничего пафосного в рассказе о денщике Фаддееве – но за ним раскрыт тоже целый крестьянский мир, мир русского человека на море… Но вернемся к страницам сибирского путешествия…
Обратный путь через Сибирь – это открытие в очерках путешествия мира Сибири, мира Якутии. По суше предстояло пройти и было пройдено от Аяна до Якутска, а затем до Иркутска. А там уж дорога вела до Петербурга. Из Аяна караван вышел в теплое августовское время 1854 года и благополучно добирается до Якутска. Но один переход через Джугджур чего стоит! Пройти в теплое время по Лене не успевали, и пришлось почти на два месяца задержаться в Якутске, пока хорошо подморозит дорогу. 26 ноября при морозе в 360 выезжают из Якутска и только в самую заутреню Рождества Христова, т. е. 25 декабря по старому стилю прибывают в Иркутск. «На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза», – пишет Гончаров. Образ дороги – настоящая сибирская одиссея. Одна из ярчайших тем в этом путешествии – якуты и русские. Мир якута, коренного жителя этих мест, дан через множество событий, подробностей, деталей. С особой силой раскрыт национальный якутский характер при описании перехода через Джугджур. Станицы, юрты, хижины, в которых вставлены льдины вместо стекол… А потом откроется и областной еще не город, а городок Якутск, где Гончаров провел немало времени и перезнакомился со многими: потому мир Якутска тоже как бы дан изнутри. Добрые слова сказал писатель о городе и горожанах. И все дано через призму настоящего и будущего края. Суровая сибирская природа может быть приспособлена, одолена общими усилиями якутов с русскими. Для Гончарова это несомненно: без русской цивилизации, без русского хлебопашества, торговых связей ледяные пространства не обустроить. Вот почему Гончаров приветствует шаги русского правительства, которые «клонятся» к тому, чтобы «с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей». Мы не найдем у Гончарова особых фактов лихоимства разного рода чиновников, о чем и в те годы нередко писалось. У него свой угол зрения на Сибирь, но не забудьте – с думой о пагубности обломовщины, необходимости живого дела, и не просто дела, а дела, одушевленного гуманностью, любовью к людям.
Путешествовать, по мысли Гончарова, значит хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать. Это вглядывание, вдумывание в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. Об этом размышляет Гончаров уже в начале своего путешествия, в письме первом. Не в этом ли стремлении к усовершенствованию одно из объяснений, почему так стремились к путешествию русские писатели: Карамзин, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Чехов, Горький… Несомненно, путешествие помогло Гончарову понять героическую душу народа («героев легионы»), и эта внешне скрытая, внутренняя сила деятельного начала в русском человека замечена автором и в морском путешествии, и в путешествии по Сибири. Разве это могло не отозваться и в самом характере стиля писателя, в тональности его книги? В частности, в отступлениях лирико-философского плана? Разве эти авторские размышления не характерны для путевых очерков Гончарова? Не являются ли стилеобразующими? Так что далеко не всегда и не во всем «искомый результат» достигается «слегка ироническим, шутливо-добродушным», ворчливым описанием. Но никакой вычурности, неестественности: в русской литературе эту вычурность отринул еще Пушкин с его знаменитой простотой слога. Кстати, такое определение стиля в критике во многом шло от полемического утверждения, высказанного еще Д.И. Писаревым: именно он считал, что Гончаров, «любимый публикой», не раскрывается перед своим читателем, скрываясь за объективной манерой письма. «Его человеческой личности никто не знает по его произведениям, – писал критик в 1861 году, – даже в дружеских письмах, составивших собою „Фрегат „Палладу““, не сказались его убеждения и стремления; выразилось только то настроение, под влиянием которого написаны письма; настроение это переходит от спокойно-ленивого к спокойно-веселому и больше не представляется никаких данных для обсуждения личного характера нашего художника». Не скажешь, что здесь не схвачено ничего характерного: схвачено. Да, Гончаров как художник стремится к полной объективности и достигает ее в своих романах. Но вместе с тем какая несправедливость к Гончарову! Как будто он нигде не раскрывается как личность и как будто в письмах отразились лишь преходящие настроения. Ну, да разве для Писарева это редкость – бросаться в крайности: первоначально он вознесет, скажем, «Обломова»[147]147
«Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, принадлежит всем векам и народам», т. 2, IV.
[Закрыть] – каково? Как схвачено вечное в романе? Поистине прозорливо! – а затем, в 1861 году, с неумеренной запальчивостью Писарев низвергает «Обломова» с пьедестала: «Весь „Обломов“ – клевета на русскую жизнь»[148]148
I. С. 4.
[Закрыть]. А ведь взгляни Писарев без запальчивости, он бы нашел родство своим размышлениям об истории разработки новых земель «как на самое красноречивое выражение нашего колоссального, железного характера» в размышлениях Гончарова о «легионе героев», и тогда бы бездеятельный Обломов не показался бы ему центральным типом русской жизни… Но это уже особый вопрос, вопрос восприятия творчества Гончарова критикой, глубины его прочтения современниками – проблема, которая, кстати сказать, принесла Гончарову «мильон терзаний». Не понимали на каждом шагу! Иначе зачем бы писателю понадобилось самому выступать с толкованием своего творчества в статье «Лучше поздно, чем никогда». Напомним здесь, что не одной мыслью о пагубности крепостничества объясняет порождение обломовщины критик-философ ХХ века Н.О. Лосский в свой большой работе «Характер русского народа». «Ведь в Обломове были и привлекательные черты, и такой тип встречается не только у русских. Гончаров нарисовал образ, имеющий общечеловеческое значение». Русскому человеку, по мысли Н.О. Лосского, свойственно стремление к абсолютно совершенному царству бытия и вместе с тем чрезмерная чуткость ко всяким недочетам своей и чужой деятельности… Таким образом, обломовщина есть во многих случаях обратная сторона высоких свойств русского человека – стремления к полному совершенству и чуткости к недостаткам нашей деятельности. Отсюда – неудовлетворенность малым, тоска по настоящему делу. Н.О. Лосский приводит образцы силы и воли, когда русский человек, заметив свой недостаток и нравственно осудив его, преодолевает косность и вырабатывает положительные качества, принципы, развивает огромную энергию. Такие примеры видел и Гончаров – само кругосветное плавание требовало воли и силы. И не случайно в ХХ веке первым в космос вышел русский человек…