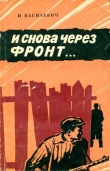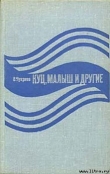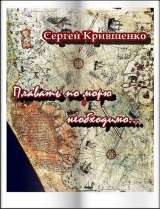
Текст книги "Плавать по морю необходимо"
Автор книги: Сергей Крившенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Итак, дела у прапорщика Комарова примет лейтенант Бурачёк. Нет, не примет: Хитрово удалил Комарова на пост Новгородский, в распоряжение капитана Черкавского. Только через месяц будет назначен начальником поста Бурачёк. Почти ровно через год после этого на пост прибудет генерал-губернатор М.С. Корсаков. Что он сделает первым делом? Он пригласит к себе Бурачка, попросит его собрать солдат, всю команду и привести к его квартире в шинелях. Лейтенант Бурачёк недоумевал. «Я не знал, для чего. Как только доложили ему, что команда готова, он вышел к ней, поблагодарил за работы, за поведение, за усердную службу и прибавил: „Ребята! Вы не получали до сих пор зарабочих денег…“[200]200
См. Хисамутдинов А. С. 48.
[Закрыть]». Он выдал награду солдатам, подняв и их дух, и командира. А ведь это в основе своей была все та же команда прапорщика Комарова: как же нам не отметить этих психологических деталей.
А теперь вернемся к тому, что еще писали о прапорщике Комарове в последние годы. Много доброго о его делах было сказано в книге доктора исторических наук А.И. Алексеева «Как начинался Владивосток», изданной в нашем городе в 1985 году: эту книгу в предисловии к ней академик А.И. Крушанов по праву назвал «великолепным трудом». «Черкавскому и Комарову довелось оставить первые следы русской жизни на берегах облюбованных Муравьевым и Казакевичем красивых бухт Золотого Рога и Посьета», – писал А.И. Алексеев[201]201
Алексеев. С. 97.
[Закрыть]. Но, к сожалению, историку не удалось найти дополнительные материалы о Комарове. И главу под характерным названием «Главные и первые» ученый заканчивал словами: «Нам осталось с горечью закончить эту главу с признанием, что не удалось буквально ничего найти о первом начальнике поста Владивосток прапорщике Н.В. Комарове. Мы даже не знаем, как расшифровать его инициалы…»[202]202
С. 94.
[Закрыть]. Историк посмотрел сотни личных дел «всяких Комаровых», но нашего Комарова не нашел. Каких-либо упоминаний о нем в делах сибирских батальонов 60-х годов он не обнаружил. И выдвинул предположение, что Комаров, очевидно, «очень мало служил на Дальнем Востоке»[203]203
С. 95.
[Закрыть].
Поиск вели и другие авторы. В тот же юбилейный 1985 год во Владивостоке возникла идея возвращения названия улицы прапорщика Комарова. Была такая во Владивостоке еще в прошлом веке, потом ее меняли то на Геологов, то на Шевченко и т. д. Был сделан запрос в Ленинградский музей флота. В газете «Красное знамя» за 25 мая 1985 года появилась статья В.Обертаса «Как зовешься, улица?» Речь шла о Комарове. Автор ссылается на документы из Центрального военно-исторического архива. Расшифрованы инициалы «Н.В.» – Николай Васильевич. Даны основные вехи его биографии. Родился Николай Васильевич Комаров в 1831 году в Тобольской губернии. Выходец из семьи государственных крестьян. Кстати, об особенностях сибирского крестьянства, не знавшего крепостного права, писал еще И.А. Гончаров во «Фрегате „Паллада“»: о его независимости, умении, крепости. Вот откуда и у Комарова «сибирский характер» – особый вариант русского характера. В Омске окончил училище армейских прапорщиков, а с 1850 года, то есть с двадцати лет, на военной службе, на Амуре, в частности, в 3-й роте 4-го батальона, командовал которым капитан Иван Францевич Черкавский: заметим, о капитане, о его мужестве и жертвенности написал хорошо в своих «Воспоминаниях заамурского казака» Е.С. Бурачёк. В 1859 году рота, в которой служил Комаров, была расквартирована в Хабаровске, затем в Софийске (ныне село Софийское на Амуре), а год спустя, в 1860 году, прибыла в Николаевск-на-Амуре. И оттуда морем направилась в южные гавани. Кстати, добавим к этому и приведем еще одну деталь, снова из книги А.И. Алексеева. 22 мая на рейде Николаевска собралась эскадра для плавания, в числе судов транспорт «Маньчжур», 24 мая 1860 года (по ст. ст.) на транспорт прибыл прапорщик Комаров[204]204
С. 45.
[Закрыть]. Еще 20 мая начали грузить провизию и багаж солдат 4-го линейного батальона Восточной Сибири… 2 июня был получен приказ П.В. Казакевича о подготовке к отходу… 19 июня вышли из бухты Ольга и направились вдоль приморского берега. В порт Владивосток пришли в 3 часа ночи 20 июня. Термометр показывал 18 градусов тепла[205]205
Алексеев А. С. 45.
[Закрыть]. На основе шканечного журнала Алексеев устанавливает, что на берег высадились 28 рядовых, два унтер-офицера и один прапорщик, то есть всего команду пост Владивосток составил 31 человек, а не сто и не сорок, как весьма часто об этом пишут разные авторы[206]206
С. 47.
[Закрыть].
Командир батальона Иван Францевич Черкавский был назначен начальником поста Новгородский (Посьет), ибо в то время этому посту придавали больше значения, отдавая ему пальму первенства, а командир взвода прапорщик Николай Васильевич Комаров был назначен начальником «менее важного поста в гавани Золотой Рог». Как известно, рядом с солдатами моряки корвета «Гридень», которым командовал лейтенант Густав Христофорович Эгершельд, – в те годы его фамилию писали через «Е»: Егершельд. Вот откуда у нас название мыса. И Комаров, как говорится в книге А.И.Алексеева, хорошо взаимодействовал с лейтенантом Эгершельдом[207]207
С. 67.
[Закрыть]. Это еще одна грань характера прапорщика Комарова: умение наладить отношение с моряками, которые к сухопутным относились весьма придирчиво. Но строить-то как солдаты они не умели, у этих была особая сноровка. Та, о которой писал Гоголь, – про ярославского расторопного мужика. А море требовало иной, не менее важной сноровки.
А как сложилась судьба Комарова после Владивостока? Куда он подевался-то? В статье В. Обертаса «Как зовешься, улица?» есть ряд сведений на сей счет. «В 1861 году команда Н.В. Комарова была переведена из Владивостока для строительства портов вдоль реки Уссури, и Николай Васильевич навсегда покинул созданный им пост», – пишет В. Обертас. Здесь напрашивается одно уточнение: неужто всю команду послали со строптивым командиром? Со штрафником, хотя и с подачи заезжего чиновника? И это после рапорта Н.Н. Хитрово? Нет, так не бывает ни у гражданских, ни у военных тем более. Субординация не позволяла. Кстати, Бурачёк не пишет, что команду сменили, более того, он называет того же Бородина, которого трусливо призывал в свидетели майор Хитрово. Но это деталь. Итак, прапорщик Комаров продолжал служить и строить новые посты, и на этот раз на Уссури. В армии отслужил он еще пятнадцать лет: а это не фунт изюму. Но вышел в отставку поручиком, почти не продвинувшись в чине. «Что не удивительно, – замечает В. Обертас, – в царской армии трудно было рассчитывать на карьеру выходцу из крестьян…» Не забудем, что у прапорщика появился в верхах его личный «заклятый друг». Но так ли это было?
Во Владивостоке, к счастью, помнили Комарова. 7 июня 1860 года Владивосток получил статус города. И одна из его улиц стала называться Комаровской. Это было решение городской управы, а там не хуже, чем мы сегодня и чем майор Хитрово, знали первостроителей нашего города.
Личности Н.В. Комарова слегка коснулся Борис Дьяченко в своей интересной историко-художественной книге «Три истории из жизни далекой окраины» (1989) Но он тоже сетует: «Мы, кроме фамилии, ничего о нем не знаем»[208]208
Дьяченко. С. 90.
[Закрыть]. Ну, так уж и ничего? Или приведенные факты в газете ничего не прибавили в биографии? И еще одна деталь из книги Б.Дьяченко. Передавая впечатление современника Комарова, он пишет: «Любопытный малый все же этот прапорщик. И прозвище у него интересное – Авраам. Прилипло оно с легкой руки одного из офицеров парохода „Америка“, что заходил прошлым летом с Казакевичем на борту. Пошутил тот остряк: Авраам-де со своим семейством поселился на кущах. Сам бы попробовал пожить здесь – кущи, да никак не райские, а прозвище прилипло как банный лист…»[209]209
С. 78.
[Закрыть]. Сравнение с библейским Авраамом, когда тот прошел по земле до дубравы Море и поселился там, пришло в книгу Б. Дьяченко из книги известного русского писателя-путешественника С.В. Максимова «На востоке». Однако там было одно замечание, которое вносит ясность. Слова остряка тут же оспаривал сам писатель: «Не совсем справедливо. Линейный офицер напоминал Авраама мало». В книге Н.П. Матвеева «Краткий исторический очерк г. Владивостока» этот момент не упущен[210]210
Матвеев. С. 14.
[Закрыть]. Так что какой там библейский герой? В 1860 году Комарову шел двадцать девятый год… Был еще молод наш русский молодец, а дело ему поручили великое… Без полной расшифровки имени-отчества войдет Комаров и в пользующийся несомненной популярностью «Путеводитель по Владивостоку» В. Маркова.
В одной из владивостокских газет как-то появилась заметка, автор которой глубокомысленно вопрошал: «А был ли прапорщик Комаров? Не выдумка ли это?» Как говорится, приехали! Улица Комаровская была, а самого Комарова не было! А улица, как пошутила моя внучка, названа так из-за обилия здесь комаров. Уж не полемический ли это прием автора? – спросит читатель. И где это, в каком издании сие могло появиться? Что ж, пожалуйста, удостоверьтесь. Откройте статью Сергея Чесунова «Владивосток, или Как русские овладели Востоком», опубликованную в газете «Тихоокеанский курьер» за 20–26 мая 1993 года. Сообщив, что бухта Золотой Рог на английской карте была занесена под названием Мей (о, какое открытие!), автор спешит поделиться и другими своими открытиями. «Так что у русских, – глубокомысленно заключает С.Ч., – не было никаких особых прав на занятие этой гавани». У русских не было, а у английских колонизаторов, ведших в те годы войну с Россией, в том числе и на Тихом океане, где их суда разбойно гонялись за русскими корветами, из-за чего была потоплена «Паллада», – так вот у них такие «особые права», оказывается, были. И ни к чему, мол, законы первенства открытий, землепроходчества и т. д. Какая поразительная и, мягко говоря, какая угодливая логика! И какая отчужденность от этих «русских»!
И насчет прапорщика Комарова у С.Чесунова тоже сужденье свое: «Прапорщик же Комаров – настолько мифическая личность (неизвестно даже его имя, не говоря о датах рождения и смерти), что и… а был ли он на самом деле? В документах „обер-офицер – и все…“» Для молодого историка С. Чесунова тоже нет ни записок Бурачка, ни свидетельств историков города, того же Н.П. Матвеева, ни архивов, в которых, конечно же, основательно надо поработать… Миф, и все! Вздор все, что не знает Митрофанушка! Печаталось это «откровение» в газете «Тихоокеанский курьер», издававшейся на двух языках, – русском и английском. Так что рассчитано на обман русского и английского читателя. Правда, газета оказалась недолговечной.
Но опять же, к счастью, помнят Комарова не только во Владивостоке. Помнят его и земляки: родом-то он из Сибири. Заведующая отделом краеведческой библиографии Приморского государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького Нина Семеновна Иванцова тоже глубоко была затронута «антикомаровскими» настроениями, отлучением прапорщика от города, который он основал, разумеется, с десятками других подвижников – малых и больших чинов. И тут на глаза ей попалась статья об этом самом прапорщике – статья И. Ермакова «От Иртыша до Золотого Рога», опубликованная в «Тюменской правде» 7 октября 1990 года. И она была внесена в картотеку. В статье дана краткая биография Комарова, отмечены основные штрихи биографии. Нина Семеновна делает запрос на имя автора статьи Ермакова: заметьте, фамилия тоже иртышская – ведь на «диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Оказывается, Ермаков работает заведующим отделом государственного архива Тюменской области. Ему и карты в руки. И вот – ответ из Тюмени.
«1. Действительно, Николай Васильевич Комаров родился в 1831 году в селе Комарово Тобольской области. В настоящее время село Комарово входит в состав Московского сельсовета Тюменского района и находится в пяти километрах от Тюмени.
2. Н.В. Комаров учился в Омской школе армейских прапорщиков. Ныне это Омское военное командное дважды Краснознаменное общевойсковое училище имени М.Ф. Фрунзе.
3. В 1861 году Н.В. Комаров был переведен на р. Уссури, где принял участие в топографической съемке местности… В 1875 г. он вышел в отставку в звании (чине) капитан-инженера в возрасте 44 лет. Какими-либо другими сведениями о жизни и деятельности Н.В.Комарова я не располагаю. С уважением Ермаков И.И. Зав. отделом ГАТО» (Государственный архив Тюменской области). Ответ от 31.05.1995 г.
Здесь не только подтверждение некоторых сведений из морского архива, но и некоторые новые детали. Выходит, прапорщик стал не поручиком, а капитан-инженером. Здесь надо справиться с военным словарем, точно ли указано звание. И после службы Комаров жил еще на родине, и, возможно, в архиве Тюмени еще отыщутся какие-либо материалы о жителях села Комарово, о самом роде Комаровых, а может, и о самом капитане-инженере. Выходит, что поиск необходимо продолжить… А как история первой зимовки русских людей на берегах Золотого Рога просится в повесть! Где же вы, наши местные художники-летописцы?! Имя Комарова входит в стихи многих поэтов края: Геннадия Лысенко, Бориса Лапузина и др. Художник Г. Пронский написал романтическую картину «Прапорщик Комаров». По его словам, он в своем герое увидел черты народные. Первостроитель города в том ряду героев, которые и дала нам сама жизнь, сама история нашего края. Не случайно в популярной песне приморского автора Льва Ширяева это имя – в ряду других славных имен:
Причудливо движутся тени,
По сопкам туманы плывут —
Как будто Дерсу и Арсеньев
ходят на новый маршрут.
Встают Комаров и Пржевальский,
Фрегаты белеют вдали…
Приморье, мой край океанский,
Жемчужина русской земли.
От Иртыша до Амура, а затем и до Тихого океана, до Золотого Рога пролегли дороги Николая Васильевича Комарова. А далее – по нашей русской приморской таежной земле. Двадцать пять лет прослужил он на Дальнем Востоке, придя сюда после училища двадцатилетним воином-строителем (в пост Владивосток он прибыл в 29 лет). И вернулся на родину, к своему истоку, в Сибирь, на Иртыш Николай Васильевич Комаров настоящим дальневосточником. Нам ли забывать его славное русское имя?!
В морях и на берегу
А.Я. Максимов, его путешествия и книги
В первом томе его сочинений, вышедших в конце прошлого века, дан портрет. На вас смотрит лицо русского человека; он – в офицерской форме, при крестах и орденах. Взгляд открытый, ясный. Широкая окладистая борода. Бывалый моряк, иначе не скажешь. Так оно и есть: это портрет капитана 2-го ранга, писателя-мариниста Александра Яковлевича Максимова. До недавнего времени мы о нем мало знали – мелькали лишь отдельные упоминания в исторических очерках о Приморье. А между тем в личности этого человека, в его творчестве есть такое, о чем нельзя не вспомнить добрым словом… и как военного моряка, и как первого приморского писателя.

Александр Яковлевич Максимов родился 3 сентября 1851 года (по ст. ст.) в Царском Селе. Учился в Морском кадетском училище, которое окончил в 1872 году. Имя его, как лучшего по успехам, было занесено на мраморную доску. Сразу же после прихода на флот участвовал в кругосветном плавании на корвете «Аскольд». Литературную деятельность начал в журнале «Всемирный путешественник» очерками об этом океанском походе.
В 1874 году молодой офицер перевелся в Сибирскую флотилию, где прослужил пять лет, с 1874 по 1879 год. Это, значит, во Владивостоке.
Во время своего первого пятилетнего пребывания на Дальнем Востоке он многое увидел своими глазами, о многом услышал от моряков, охотников, исследователей. На этом густо настоянном местным колоритом материале написал несколько рассказов из жизни окраины. Они привлекли журналы «Кругозор», «Нива» и др. В 1883 году рассказы были собраны воедино и изданы в Петербурге – «На далеком Востоке»; книга выдержала несколько изданий.
В 1879 году Максимов был переведен на Балтику, в Кронштадт. Прослужил там пятнадцать лет, вроде бы неплохо шел по служебной лестнице, был даже адъютантом начальника Кронштадтского порта. В это время его уже знают как известного литератора. И все-таки служба вблизи столицы не складывалась: офицер-писатель не вписывался в ранжир образцовых лиц. Неожиданно Максимова вновь посылают во Владивосток, и здесь он служит до своей кончины. Причина этого переезда не очень ясна. Тем более что за свою службу на Балтике Максимов был награжден орденами, в том числе и иностранных держав. Но, думается, пишущий офицер, да еще публицист и беллетрист не пришелся начальству ко двору…
В период своей вторичной службы на Дальнем Востоке Максимов публикует не только рассказы и очерки, но и публицистические работы, в частности брошюру «Наши задачи на Тихом океане»[211]211
СПб, 1894. 4-е изд., 1901.
[Закрыть]. Писатель, что называется, вступил в возраст творческой активности, ему пошел сорок пятый год. И вдруг – внезапная смерть. Газета «Владивосток» 27 августа 1896 года сообщила: «22 августа от острого малокровия скончался бывший помощник по строевой части командира Владивостокского порта капитан 2-го ранга А.Я. Максимов». Краткое сообщение заканчивалось словами: «Наша окраина должна не забыть помянуть его добром». Особенно отмечалась роль Максимова в отстаивании главного порта на Тихом океане: «Он горячо ратовал против странного, если не сказать больше, проекта оставления Владивостока и перенесения военно-морского порта в залив Св. Ольги. Время показало всю правоту взглядов покойного на упомянутый проект». На смерть писателя откликнулись не только местные издания, но и центральные – «Нива», газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Новости», «Новое время», «Исторический вестник», «Всемирная иллюстрация»… Так что Александра Яковлевича Максимова в России знали: Максимов – второй, первым был Сергей Васильевич Максимов, широко известный писатель.
Некоторую завесу над драматизмом жизни пишущего офицера приоткрывают воспоминания известного русского капитана Д.А. Лухманова (1867–1946). В своей документальной повести «Штурман дальнего плавания» он сообщает о травле Максимова со стороны начальства и даже о том, что писатель покончил жизнь самоубийством. По версии Лухманова, судьба Максимова сложилась трагично. В 1894 году он ехал с ним на Дальний Восток. Великий Сибирский железнодорожный путь еще только строился. Поэтому до Сретенска он доехал по новой железной дороге, а затем где на лошадях, а где – пароходом по Амуру. «Мой спутник, – пишет Лухманов, – хорошо знал, что его ожидает во Владивостоке, но ни он, ни я не предполагали, что его затравят до смерти (через год Максимов покончил жизнь самоубийством)». Лухманов посетит Максимова во Владивостоке. На вопрос: «Как Энегельм?»[212]212
Командир порта. – С.К.
[Закрыть], Максимов ответил: «Начинается то, что я ожидал. Бесконечные придирки». Так, по одной версии, сложилась судьба Максимова.
Максимов был первым писателем, который столь длительно жил во Владивостоке и по произведениям которого читающая публика тех лет (а «Ниву» читали многие!) составляла представление о «далеком Востоке».
И сегодня, поминая его добрым словом, мы определяем пусть скромное, но заслуженно ему принадлежащее место в ряду писателей, посвятивших свое творчество этой теме. Дальний Восток он знал не понаслышке и сумел оставить после себя ряд живых и ярких рассказов.
Что же составило наиболее ценную часть его десятитомного собрания сочинений? Назовем прежде всего страницы его путевого дневника «Вокруг света… Плавание корвета „Аскольд“». Книга вышла в Петербурге в 1875 году. Надо сказать, что ко времени появления путевых записок Максимова в русской очерковой литературе образовался целый пласт «книг-путешествий», отразивший историю далеких плаваний.
Книга «Вокруг света» носит характер путевых заметок. Для читателя небезынтересны многие подробности, вынесенные на первый план рассказчиком. Скажем, история «Аскольда». Корвет – одно из лучших деревянных судов Балтийского флота. Построен на Охтинской верфи в 1864 году, с честью прослужил русскому флоту, ходил два раза за границу (в 1865 году вокруг света, а в 1868 году в Средиземное море). В 1871 году был назначен в заграничное плавание в третий раз. Был поставлен в док, капитально отремонтирован. Затем, в начале 1872 года «окончились скучные работы в доке и началась новая, более деятельная для морского офицера работа по вооружению судна: пошла постановка мачт, подъем рей, тяга стоячего такелажа и тому подобные чисто морские работы. На случай военных действий корвет имел 12 орудий, 2 мины. Цель назначения „Аскольда“ в кругосветном плавании – сменить с обсервационного поста в Тихом океане корвет „Боярин“ и вступить в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для разных посылок, крейсерства, а „также для показания русского флага в различных портах Тихого океана“». Другая цель, по словам автора, заключалась в практическом обучении морскому делу молодых офицеров и матросов. И команда матросов – 305 человек «молодцеватых на отбор – треть старых, другие две трети – рекрута, народ все молодой, неученый, не могущий даже отличить грот от фок-мачты». 2 августа 1872 года флаг, гюйс и вымпел подняты. «Будьте молодцами, не ударьте за границей в грязь лицом. Заставим всех сказать: ай да русский матрос, мое почтение!», – запечатлевает автор напутственные слова командира «Аскольда». И корабль выходит в море.
Максимов, находясь рядом с матросами, размышляет: какой он, русский моряк, вчерашний крестьянин, в чем его особенности – «какого-нибудь Сеньки-пастуха, Прошки-свинопаса, Макарки-рыбака». Из них, вчерашних крестьян, убеждает автор, получаются настоящие крепкие моряки. Правду сказать, «из русского мужика можно образовать хорошего матроса, смелого, неустрашимого, ловкого». Тут Максимов во многом перекликается со своим предшественником, знаменитым русским маринистом Константином Станюковичем, который к тому времени уже сказал о русском матросе, о его морской душе первые очерковые слова глубокой любви. А главные морские рассказы Станюковича появятся в 90-е годы…
Литература тех лет в лице таких писателей, как Станюкович, Гончаров, сравнивая свое и чужое, не создавала иллюзий, что на Западе «ноу проблем». Острая критика колонизаторской политики Англии и Америки содержалась в записках многих мореходов: Ф. Матюшкина, О. Коцебу и др. «Господа, отечество которых, по выражению одного из них, – доллар» (К. Станюкович), вызывают чувство неприятия и у Максимова. Он видит контрасты реальной жизни за рубежом. Вот он в Англии, в Лондоне. Любуется туннелями, восхищается делом рук человеческих. Но не ускользает от глаз и обитель нищеты. «В Англии заботятся о богатом сословии более, чем о бедном, которое предоставлено исключительно самому себе». «И это называется просвещением и человеколюбием?!» – с иронией и болью замечает Максимов.
Но плавание – это, конечно, прежде всего экзотика. Это сначала Балтика. Это юг. Экзотика островов Зеленого Мыса, Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Перу, Японии и Китая, в портах которых побывал «Аскольд», соседствует на страницах записок со многими историческими сведениями. Очень сочувственно рассказывается о судьбе индейцев Южной Америки… Побывав в китайском Шанхае, автор обращает внимание на агрессивное поведение английских и американских колонизаторов. В противоречивой жизни самого Китая Максимов видит много изощренно-жестокого, унижающего человеческое достоинство. Морской офицер рассказывает об «опиумном» шантаже западноевропейских цивилизаторов, осуждает торговлю «медленным ядом».
Заключительная глава книги посвящена описанию Владивостока. Этот город видится Максимову русским опорным пунктом на великом Восточном океане. Размышляя о «великой будущности Владивостока», писатель связывает ее с развитием всего Южно-Уссурийского края. Что необходимо для этого? Умение по-хозяйски распорядиться каждой пядью земли: «Край этот от природы так богато наделен, что ему не достает только рук…»
Задача, по Максимову, заключается в том, чтобы наладить пути сообщения, развить торговлю с соседними странами, расширить «поприще предприимчивым людям, идущим из России искать счастье на берегах Японского моря», «избавить край от полного захвата его иностранными купцами и промышленниками», привлекать на эти земли «русских купцов, промышленников и крестьян». В освоении русским народом Сибири и Дальнего Востока (кстати, тогда все называлось Сибирью и эскадра тоже называлась Сибирской!) Максимов видит «отрадное явление для народной гордости». Этот край, «будучи нашим аванпостом на Великом океане», должен «сделаться крепкою, неотъемлемою частью нашего обширного отечества».
Но многое вызывает критическое замечание автора: плохое оборудование порта, отсутствие сухих доков, скверное снабжение водой, скудное озеленение и медленное строительство. «В настоящее время общественная жизнь находится в застое. Каждое семейство живет в своей скорлупе, нужно сознаться, иногда весьма неприглядной, потому что Владивосток пока не может похвалиться количеством и качеством квартир». Особенно бедственно положение тех, кто живет в Матросской слободе: дома невзрачные, в дождливое время на улице непроходимая грязь. Дороги в городе находятся в первобытном состоянии.
Но при всей этой критике Максимов отстаивал главную мысль: Владивосток надо развивать, строить, он – требует рук… Несомненно, что эти путевые заметки пробуждали у читателя живой интерес к Дальнему Востоку, заостряли внимание на сложных проблемах заселения, снабжения, развития Южно-Уссурийского края. Не случайно книга «Вокруг света» была замечена столичной прессой. Рецензии на нее поместили журнал «Всемирная иллюстрация», газета «Неделя» и др.
Результатом пятилетнего пребывания Александра Максимова на Дальнем Востоке явились очерки и рассказы, которые печатались в периодических изданиях 70-80-х годов XIX века. В 1883 г. в Петербурге выходит книга Максимова «На далеком Востоке», она затем была переиздана, значит, находила своего читателя. Еще бы: она вся дышала экзотикой дальних мест! Морские бури, тигры, таинство тайги… Это был иной мир для русского читателя. А Максимов продолжал работать над рассказами, особенно после своего возвращения на Дальний Восток.
Что по-особому интересно в этой части его творчества?
Назовем, прежде всего, очерки явно этнографического характера: «Среди инородцев (рассказ топографа)», «Орочоны», «На соболей». Эти произведения, на наш взгляд, не без интереса читал В.К. Арсеньев. На экземпляре книги Максимова, хранящейся в библиотеке Географического общества во Владивостоке – на полях – сохранились карандашные пометки, которые явно принадлежат выдающемуся исследователю Дальнего Востока. Внимание Арсеньева привлекли отзывы автора о нанайцах (гольдах), в частности, слова рассказчика-топографа о том, что он «нравственно отдохнул среди гольдов». Созвучна Арсеньеву была общая мысль очерка, выраженная словами того же топографа: «Гольды достойны лучшей участи». Максимов показывает, как закабаляют их различные авантюристы, пришедшие за добычей и с нашей, и с сопредельной стороны.
Заметное место в творчестве писателя занимают рассказы, основанные на реальных фактах жизни Дальнего Востока. Это рассказы из жизни моряков, топографов, охотников: «Китобой», «Пионеры и оспопрививатели», «Тюлений остров», «Унесенные в море», «Поп Симеон» и другие. Об одном из них напомнил А.П. Чехов: в «Острове Сахалине» он упомянул и о Симеоне Казанском, сославшись на его легендарность. Конечно же, он читал рассказ Максимова «Поп Симеон», опубликованный в трех номерах (11, 12, 13) «Нивы» за 1890 г. Автор дал этому рассказу подзаголовок: «Быль об одном забытом подвиге».
Что за подвиг воскрешал Максимов? Действие происходит на Сахалине. Зима. Стужа. На Корсаковский пост необходимо доставить денежное довольствие – сорок тысяч рублей. В управлении не знают, кого послать. И вот Симеон, самоотверженный и смелый миссионер, вызывается выполнить эту задачу. Автор рисует портрет его: молодой, рослый, «напоминал древних русских богатырей». Все тропы засыпало снегом. «Пойду морем», – решил Симеон. Но одному не дойти. Заходит к каторжным. Рассказал, что в Корсаковском посту батальон с голоду помирает. Пять арестантов решились идти с ним: Наумов, Струков, Головлев, Вахрушев, Багалиев. Что только ни встречается на пути: схватка с медведем, штормовая погода… На пятые сутки прибыли, едва живые, на пост. Казалось, доброго слова заслуживали: помогли солдатам. Но не тут-то было. «Человек берега» встретил холодно: строго оглядел его заскорузлый полушубок и порыжевшие, растрескавшиеся сапоги, мельком взглянул на измученное, исхудавшее лицо и озадачил неожиданно сердитым вопросом:
– Отчего бумаги подмочены?
Поп Симеон не дал требуемого ответа; он лишь глубоко вздохнул и молча вышел из кабинета строгого начальника.
«Так отблагодарили отважного миссионера за его самоотверженную услугу, о которой никто бы и не вспомнил, если бы нам не вздумалось рассказать о ней».
Человек совершил подвиг, он рисковал своей жизнью, а ему брошено небрежное чиновничье обвинение: «Отчего бумаги подмочены».
Достоин сегодняшнего внимания и рассказ «Китобой». В центре его хозяин шхуны, промышленник Савелий Никитич Зайцев и его четырнадцатилетний сын Ванюша. Отец берет сына в море. Уж как не хотела мать отпускать Ванюшу, но не смела просить мужа оставить его дома. Сколько живых деталей в эпизоде охоты на китов! А описание бури! Шхуна терпит бедствие. Выбиваясь из последних сил, до последнего вздоха отец пытается спасти Ванюшу; помогает ему старый гарпунщик Яков Ряжев. Проходит страшная ночь. На помощь приходит орочон «на своей легкой, берестяной скорлупке». Но поздно. Мужественный и горький рассказ! Почему бы ему не быть в современном сборнике? Да и мысль никогда не устареет: великим трудом, немалыми жертвами давались русским людям клады Восточного моря-океана…
В истории освоения дальневосточных акваторий известен подвиг моряков «Крейсерка» – сторожевого судна, погибшего осенью 1889 года. О мужественном экипаже позднее и в наше время писали некоторые историки и литераторы, но никто из них не напомнил, что первым историю «Крейсерка» осветил в своей повести «Тюлений остров» не кто-нибудь, а наш приморский писатель Александр Максимов. Рассказ был опубликован и также с подзаголовком – на этот раз с таким: «Драма на море» – в «Ниве»[213]213
1892, № 1–4.
[Закрыть]. Русские моряки охраняют российские воды от иностранных браконьеров. Разворачивается жестокая борьба, в которой пришельцы идут на все ухищрения и подлости. Тут нельзя рассчитывать на благородство, на гуманность, чем «страдает» Андрей Павлович, помощник командира. Автор дает фамилию лейтенанта Корсунцева, но Налимова называет только по имени-отчеству, хотя ведет речь о реальных Корсунцеве и Налимове. Показан и экипаж американского судна, действующего браконьерски в чужих водах. Рассказ завершается гибелью «Крейсерка», попавшего в студеную пору в шторм. Его герои с отчаянным мужеством оспаривают свою жизнь у рассвирепевшей стихии, но их силы таяли с каждой минутой. Так завершилась драма на море. А начальство через несколько месяцев спишет все одним росчерком пера: власть имущие равнодушны ко всему героическому, благородному, требующему памяти. Забыть, отринуть – это обычное решение. Читая этот рассказ, нельзя же не вспомнить, что во Владивостоке, близ Матросского клуба, установлен памятник «Крейсерку»…