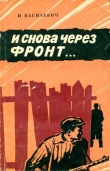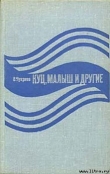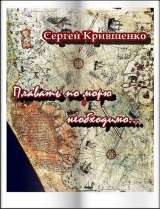
Текст книги "Плавать по морю необходимо"
Автор книги: Сергей Крившенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Но вернемся к «Палладе». Да, в книге есть и шутливое, почти крыловское добродушие, и ирония, и юмор, – как же не прожечь иронией несовершенства действительности? – и приземленность слога, и спокойно-ленивое, и спокойно-веселое настроение. Но вместе с тем в книге присутствует и тональность самого серьезного размышления о жизни, своеобразного «личного воодушевления» – под этим еще с времен Карамзина стали понимать пафос писателя. Кстати, тот же Писарев писал: «Только личное воодушевление автора греет и раскаляет его произведение»[149]149
I. 201.
[Закрыть]. Этим «личным воодушевлением» и раскален гончаровский «Фрегат». Прочитайте, еще раз перечитайте хотя бы эти грустные строки его путевых впечатлений. «Мне видится длинный ряд бледных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстиная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние». Что же тут шутливо-добродушного или ворчливого? А ведь это тональность, это настроение думы о России, о русском, российском согревает своим теплом многие страницы.
Вот она, родная Русь, корневая и окраинная, убогая и обильная, с ее характерными типами – с барином, живущим «в свое брюхо», и нищим мужичком, просящим милостыню. И уже не только перед глазами повествователя, а перед глазами читателя «мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи». И голос автора с его неотступной мыслью о главном. О чем? «Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия – это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, никакие океаны не смоют ее»[150]150
Указ. собр. соч. С. 55.
[Закрыть]. Вот о чем, оказывается, неотступно думает этот «добродушно-ворчливый человек», автор книги – о родном крае, о России, о почве родной Обломовки, которой не смыть никаким океанам. Какой образ! В горьких испытаниях ХХ века многим русским людям пришлось на себе испытать верность этого наблюдения писателя: куда бы ни забрасывала судьба русского человека, он уносил с собой почву родной земли. И крупицей этой «почвы» – его великолепнейшего слоя культуры – всегда был Гончаров, его знаменитые романы… В своих размышлениях Гончаров находит достойное место России, русскому народу, многонациональной стране в мировой цивилизации, в мировой культуре. По его заповедной мысли, как человек имеет свой нравственный долг перед семьей, племенем, народом, так народ имеет свой долг перед человечеством. Русскому народу предстоит сказать свое слово, творить свой путь просвещения народов и цивилизации, освоения холодной Сибири, берегов и земель Дальнего Востока, земель Тихого океана. В наши дни бойкие публицисты и критики задним числом осуждают такие надежды на будущность России, на ее птицу-тройку (гоголевский образ тех лет) как самонадеянность, неоправданное мессианство, православие и т. д. И уже «изнутри» отказывают русскому народу во «всемирной отзывчивости», считая, что Россия вызвала «всемирный страх перед своей воинственной мощью», – пишет один из критиков в статье «Мифы и прозрения»[151]151
«Октябрь», 1990. № 8. С. 166.
[Закрыть]. Чем же навеян этот страх? Победой в Великой Отечественной войне над фашизмом? Спасением мира от гитлеровской чумы? Умением прийти на помощь в годы испытаний и бедствий – загляните в историю, сколько раз Россия спасала мир то от одного, то от другого нашествия. И не Россия в ХХ веке посылала своих летчиков сбрасывать атомные, напалмовые и прочие бомбы на мирные города других стран. Отрицая патриотизм, соборность, православие, такие ортодоксы или ревнители плюрализма (на словах, разумеется) больше всего расстраиваются оттого, что сторонники патриотической идеи пекутся не о том, о чем пекутся современные «плюралисты»: «Далеко не случайно, – продолжает тот же автор, – возникло само это тавтологическое соединение „национально-патриотического“, ибо в нем отражается не столько национальная, сколько национально-государственная идея: не о сохранении русской нации, а о сохранении российской державы прежде всего заботятся ее ревнители»[152]152
Там же, С. 167.
[Закрыть]. Вот вам и прозрение! Оказывается, по логике адептов плюрализма (на словах) русский народ – и другие, живущие вместе, в едином государстве можно сохранить, не сохранив российской державы, России! Разломив Россию, пустив ее на распыл, ибо защита России, державы, единого государства именуется такими авторами «великорусским национализмом». Как тут не вспомнить ряд знаменитых произведений, от «Клеветникам России» Пушкина до «Скифов» Блока и стихотворения Рубцова «Россия, Русь, храни себя, храни!» Выходит, Россию надо защищать и от подобных кликушествующих доброжелателей, презрительно отзывающихся о великой державе. Какое отношение это имеет к предмету нашего исследования, к «Фрегату» Гончарова? К творчеству Гончарова в целом? Самое прямое: в его романах и очерках путешествия история наших надежд, наших упований, нашей национальной самокритики, продиктованной любовью к родной Обломовке, к русской земле, заботой о ее завтрашнем дне.
* * *
По-своему зазвучала в книге Гончарова «поэзия моря». Не условно-романтического, а реального, будничного и несказанно притягательного. Это в самом начале он напишет в письме: «Я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни „безмолвного“, ни „лазурного“ моря и, кроме холода бури и сырости, ничего не знаю»[153]153
Указ. собр. соч. С. 31.
[Закрыть]. В контексте письма – знаменитое стихотворение Жуковского, которое начинается словами: «Безмолвное море, лазурное море…» Полемика с романтическим видением «поэзии моря», будь то Жуковский, Бенедиктов или ранний Пушкин («Прощай, свободная стихия…») живым лейтмотивом проходит через все «путешествие». За время плавания Гончаров увидит самое разное море. И русский человек откроется ему во всем многообразии своей натуры. Правда, скажем и то, что фигуру русского матроса, конечно, не пришлось в литературе открыть Гончарову. И офицеры даны очерково. Но чего стоит фигура вестового Василия, Сеньки Фаддеева! – сколько здесь подмечено не только индивидуального, но и национального, подлинно крестьянского, народного.
А сколько лиц русских офицеров, моряков, дипломатов – реальных, живых проходит перед читателями – тут целая история в лицах, особенно дорогих для нас, дальневосточников. Они и на наших картах, эти имена: адмиралов Е.В. Путятина, В.С. Завойко, морских офицеров К.Н. Посьета, В.А. Корсакова, И.В. Фургельма, переводчика и дипломата О.А. Гошкевича, отца Аввакума, «деда», механика А.А. Халезова… Это их усердиями и стараниями открывались дальневосточные берега и воды Российского государства. И многие имена русских мореплавателей остались на карте Тихого океана… Гончаров выступает летописцем нашей морской истории.
Море обычное сменяется в книге морем южным, экзотичным. Уже через несколько дней плавания Гончаров напишет в письме к поэту Бенедиктову, напутствовавшему его в дорогу своими романтическими стихами: «Море… Здесь я первый раз понял, что значит „синее море“, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас… Вот, наконец, я вижу и синее море, какого вы не видали никогда… Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод… Только Фаддеев не поражается». Гончарову важен свой взгляд и взгляд его вестового, вчерашнего крестьянина, занятого своей повседневностью.
Морская жизнь, дальнее плавание высекают в душе Гончарова прекрасный афоризм: «Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!» Так воскликнул он в своем письме от 18 января 1853 года. Перед этим семь дней и ночей без устали свирепствовал холодный ветер, а тут наконец установилась хорошая погода, да еще в южных широтах. Путешествовать могут многие, но запечатлеть виденное – для этого нужен божий дар. Современники ждали от Гончарова книги-путешествия. Напутствуя писателя в плавание, его приятель поэт-романтик Владимир Григорьевич Бенедиктов писал:
Лети! И что внушит тебе природа
Тех чудных стран, – на пользу и добро,
Пусть передаст, в честь русского народа,
Нам твой рассказ и славное перо!
В 1856 году Бенедиктов пишет другое стихотворение и печатает в журнале «Отечественные записки»: «Недавно странник кругосветный // Ты много, много мне чудес // Представил в грамоте приветно // Из-под тропических небес». Не без влияния путешествия Гончарова, его писем к Майковым, Бенедиктову родилось и еще одно стихотворение последнего: о защите Петропавловска-на-Камчатке. В 1854 году объединенная эскадра англичан и французов напала на мирный русский порт на Камчатке. Кичащиеся своей цивилизаторской ролью европейцы обрушили огонь своих пушек на дома камчадалов и русских поселенцев. Варварское бессердечие увидал в этом подлом нападении Бенедиктов (разумеется, как и Гончаров). Это забытое стихотворение Бенедиктова извлек из старых изданий В.И. Мельник[154]154
Автор книжки в соавторстве с Т.В. Мельник «Литературные классики и Дальний Восток» (Ульяновск, 1993).
[Закрыть]. Ввиду малотиражности книжки считаем возможным воспроизвести это стихотворение здесь полностью. Вот оно:
И туда…
И туда – на грань Камчатки
Ты зашла для бранной схватки
Рать британских кораблей.
И, пристав под берегами,
Яро грянули громами
Пришлецы из-за морей.
И прикрыт звериной шкурой,
Камчадал на них глядит:
Гости странные похожи
На людей: такой же вид!
Только чуден их обычай:
Знать, не ведая приличий,
С злостью выехали в свет.
В гости едут – незнакомы,
И, приехав, мечут громы
Здесь хозяевам в привет!
Огнедышащих орудий
Навезли – дымят, шумят!
«А ведь все же это – люди», —
Камчадалы говорят.
Камчадал! Пускай в них стрелы!
Ну, прицеливайся! Бей!
Не зевай! В твои пределы,
Видишь, вторгнулся злодей.
И дикарь в недоуменье
Слышит странное волненье
«Как? Стрелять? В кого? В людей?!»
И ушам своим не веря:
«Нет, – сказал, – стрелу мою
Я пускаю только в зверя,
Человека я не бью»[155]155
Август-сентябрь 1854 год.
[Закрыть].
Горько-ироническое стихотворение Бенедиктова построено на контрасте противопоставления наивных камчадалов, не стреляющих в людей, вышколенным джентльменам, колонизаторам, которые несут в мир разбой и грабеж. К счастью, русский адмирал Завойко знал, как поступать с волчьей породой захватчиков: вражья эскадра, потерпев поражение, бежала от камчатских берегов…
Эти стихи и сегодня зазвучали не музейно, особенно после варварских акций США и НАТО, обрушивших армаду своих «томагавков» на мирные города Югославии. Снова в пределы мирных людей вторгся злодей, не признающий правил, законов человеческого общежития. И снова оживают страницы гончаровской книги, где мир озирает хищным взором современный ему колонизатор: хищности у него не поубавилось! Как же нужна миру сильная Россия!
Итак, в 1855–1857 годах очерки И.А. Гончарова публикуются на страницах «Морского сборника», «Современника», «Русского вестника», «Библиотеки для чтения», «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений»: таков был журнальный мир тогдашней России. В 1855 году очерки издаются в двух томах. В 1874 году Гончаров опубликовал очерк «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании (Через двадцать лет)», так что современная ему критика (тот же Писарев), не могла знать этих страниц. В 1891 году опубликовал очерки «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске». С учетом этого, повторяем, надо и судить о современной ему критике. Но эти главы – неотъемлемая часть знаменитой кругосветной одиссеи автора «Обломова».
Иван Александрович Гончаров – автор романов «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859), «Обрыв» (1869), воспоминаний, литературно-критических статей «Мильон терзаний» (1872), «Лучше поздно, чем никогда» (1879). Его романы нельзя в полной мере понять, не обращаясь к его очеркам кругосветного плавания. Почему? Да потому хотя бы, что все его произведения пронизаны единым пафосом, одушевлены одной генеральной мыслью, одним чувством, идущим от писателя. «Только личное воодушевление автора греет и раскаляет его произведения» (Писарев). А оно, это «личное воодушевление» присутствует во всем, что написано Гончаровым. Национальное, народное, общечеловеческое звучит в этих произведениях великого русского писателя в полную силу.
Книга очерков Гончарова «Фрегат „Паллада“» сама стала источником поэтического вдохновения: яркие строки о ней написал А. Майков, друг писателя. Это он первоначально должен был идти в плавание, но уступил свое место другу. Майков оценил труд Гончарова как художник:
Море и земли чужие,
Облик народов земных —
Все предо мной, как живые,
В чудных рассказах твоих.
Жанр морских путешествий после гончаровских очерков «Фрегат „Паллада“» продолжили многие писатели-путешественники, документалисты. Скажем сразу, что к книге И.А. Гончарова тесно примыкают записки и письма В.А. Римского-Корсакова, которые печатались в те годы в «Морском сборнике», а в ХХ веке впервые были изданы в книге под названием «Балтика – Амур». Повествование в письмах о плаваниях, приключениях и размышлениях командира шхуны «Восток»[156]156
Хабаровск, 1980. Директором издательства тогда был Н.К. Кирюхин, которого называли дальневосточным Сытиным.
[Закрыть]. К жанру морских путешествий примыкает книга А.В. Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857–1860 гг.»[157]157
СПб, 1862.
[Закрыть]. Характерно, что уже в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в биографии путешественника и историка искусств А.В. Вышеславцева (1831–1888) было сказано: «Многие страницы по художественным достоинствам напоминают „Фрегат „Палладу““ Гончарова». Таким образом, «Фрегат „Паллада“» становился своего рода мерилом, эталоном художественности в литературе путешествий. В этом ряду стоят очерковые книги А.Я. Максимова «Вокруг света. Плавание корвета „Аскольд“» (1876). В 1880 году Всеволод Крестовский, автор «Петербургских трущоб», совершит кругосветное плавание с эскадрой адмирала Лесовского и напишет очерки «В дальних водах и странах». В начале 90-х годов публикуются морские очерки С.Н. Южанова «Доброволец „Петербург“» (1894): о морском переселении в Приморье. Появится и книга А. Елисеева «Вокруг света», куда войдут и дальневосточные страницы. Все эти книги и журнальные очерки, как не раз подчеркивалось в критике (Энгельгардт), в большей или меньшей степени следовали литературной традиции «Фрегата „Паллады“».
Думается, что большинство авторов путешествий были хорошо знакомы и с документальной маринистикой русских мореплавателей, от Шелихова до Невельского, с теми традициями, которые в ней сложились (документальность, гуманизм, отказ от жестокого авантюризма и т. д.). Разумеется, русские писатели были хорошо знакомы и с увлекательной приключенческой морской литературой западноевропейской, от Купера до капитана Марриэта. Кстати, «старые» романы этих писателей – «о море и моряках» – вспоминает в своем первом письме Гончаров… Морская литература – и это тоже следует помнить! – не была отделена и от развития всей русской художественной литературы, особенно в лице классиков XIX века. Все это вместе взятое и помогло становлению такого писателя-мариниста, как Константин Михайлович Станюкович, ставшего классиком русской маринистики. Его творчество также связано с Дальним Востоком. Но об этом – особый разговор.
На краю Восточной Руси
К.М. Станюкович во Владивостоке
Старый адмирал Станюкович был потрясен. Его младший сын, семнадцатилетний Костя, заявил, что он решил уйти из Морского кадетского корпуса в Петербурге. Подумать только! Флотская семейная традиция прерывается окончательно. Перед этим волей случая погиб старший сын, достигший звания капитан-лейтенанта. А тут младший сын решил уйти с морей… Большего несчастья и позора на свою голову адмирал не мог и ожидать. И дабы не была «посрамлена честь моряка-деда» и его отцовская честь, «грозный адмирал» (так назовет отца в своей повести будущий писатель) принимает свое адмиральское решение. Он ходатайствует перед директором Морского кадетского корпуса контр-адмиралом С.С. Нахимовым назначить Костю в дальнее плавание на одном из клиперов. Вот там-то, в море, и образуется. Там и будет ему университет… И вот уже ходатайство направлено на имя императора с обоснованием поддержать просьбу отца: «Учится довольно хорошо. И поведения довольно хорошего, но строптив и увлекателен, и требует бдительного надзора. Поэтому весьма полезно было бы послать его в продолжительное плавание». Скажем сразу: свое решение уйти с флота Станюкович-младший все-таки осуществил, но произойдет это только через три года, после возвращения его из плавания. И отец будет непреклонен до конца, бросив ему слова: «Можешь уходить, но после этого ты мне не сын». Такие характеры! Но не будь этого сурового решения отца, мы бы не имели морского писателя… Словом, так за полгода до выпуска из Морского кадетского корпуса «адмиральский сынок» Костя Станюкович (ему 18 марта 1860 года исполнилось семнадцать!) попал на парусно-винтовой корвет «Калевала».

18 октября (по старому стилю) 1860 года корвет вышел в кругосветное плавание. Моря, океаны, длительные переходы от порта к порту, штормы, города, земли – обыкновенное и экзотическое… И до этого Костя выходил в моря, на практику, но ведь кругосветное плавание несравнимо с кратковременным. Вот только один этюд: «К утру качка стала столь ужасна, что принужден был встать; трудно было держаться на ногах; чай пить не было возможности; вызвали всех наверх ставить паруса, и мне следовало идти на марс; т. е. на верх мачты за старшего с матросами; волны были до того высоки и ветер до того силен, что корвет наш ложился на бок и черпал то одним бортом, то другим; многих начало понемногу укачивать; меня еще не начинало; я полез на марс; сердце замирало, как я увидел сверху корвет: казалось, волны так и проглотят его; наверх размахи были еще сильнее: мне сделалось очень дурно, меня начинало укачивать, но самолюбие и нежелание показаться трусом перед матросами удерживало меня там: меня вытравило, говоря морским выражением, т. е. вырвало; но я продолжал делать свое дело; поставили паруса, спустились на палубу; море было ужасно…» А сколько таких испытаний еще впереди! И экзотика южных широт не всегда милосердна. У берегов Явы Станюкович заболел лихорадкой. По прибытии в только что (год тому назад) основанный пост Владивосток Костю направили в морской лазарет. В нашем городе он пробыл по одним данным три с половиной месяца, по другим, более мотивированным, – больше десяти месяцев.
Летописец второго года существования Владивостока, начальник поста Евгений Степанович Бурачёк (он сменил прапорщика Николая Васильевича Комарова) оставил интересные «Воспоминания за-Амурского моряка. Жизнь во Владивостоке. 1861 год». В них он дал яркую картину жизни и быта русских моряков и солдат «на краю восточной Руси». Упоминает автор и о гардемарине Станюковиче, волей судьбы заброшенного сюда и оказавшегося в лазарете. Лейтенант Бурачёк пригласил Станюковича в свою командирскую комнату. Один лейтенант, другой гардемарин, оба были молоды, любили книгу, пробовали себя в литературном творчестве. У Станюковича к тому времени в Петербурге в журнале «Северный цветок» были опубликованы первые литературные опыты – лирические стихи о юношеской любви. К тому же оба после длительного плавания остались на берегу. Но Бурачёк здесь был с лета 1861 года: его назначили командиром поста.
В письмах из Владивостока своей сестре, «голубушке», «бесценному другу» Лизе, Костя Станюкович также упоминает о Бурачке, о своем пребывании в лазарете. Письма эти очень подробные, заполнены выписками и из дневника, который не сохранился. А письма, двенадцать сестре Лизе и одно отцу, сохранились и впервые полностью опубликованы в шестой книге «Литературного архива» (1961).
«Чтобы тебе дать понятие об этой сторонке, куда меня занесла судьба и где, между прочим, предполагается главный южный порт Восточного океана, – обращается Костя Станюкович к своей сестре, – я выпишу тебе несколько строк из моего дневника». И начинается владивостокская экзотика: следуют выписки за 6, 7 и 8 января 1862 года. Сюжеты разные. Один из них о приходе тигра. Ночью на скотный двор, где были лошади, тигр пробрался через соломенную крышу и удавил троих лошадей, сложив их в кучу. Солдаты идут в засаду на хищника. Прапорщик Меньчук приглашает с собой и Костю Станюковича. Охота опасная. Но Станюкович успокаивает сестру: «Меньчук предлагает вечером идти в засаду, но я не пойду; к чему мне рисковать жизнью даром. Мне 19 лет, а ему 50 – разница ведь большая». «Только что я дописал эти строки моего дневника, моя дорогая Лиза, как вбежал Мартын и сказал, что тигр у бани (это сто шагов от казармы). Раздалось три выстрела; тигр ушел. Вот мой друг, куда занесло меня». Но Станюкович не очень-то сетует на опасности своей морской жизни. Опасности не обойдешь, хотя и на рожон лезть нельзя. И чувство иронии не оставляет Костю Станюковича: занесло на край света, ну и что ж… «И к пользе, потому что навык к опасностям не лишен для людей. Теперь я понимаю, как можно жить спокойно, как живут в Индии, и там, где соседи не хорошенькие Гурьевы…» «Навык к опасностям» не раз пригодится Станюковичу в жизни. Не раз он восхитится этим навыком у простых матросов; это отразится в морских рассказах. А историю с тигром впоследствии Станюкович опишет в рассказе «Во Владивостоке» (печатался и под названием «Тигр идет»), где выведен обаятельный образ матроса Артюшки. Жизнь не обделяет опасностями и трудностями ни дома, ни в дороге. Навык к опасностям, еще в большей степени, чем на суше, приобретается в море. Об этом впоследствии писатель скажет, что он «был и есть, выражаясь метафорически, одним из матросов, не боящихся бурь и штормов и не покидавших корабль в опасности».
После ухода из Владивостока, с 22 мая 1862 года до августа 1863 года, Станюкович плавает на различных кораблях Тихоокеанской эскадры. Молодого гардемарина приближает к себе адмирал А.А. Попов. «Тогда находились редкие адмиралы и капитаны, которые умели делать службу осмысленною, а не каторгою или тоской», – говорится в рассказе «Море».
Одним из таких редких адмиралов был Попов. Его имя связывают с именами Корнилова и Нахимова, к которым он был близок, его называют в числе учителей адмирала Макарова. Попов был хорошо знаком с семьей Станюковича. Он знал, что молодой гардемарин проявил свои литературные способности. Заинтересованное отношение Попова позволило Станюковичу увидеть гораздо больше, чем если бы он был на своем корабле. Адмирал Попов поддерживал литературные начинания молодого моряка, будущего писателя. Но такое положение не во всем устраивало юношу, стремившегося к полной самостоятельности. Его взгляды были чужды карьеризму. В письмах сестре он сетует, что близость к адмиралу тяготит его: «Крайне невесело бывает иногда… Я обедаю и пью чай у него… Помогаю ему в письменных его работах…», «…Он человек деятельный и добросовестный, любит меня очень, да мне-то это не по нутру – состоять при нем… Обидно предпочтение перед другими… Что все скажут… Правда, еще ничего дурного не говорят, потому что я держу себя с ними свободно и хорошо…», «Где я буду дальше, не знаю, но желал бы не с адмиралом. Как ты ни пиши, что выгодно или невыгодно, я, по счастию, нахожусь в летах, когда благородство и независимость – стоят по одним уже влечениям – выше всяких выгод по службе… Что мне с выгоды…»[158]158
Литературный архив. С. 423.
[Закрыть]. В своих взглядах семнадцатилетний Костя Станюкович тяготел к Белинскому, Герцену. Об этом говорят факты: во Владивосток он будет просить прислать журнал «Искра» и сочинения Белинского. По пути на восток, когда судно 5 ноября 1860 года бросило якорь на Темзе в Лондоне, он тешит себя надеждой: «Может быть, проскользну к Герцену. Очень хотелось бы этого…» Знаменательно, что Герцен в «Былом и думах» давал положительную оценку настроенности некоторых военных моряков. Он писал: «Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди», «вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой»[159]159
Герцен А.И. Собр. соч.: в 8 т., М., 1975. Т. 7. С. 288.
[Закрыть]. Они, по словам Герцена, «по великому закону нравственных противодействий, под гнетом деспотизма корпусов, воспитали в себе сильную любовь к независимости». К числу этих «отличных, прекрасных» людей, несомненно, принадлежал и Станюкович.
В литературе не раз отмечалось, что прототипом Корнева в повести «Вокруг света на „Коршуне“» и в рассказе «Беспокойный адмирал» был адмирал Попов (именем его назван остров). В творчестве писателя «беспокойный адмирал» Корнев противостоит «грозному адмиралу», как противостоят образы капитана «Коршуна» Давыдова и ему подобных образам тех господ, которые, в насмешку называя Давыдова «филантропом», утверждали, что такое обращение еще несвоевременно, что матросу без линька и жизнь не в жизнь (очерк «От Бреста до Мадеры»). В Корневе живет подлинная морская душа. Он, как истинный моряк, много сам плавал, понимает и ценит отвагу, решительность и мужество и знает, что эти качества необходимы моряку. Он не боится ответственности, умеет поддержать моряков, одобрить их хорошие дела. «Морской дух, – пишет автор, – беспокойный адмирал считал главным достоинством моряка». Образ морской души, который возвышен по-своему в морских произведениях советского писателя Леонида Соболева, пришел в литературу еще с произведениями Станюковича: традиция не была утрачена.
Основная мысль в произведениях Станюковича – мысль о духовной силе и красоте народа. Она связана прежде всего с простыми людьми, с простыми моряками. Станюкович говорит об особенности русского матроса, «дельного, сметливого, но нисколько не страстного к морю». И в то же время, как бы споря с этим своим положением, он показывает, как этот матрос борется со свирепой непогодой, с честью выходит из самых жестоких испытаний («В шторм»).
Заметно стремление показать не столько внешние приметы морского быта, сколько душевные особенности матросов: желание скрасить тяжелую жизнь, представления о любви, о семье, тоска по дому. У Станюковича появилось то, чего не было у его предшественников: он все чаще смотрит на вещи глазами простых матросов. И одновременно вглядывается в их души, стремится понять эти души изнутри. Подобно Гончарову, Станюкович всюду, куда бы ни заносила его судьба, обращен к мысли о трудной доле русского мужика. Рассказывая о тяжелой работе негров, о заунывной песне, которой скрашивает один из встреченных им негров свою участь, писатель подталкивал читателя подумать и о судьбе русского мужика: «Мне показалось, что характер этой песни мне несколько знаком… Те же жалобы заунывные, те же мольбы однообразные». Так он писал в очерке. А в повести «Вокруг света на „Коршуне“» эта же мысль будет выражена с еще большим публицистическим напором. «Невольно напрашивалось сравнение с нашими деревенскими избами… Чем-то знакомым, родным повеяло от этой песни на русских моряков. Им невольно припомнились русские заунывные песни». И у Гончарова мы встретимся с мыслью о родной почве, о постоянном сравнении своего с чужим, об освобождении мужика от крепостной зависимости. Но у Станюковича мысль эта становится социально острее. Так, рисуя жизнь в море, в чужедальних странах, писатель стремится поставить социальные проблемы, характерные для русской жизни 60-х годов XIX столетия.
Неприятие Станюковича вызывали люди, пронизанные буржуазной торгашеской моралью, «господа, отечество которых, по выражению одного из них, – доллар». На образ этот дельца и торгаша указывал и Гончаров. Колониализм в его лице находил острого критика. Бывая в китайских портах и наблюдая картины феодальной жестокости, Станюкович замечает: «Нигде, как в феодальном Китае, жизнь, это высшее благо, не ценится так легко». Примечателен и очерк «В Кохинхине». Станюкович посетил Южный Вьетнам в пору франко-вьетнамской войны (1858–1862). Французские колонизаторы оккупировали шесть южных провинций Вьетнама и превратили их во французскую колонию Кохинхин. Как известно, вторая франко-вьетнамская война (1883–1884) на долгие годы превратила Вьетнам в колонию Франции. Станюкович побывал в деревне, поселке, наблюдал жизнь в Сайгоне. Раздумывая о судьбе колонии, осуждая колониальный деспотизм, он трезво усматривал, что здесь «много еще прольется крови». Эти страницы написаны с большим сочувствием к вьетнамскому народу, который встал на героическую борьбу за независимость и свободу. Критика колониалистской политики европейских цивилизаторов приобретает еще больше остроты в повести «Вокруг света на „Коршуне“», где Станюкович напишет о своем отвращении к войне и к тому «холодному бессердечию», с каким колонизаторы относятся к местным народам. Чужие пришлые люди, они, выдавая себя за спасителей, «жгли деревни, уничтожали города и убивали людей». «И все это, – с едким сарказмом замечает Станюкович, – называлось цивилизацией, внесением света к дикарям» (глава «Юный литератор»).
Сердце писателя полнилось болью за Россию, за ее народ, который был опутан цепями крепостничества. О том, как рождается чувство родства с народом, Станюкович рассказал в удивительно светлой, прекрасной повести для юношества «Вокруг света на „Коршуне“» (1895–1896). Девятнадцатилетний герой книги Володя Ашанин посещает дальние страны, проходит через штормы и опасности, не раз бывает на грани жизни и смерти. На морских дорогах к нему приходит чувство гуманности, уважения к людям. Благодаря близкому общению с матросами, например, Михаилом Бастрюковым, «Ашанин оценил их, полюбил, и эту любовь к народу сохранил на всю жизнь, сделав ее руководящим началом всей своей деятельности[160]160
Станюкович К.М. Вокруг света на «Коршуне». Владивосток, 1982. С. 129.
[Закрыть]». Никогда еще в русской маринистике эта близость к народу, к простому моряку не была поставлена так высоко. Так мог сказать о любви к народу только писатель, который становился, подобно некрасовскому Грише Добросклонову, на позиции народного заступника. Любовь к русскому народу – «руководящее начало» всей деятельности таких писателей, как Станюкович.
Как и сам писатель, его герой Володя Ашанин побывал на Дальнем Востоке, и у «пустых, тогда еще совсем не заселенных гаваней и рейдов», и у берегов Сахалина испытывал силу и неистовость океана, который совершенно несправедливо «окрестили… кличкой „Тихого“». И у него проснулась морская душа, он почувствовал подлинную поэзию моря и красоту земли, красоту Родины. Это не отвлеченная страна, полная экзотики, а страна, где нет «ослепительного жгучего южного солнца, ни высокого бирюзового неба, но где все – и хмурая природа, и люди, и даже чернота покосившихся изб с их убожеством – кровное, близкое, неразрывно связывающее с раннего детства с родиной, языком, привычками, воспитанием, и где, кроме того, живут особенно милые и любимые люди». «Самое это душевное дело на земле – трудиться», – скажет Михаил Бастрюков, один из героев повести. Несомненно, в этих размышлениях, в судьбе Володи Ашанина – черты автобиографии самого писателя. Его путевые размышления преобразовались в книгу. Но это уже не просто очерки-путешествия, это художественная повесть с центральным героем. Повесть, выросшая на очерковой основе, – писатель не случайно назвал книгу «очерками морского быта», «сценами из морской жизни». Жанр повести открывал новые возможности для раскрытия духовного мира героя.