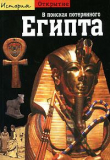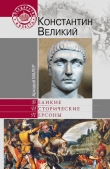Текст книги "Цареградский оборотень"
Автор книги: Сергей Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
“Хоть трех, только отпусти, князь,– в тот же миг опрометчиво подумал Стимар, не терпевший пуститья в свою дорогу, но по усвоенной у ромеев привычке сначала повертел головой и сделал вид, что думать только начинает.– Хитроумны радимичи. Все у них обратным чином, догадались, что так сподручнее и легче выходит. Добрые люди себе невест в чужом роду крадут, а они – себе женихов.”
– Сватов нет,– надумавшись вволю, затянул он.
– А если будут, возьмешь? – сверкнул месяцем князь Лучин.
– Если, как положено: из чужого племени, да из моей родовы...– не унимал торг Туров северец, недавно вернувшийся из-за моря неизвестно кем.
– Тогда возьмешь, княжич?
“Делать нечего! – плюнул Стимар.– Неоткуда им взять сватом моего родовича, пока виру за Богита не положат. Одним закатом не обойдутся.”
– Тогда возьму, князь! – подтвердил он, не зная, что князь Лучин обладал особой прозорливостью, которой, как и своей мужской силой, хоть и кичился, но не показывал ее всякому встречному-поперечному.
– Верно ли я слышу твои слова? – спросил последнее радимич и приложил ладонь к уху.
Даже его княжеская гривна разошлась на шее, потому что сам уж-полоз потянулся головой к Стимару.
– Верно, слышишь, князь! – как в лесу, прокричал во всю глотку Стимар.– Возьму твою дочь, коли сват будет!
В следующий миг позади него словно бы спелое яблоко упало с яблони в безветреную погоду и подкатилось к столу.
– Вот тебе сват, княжич Туров,– сказал Лучин и вздохнул вольно, уже не боясь, с какой стороны вдыхает ветер.
– Вот тебе сват, княжич,– откликнулось сзади эхо голосом слобожанина Броги.– Я всем гожусь. Я тебе побратим, княжич.
“Эх, не ко времени ты созрел на той ветке, Брога! Повисел бы хоть до первого снега”– подумал Стимар, в первый миг изумившись, во второй – рассердившись на верного, но недогадливого в людских, не звериных, делах охотника, а в третий миг – уже успев простить его.
Никто из радимичей не заметил искусного охотника, кроме самого Лучина, а вернее – его особого дара. Брога подкрался к радимическому граду и запрыгнул на самую высокую Лучинову вежу, самая длинная тень которой была бывала на целый шаг короче самой короткой полуденной тени от самой низкой вежи Большого Дыма. Там он стал дожидаться своего часа, когда вновь наступит пора выручать княжича.
Лучин давно приметил чужака на своей веже и следил за ним со дна своего левого глаза, ущербным месяцем, который никому не мог быть виден до часа княжьей смерти, а в тот смертный час должен был выпасть из его глаза, как пустая скорлупа из гнезда.
– Есть сват,– сказал князь Лучин.
– Раз есть, то будет по-твоему, князь,– положил свое слово Стимар.
Тот, второй, кто пришел в нем и вместе с ним из Царьграда, до этих слов сидел в его душе, сложив руки на груди и прижав подбородок к коленям. Но после этих слов, тотраспрямился, развернул плечи и надел на себя северского Стимара, как надевают перед долгой сечей на руку боевую перчатку, чтобы рука соединилась с рукояткой меча подобно мужу с женой на брачном ложе, но не слилась с железом намертво. Ибо и муж с женой после жаркого соития должны разъединиться как день с ночью.
Тот, второй, вошел своим языком в язык Стимара, дорос своим теменем до его темени. Потом он соединил свои зрачки со зрачками Стимара и пристально посмотрел на князя Лучина.
“Теперь я тебя обману, радимич,– подумал Стимар и его мысль уже не откликнулась в душе эхом, не разлетелась в разные стороны двумя черными птичьими тенями; теперь он и тот, второй, рожденный из золотого яйца в Царьграде, стали одно.– Ты творишь не по моей воле, обману тебя.”
Лучин увидел в зрачках северца второе дно и оторопел, а Брога, тем временем, вертел головой, ища позади прямую дорогу с обшитыми алой ниткой краями. Он знал, что только такая дорога сгодится для княжьего свата.
С недобрым предчувствием, дымной горечью защекотавшим ноздри, Лучин отвел взгляд от чужих зрачков, зародышей ночи, и перевел дух, приметив растерянность свата.
– Никак ты, сват, жениха потерял? – подковырнул он Брогу.
– Не жениха, а дорогу,– нашелся слобожанин.– Дороги у тебя, князь, негожие, старым лыком проложенные. Не по свату такие дороги, не по князю – и подавно.
“Никак, Брога, ты поумнел в одночасье!”– усмехнулся Стимар в правое ухо своему побратиму.
Слобожанин по-собачьи мотнул головой.
– Видал ты наши дороги, сват,– нахмурил бровь над своим месяцем князь Лучин и с его брови на столешницу тихонько заморосил осенний дождик.– Ты, охотник, их сам сторонился. Как зверь, под кустами только и крался. Мой глаз видел. Вижу и то, что нерасторопный ты сват, негожий для князя паче худой дороги. Ты уже здесь, а душа твоя еще в пути.
– Нерасторопен сват потому, что чересчур тороплив ты, князь-батюшка,– продолжил рядиться Брога, кинув косой взгляд на жениха.– А скоро, всем ведомо, только кошки одни рожают.
При таких словах уже не дождик, а град посыпался с брови на левую щеку князя Лучина и треснула братина на столешнице, а больше князь никакого вида не подал. Брога же двинулся дальше по худой радимической дорожке:
– И коли мы уже здесь оба – и сват, и жених – в твоих межах, князь, и коли сам ты, князь, желаешь, чтобы телега наперед коня бежала, так устрой все сам обратным чином – скорее некуда будет.
– Вот теперь добрые слова, сват, разумные,– обрадовался князь, и трещина, чрез которую из братины засочился и потек на полдень мед, затянулась сама собой, а княжья бровь посветлела, как вечернее облако на восточной стороне.– Говори. Будет по-твоему.
– Свату конь нужен, князь,– сказал Брога.– Вороной. С белой звездой во лбу.
– Будет тебе, конь, и вороной, и с белой звездой там, где только захочешь, – пообещал Лучин.– Еще чего?
– И чтоб врата твои были замкнуты,– велел Брога.
– Будут,– было слово князя.
– И чтоб врата покрыты были с исподнего покрывалом – обыденным да выбеленным,– напомнил Брога о древнем обычае.
В то время, когда вещая явь была опасней для сна, чем вещий сон для яви, невесты в первую брачную ночь не вскрикивали от боли, а поутру ветер не раздувал на глазах всего рода запятнанные крылья их былой девственности. Достаточно было ворот кремника, которые меняли столько раз, сколько замужних дочерей выпадало иметь князю на его веку. В ту пору первую брачную ночь каждый из молодых проводил в своемдоме, в своемграде, за своими межами, а соединялись они во сне, что подступал к ним в ту ночь крепче всякой яви и жарче полуденного ветра. Врата невестиного рода запирались наглухо, словно от самого лютого врага, иначе с ночной тенью жениха в невесту мог войти другой, и считалось не самым страшным, если то случался всякий встречный и поперечный. И вот в то мгновение, когда молодые, собрав во сне всю силу земной любви, через все межи соединялись в одно, – тогда-то и начинали трещать ворота кремника. Ломались, легко похрустывая пучком старой соломы, дубовые засовы – и врата разлетались-рапахивались настежь, вылетали из петель и рассыпались на мелкие щепки. Тут весь род невесты начинал плясать и веселиться и подбирать острые щепки на лучины. Теми лучинами, зажженными навстречу жениху, и славили его наутро, после восхода Солнца, встречая и освещая его так, что ни с какой стороны не оставалось места для его тени, и той ничего не оставалось, как до самой ночи прижаться спиной с его подметкам.
Потом, когда на полуденном краю земли, в каком-то неизвестном народе одна жена не послушалась своего мужа, все изменилось. И с того дня ворота в брачные ночи повсюду стали оставаться целыми. Жениху и невесте с тех самых пор пришлось встречаться в первую ночь на одном брачном ложе и соединяться наяву, а невесты стали вскрикивать и ронять в щель между сном и явью капли крови, которым, в отличие от семян пшеницы, никогда не удавалось просочиться в землю.
С полуденной стороны через межи и племена, вроде лугового ветра, меняющего направление на каждом шагу и клонющему травы в разные стороны, долетел слух.
Говорили, что в тех далеких краях, где и упала в землю беда, разогнав по ней круги, сошедшиеся на самом земном пупе, – там на всякой яблоне обязательно вырастает и наливается одно злое яблоко, отличить которое от прочих, добрых, может только муж.
Злой дух, пришедший к женщине во сне, за одну ночь научил ее считать, и та, проснувшись путру, пошла в сад. Пересчитав все яблоки и убедившись, что их очень много, она решила, что у нее теперь ума, а вместе с новым умом – и счастья, хватит сорвать наугад яблоко доброе, а не попасться сразу на злое. Она попробовала – и на первый раз ее замысел удался. На второй – тоже. Тогда возомнила женщина, что она умнее всех на свете. Так и лакомилась она втайне от мужа, пока не попалась на злое яблоко. Поначалу не заметила она никакого отличия, но, когда ночью возлегла она со своим мужем на ложе и он вошел в нее своей упругой плотью, то она вдруг вскрикнула от боли и пожалела, что не знала о такой боли раньше, а то стерпела бы и муж ни о чем не узнал бы.
“Почему ты кричишь?”– спросил ее муж. “Потому что мне хорошо”,– ответила жена, поскольку, вкусив злого яблока, сразу научилась лгать. “Лучше, чем в прошлые ночи?”– удивился муж. “Гораздо лучше”,– ответила жена. А в ту пору, когда лгать друг другу могли только торговцы и то лишь с полудня до первой тени, ложь с одного слова легко превращалась в правду. Солгав, женщина затем действительно испытала с мужем наслаждение куда большее, чем в прошлые ночи. А утром муж увидел на ложе и на своем пестике кровь и удивился. Пошел он в сад, к колодцу, обмыл кровь и, не заметив никакого повреждение на своей плоти, удивился еще больше. “Это твоя кровь”,– сказал он жене. “Нет, не моя”,– ответила та. “Тогда чья же?”– спросил муж. “Не знаю”,– ответила жена. И муж больше не стал ни о чем ее спрашивать, потому что в то время мужья еще не знали за что можно гневаться на свох жен.
И вот под вечер он пошел в сад и, не заметив, что после ночи с женой сам потерял дар различения яблок, сорвал одно с иного дерева – и сразу попался на злом, поскольку жена успела выбрать хорошие яблоки уже в обеих судьбах – и своей, и мужа. Как только он надкусил его, то сразу сделался умным и догадался о проделках жены. Он вернулся в дом и сказал ей: “Глупая ты женщина. Теперь нам вовсе нельзя рвать в саду яблоки и придется навсегда покинуть его. Ведь если тебе еще хоть раз попадется злое яблоко, то ты станешь умнее всех, отчего твое лоно зарастет совсем и затвердеет, как родничок у младенца. Нам надо уйти отсюда”.
И они покинули тот сад, и забили его врата, и до конца своего века скитались по пустыням, боясь заходить в другие сады. Они нарожали много детей, но все они, кроме одного, однажды утонули при переправе через реку-море.
С тех пор у всех невест появились в лоне – одни и те же на явь и на сон – запертые врата, а настоящие ворота – ворота кремников – больше не трещали и не распахивались на радость двух родов, сочетавшихся между собой молодыми супругами.
С тех пор повелся и новый обычай. Сват стал подъезжать к закрытым – но не на засов – вратам кремника, которые завешивали с внутренней стороны белым холщовым покрывалом, вытканным за один светлый день. Сват спускался с коня, подходил к вратам и, с видимым усилием приоткрыв их на один палец, протыкал копьем или мечом покрывало. В тот же миг невеста вскрикивала от боли, но оставалась невинной. Сват же, вытащив меч или копье из чужих ворот, видел на лезвии или наконечнике следы кровь и с этой радостной вестью возвращался за свои межи. То покрывало вывешивали потом на лицевую сторону врат – на обозрение грядущему в град жениху. При таком обычае в первую брачную ночь невеста более не испытывала страха и боли.
Позже на славянских землях все опять изменилось в худшую сторону, но уже по совершенно не ведомой никому причине.
Перстом, с которого сразу слетел последний, запоздавший к отлету на полдень дрозд, князь Лучин указал на двойные врата своего кремника, распахивавшиеся сразу в обе стороны, так что воротная тень никогда не успевала лечь от створ ни внутрь, ни наружу, а разрывалась, как растянутая ветвями лесная паутина. Поэтому врата Лучинова града никакой враг не мог разрушить разрыв-травой, приложив ее к наружной тени.
– Будет тебе, сват, и запор на воротах, и покрывало на запор,– все, о чем его просили, пообещал князь.– Что во что захочешь, в то сам и завернешь. А теперь, сват, не мешкай – твой черед отойти от стола.
– Как мой, когда совсем не мой?! – удивился Брога, взглянув на княжича быстрее, чем срывается с пальца тетива.– Не мой, а – княжича. Теперь, обратным чином, полагается ему выйти из твоего града, да за твои межи, за ним – уж и мне. Я, уж если ты, князь, спешишь-торопишься со свадьбой, далеко отходить не буду, а у твоего порога коня подожду...
– Таким чином жених к закату только успеет пирог из-за леса понюхать,– оборвал его Лучин.– Сразу ты верно угадал, сват, только потом в своем уме заплутал. Свадьба пойдет обратным чином – так и будет. Сначала – постеля мягкая с молодыми, потом – пир горой, а уж успеешь ли ты, сват, после пира к закату с той стороны к воротам на коне подъехать – там видно будет.
“Скор князь Лучин! – признал Стимар.– Даже скорее, чем хитер.”
А Броге, своему тайному побратиму, он сказал:
– Ты, мой сват, оказался, видать, торопливей женихова слова. Уж на что Лучиновы скоры – но даже их обогнал.
Князь Лучин приподнял правую бровь, посветил себе зарею, чтобы понять слова пленного жениха, но не понял. А Брога как будто и вправду поумнел скорее, чем краснеют щеки на холоду. Он глянул на княжича так быстро, что этим взглядом можно было догнать и схватить ту, уже отпущенную тетиву,– и сразу разгадал слова Стимара. В тот же миг он сбил с ног двух радимичей – одного навзничь, другого ничком – и пустился бежать к открытым воротам, чтобы все стало опять, как было перед началом торга между северским княжичем и радимическим князем по поводу свадьбы, и чтоб она заново осталась без свата. А без свата ее и быть не могло никакой – хоть налицо, хоть наизнанку.
Убегая, скакал слобожанин и вправо, и влево, зная радимичей, как лучших стрелков, но все же не успел их обмануть. Пока двое ушибленных вставали, двое других пустили вдогон Броге не по очереди, а враз – острие к острию – две стрелы. Одну справа, другую слева. Одна стрела, догоняя Брогу, пробила ему левую пятку, другая, перегоняя – правый носок. Замер Брога в одном полном шаге и ткнулся носом в дорогу прямо посреди ворот, между распахнутых створок.
Княжич грустно вздохнул, но лишь на один тот вздох и дал себе волю пригорюниться.
“Ничего, Брога,– сказал он про себя своем тайному побратиму.– Раз дважды не вышло, значит на третий раз уйдем от шустрых радимичей запросто. Следа разглядеть не успеют.”
Брогу, между тем, радимичи приминали и укатывали, вязали и скручивали, потом приподняли, как большой сноп, и унесли прочь от северского княжича, но не за пределы кремника: где-то поблизости хлопнула крышка – то ли сундука, то ли погреба.
– Сват есть, ветром не унесло,– утвердил довольный Лучин.– Твое слово в силе, княжич. Погоди – не беги сам. А то потом пожалеешь, что связали и поверх невесты силком положили.
Тут он махнул стаей зябликов, разлетевшихся у него из рукавов, и в княжьих хоромах сразу завертелся вихрь.
Не успел Стимар моргнуть, как вокруг него и около пронесся тем вихрем весь род Лучинов, за вычетом лишь невест, дочерей князя Лучина.
Вместе с чужим родом пронеслись вкруговую княжича два топора, семь пшеничных снопов, а следом – белое обыденное покрывало.
“Не для ворот”,– догадался княжич, когда то белое, как глоток холодного молока застило на миг светлый день.
В одно мгновение радимичи срубили топорами с широкой столешницы все кувшины и братины, успевшие пустить в нее корни так же быстро, как и все, что росло, женилось и приносило приплод до заката у скорых Лучиновых, а потом замирало, дыханием и кровью в жилах пережидая стремительное переклятье до нового рассвета. Остались на столе только низенькие, гладкие пеньки. Но и пеньки не стали бы мешать молодым, потому что радимичи сразу покрыли стол долгими, вдвое длиннее обычных, снопами пшеницы. Пшеница же у Лучиновых была долгой потому, что всегда старалась перерасти до заката свою тень.
Сверху на снопы и легло белое покрывало.
– Пора, княжич, тебе выбирать,– сказал князь Лучин, которому вихрь раздул бороду на все четыре стороны света.
Он собрал зябликов обратно в рукава, а вся его родова покинула горницу и ушла в подклеть, из года в год прораставшую в землю всю глубже и глубже вроде пустотелого морковного корня.
– Вот тебе, княжич, брачное ложе,– указал князь на былую столешницу.– Шершням мы дупло заткнули – они не смогут унести твое желание, как полевой вихрь уносит пыль и семена. Ведь у вихря нет спины, а потому пыльная дорога и цветы после него все равно остаются на своих местах. Помни реченное. Я дал слово отпустить тебя на закате. Ты дал слово оставить до заката в моем роде свое семя. Не удержишь своего слова – я по своей воле отпущу из рук свое. С недавних пор отпустить слово стало куда легче, чем отпустить семя. Потому что умерли великие воины.
– Пусть и твои слова, князь, не станут длиннее моей дороги,– ответил княжич, вовсе не испугавшись и не уронив от испуга на чужую землю припасенного в кулаке обмана.
Тут ему под ноги вдруг потянуло сыростью. Обернувшись на запад он увидел каждым глазом сразу всех трех дочерей князя, покрытых одним платом, с которого стекала к столу-постели холодная дымка. Вышли невесты из той самой двери, что только и оставалась запертой до сего времени.
“Живые ли все?”– усомнился княжич, поежившись от рассветного холода, хотя на всех славянских землях уже переваливало за полдень.
– Нынче я сберегал своих дочерей вместе с утренним туманом,– предупредил князь.– Оттого все мои дочери остались на один день моложе. Так они вернее зачнут, ибо твое семя сохранится в их лоне два полных дня, а не один, как бывает у всех инородцев.
– Никак всех трех отдаешь мне разом, князь?! – удивился Стимар не столько щедроте Лучина, сколько своей прозорливости.– Или же хоть по часу на перемену между свадьбами оставишь?
– Неужто сам не успеешь управиться до заката, княжич? – в ответ хитро подмигнул своим колючим месяцем князь Лучин.– Неужто тебе силу твою собирать заново дольше, чем женщине вязать сноп?
От колючего месяца Стимар заморгал, будто ему сразу в оба глаза вонзились остриями упавшие в них ресницы, но свой замысел вовсе не проморгал. Он твердо решил, что не оставит в Лучиновом роду радимичей своего семени – ни в трех княжеских дочерях, ни в одной, а во что бы то ни стало унесет за Лучиновы межи и будет таить от всех свое семя до тех пор, пока не вернется по самой короткой дороге в Царьград и не отыщет виновного, не очистится от чужой тени, которую его род принял за волкодлака. Княжич опасался, что его семя до тех пор будет подобно оседающей на чистую воду саже.
– Пускай тогда твои дочери и станут вязать по очереди снопы, а начнет старшая,– хитро предложил он.– Как старшая закончит, так я с ней и сочетаюсь. А младшие пускай торопятся вдогонку. Вот и поглядим тогда, кто из нас скорее окажется.
В Царьграде один служивший во дворце македонский коновал однажды, забывшись во хмелю, поведал Стимару великую тайну, которую наяву знают только коновалы, а во сне – все гончары. Если женщина только что вязала сноп, толкла пестиком в ступе или держала в руках еще горячий, с обжига, кувшин, то пока ее руки не остыли, она всегда – если ее в эти мгновения обнимает мужчина – она всегда в эти мгновения чувствует входящую в ее лоно силу, даже если туда еще не вошла плоть.
Эту тайну и понадеялся теперь применить княжич, издали благодаря того пьяного коновала, но оказалось, что князя Лучина объехать труднее, чем радугу или завтрашний дождь.
– Кабы так, то я и сам недолго бы возился, княжич,– развел руками Лучин, рассыпая своих зябликов уже невзначай. – Только нет среди них старшей. Все трое родились в одночасье, как пальцы на одной руке.
– Неужто и зачал ты их, князь, в одночасье, как тремя пальцами, когда макаешь кусок хлеба в мед?! – изумился Стимар, вовсе не желая обидеть Лучина.
А тот и не обиделся, потому что так оно и случилось, как могло случиться только в его роду после переклятья.
Однажды, вернувшись с долгой охоты, съевшей у него приманку из целых трех хорошо откормленных дней, что пахли молочными поросятами, скорый на дело Лучин захотел наверстать упущенное и взял сразу трех своих жен, торопясь к закату наперегонки с Лучиновым переклятьем. Он велел живо соорудить для себя три ложа и расставить их на равных расстояниях друг от друга – от восточной межи до западной. Стоял наготове самый быстрый конь, хотя конь в тот год был в роду только один и принадлежал он самому князю.
Когда жены легли, он начал с той, что дождалась его первой на восточнном ложе, а завершил мужское дело, два раза вскочив и два раза спрыгнув с седла, в западной постели. Когда все жены после соития поочередно поднялись и сошли на землю, то их закатные тени оказались равной длины, что могло означать только одно: все три дочери князя были зачаты им в одно и то же мгновение, пустившее три одинаковых корня на три княжеских ложа.
А случилось то тройное зачатие на закате, как раз перед самой короткой летней ночью.
– Выбирай, княжич, сначала – первую, а потом – третью, вот и вся твоя воля-свобода,– вывел новый итог Лучин из своей старой сказки.
Один белый плат покрывал всех трех дочерей князя, и они чудились княжичу тем самым разделившимся натрое мгновением, которое князь и поймал на свою трехдневную приманку.
– По обратному чину платом покрыть невесту годится после зачатия, а не раньше,– заметил Стимар.
– Мудро,– согласился князь Лучин.– Только начал бы ты, княжич, с выбора, а то как бы потом глаз не хватило.
Но Стимар теперь стоял на своем, сомневаясь, как у него может не хватить глаз, если в Царьграде он, бывало, видал по полсотне красивых девушек разом и не за три, а за половину одного мгновения.
Тогда князь повелел снять с дочерей рассветный плат.
Зябкая полевая сырость потянулась низом обратно и рассеялась вместе с платом.
Перед Стимаром открылись лицом три красавицы-невесты, и Лучин оказался прав: глаз у княжича не хватило. Так красивы были дочери радимического князя, что, как ни пятился княжич, а все равно разом мог видеть только двух, а третья терялась, и от любой из тех трех потерь княжичу сразу делалось горько, будто он терял в самом конце пути из родной земли в Царьград какую-нибудь из самых дорогих сердцу вещиц, захваченных из дома – ножик Коломира, конек-оберег отца или даже один из тех новых красных сапожков, если бы тот случайно упал с корабля в бездонную и бескрайнюю полынью, что с любого из своих краев называлась морем.
Так и пятился княжич в растерянности, пока не уперся спиной в стену Лучинова кремника.
И тогда, невольно оперевшись на чужую стену, Стимар вздохнул с облегчением и понял, о чем предупреждал его князь Лучин: когда в самую короткую летнюю сходятся две зари, вечерняя и утренняя, тогда нельзя увидеть сразу три света, на самом деле являющихся небесной тенью одного Солнца. Две таких тени-зари Солнце отбрасывает в две стороны, чтобы замкнуть ими весь мир, как обручем-колесом в ночь летнего солнцестояния. И сойдясь кольцом, те две тени образуют на небосводе шов-полоску третьей тени, самой короткой, но самой широкой тени, похожей на родничок младенца. Соединение двух теней Солнца, обнимающих самую короткую ночь, кажется на небе и самым темным местом, но только такой тьмы, как догадался северский княжич, и боится дьявол, отец лжи, о котором предупреждал уже не какой-то радимический князь, а сам Господь Иисус Христос.
Как ни стой посреди той ночи, которой, как кольцом, соединен-скован весь небесный свет, в какую сторону ни смотри тогда, никогда не сможешь объять взглядом сразу три солнечных тени.
Так получилось и с дочерьми Лучина: с какой бы из них ни начинал считать Стимар, всякий раз сбивался со счета, притом теряя вовсе не его конец, а – начало.
Тогда решил он выбирать по-другому, как выбирал в Царьграде себе меч в день совершеннолетия. А выбрал он себе тот, который был больше остальных похож на полуденную дорогу от земного окоема до вежи Турова града, ведь по той дороге отец каждую осень возвращался домой из гона на Поле.
Дочь князя, зачатая им на западе, была очень красива. Своей красотой она изумляла больше, чем вишня, выросшая не в саду, а в березовой роще, и одевшаяся в белый цвет не по весне, а под дождем осеннего золота. Но на нижней губе у нее была родинка, будто на той вишне еще с прошлого года осталась одна засохшая и такая же упрямая, как само дерево, ягода. Когда князь Лучин поднимался с ложа, оставив свое семя догорать в лоне западной жены, он поцеловал ее перед тем, как нагим вскочить в седло. А жена, оставленная на западе, имела обыкновение долго разжевывать все мужнины поцелуи, как спелые ягоды, и выплевывать косточки. Вот откуда появилась родинка у дочери.
Восточная дочь князя была красивее ржаного поля в юной, серебряной спелости, когда на таком поле, как на тихой озерной воде, отражается не только падающий с неба сокол, но даже мерцает иглами холодной росы стук его хищного сердца. Но на этомполе один колос вырос выше остальных и был красного цвета. Темной краснотой тлел правый зрачок невесты, напомнивший Стимару о его давнем страхе.
Князь Лучин в молодости был легок на подъем и успевал завершить охоту до первого пота. И в тот день он от рассвета до заката оставался сух всем телом, как полуденный ветер. Только у восточной межи князю пришлось потрудиться втройне, потому что оставленную там на ложе супругу он взял у соседнего рода вирой за убитого в ссоре родича, и от этого ее лоно долго напоминало собой еще не вырытую и не обогретую углями могилу. Весь пот, успевавший у скорого князя после всякого труда высыхать еще под кожей, теперь выступил одной горячей каплей, пробежал с шипением по его теменному волосу и, упав в глаз жене, обжег ей зрачок. Жена вскрикнула, как в первую брачную ночь, и впервые испытала наслаждение от соития с мужем. С тех пор она стала видеть тем глазом только то, что происходит под землей на глубине в одно поприще, а ее дочь родилась с красным зрачком. Вернее на месте зрачка у нее оказалась прозрачная родинка.
Наконец княжич посмотрел на ту невесту, что стояля между своих сестер, и понял, что увидел ее впервые. Она была смуглее лицом и темнее волосом, как будто Солнце, не двигаясь на небе, всегда светило ей в спину. Ее мать принес из половецких зеель в радимические земли один отбившийся от племени жеребец. Тот жеребец успел проскакать прежде по землям и северцев, и вятичей, но никто не смог его поймать, кроме молодого Лучина, знавшего от отца тайный заговор на гон зверя. Три вещих слова надо со свистом выдохнуть через нос против его бега. Тогда чем быстрее будет бежать зверь, тем медленнее будет уходить у него из-под ног земля, а то и вовсе может двинуться вперед, а не назад – тогда или хватай добычу живьем, или сторонись.
Пока бешеный жеребец скакал, никто не видел красоты половчанки, а когда остановился, схваченный князем под уздцы, все Лучиновы увидели, что теперь могут гордиться добычей ничуть не меньше, чем своей радимической гордостью. Один из ветров следом захватил на востоке и принес Лучиновым слух, что половцы сами посадили девушку на бешеного жеребца и на целый день закрыли глаза и заткнули уши, чтобы не знать, куда и по какой дороге тот ее унесет. А родилась она половецкому кагану в самую короткую летнюю ночь от немой пленницы-гречанки благородного происхождения, причем в ее лоне едиственной защитой девственности оказалась золотая ромейская монета, которую каган потом вставил на место глаза, выбитого в бою стрелою.
Самим половцам та каганская дочь казалась еще более красивой, чем потом – принявшим ее радимичам. Такой красивой, что мужчины, бросив на нее взгляд, сразу слепли до полночи, причем у ослепших стояла в глазах не тьма, а ее лицо, сама она и все, что было видно вокруг нее в мгновение того взгляда. Потому родичи, половцы, не ведавшие никаких межей, решили не выдавать ее замуж, а отпустить с жеребцом и ветром. Славян же спасла от слепоты ее более смуглая, чем у славянских красавиц кожа, а гордых радимичей и вовсе было трудно ослепить тем, что уродилось за их межами. Но и они дивились невольной добыче, потому Лучин и оставил для половчанки ложе посредине своей земли, чтобы никакие чужаки не дотянулись до нее через межу и не выкрали невзначай.
Каждый раз когда князь Лучин входил в лоно половчанки своей плотью, ему чудилось, будто он, самый быстрый охотник, вот-вот выпустит из рук самую дорогую в его жизни добычу. Каждый раз, когда копье наслаждения наконец пронзало ему хребет от крестца до холки, ему чудилось, будто его семя превращается в ветер, который не может угнаться за бешеным жеребцом. Такой и родилась его дочь.
Она выросла и стала красива невидимой красотой. Невидимой от того, что – слишком стремительной. Стоило кому-нибудь взглянуть на девушку, стоило поднять перед ней веки, как он сразу удивлялся ее красоте, но разглядеть ту красоту и насытиться ею хоть на четверть уже не мог, ибо всякий взгляд, длившийся дольше мгновения, безнадежно отставал от ее красоты, как ветер от бешеного жеребца.
У нее не было на лице никаких родинок, и только самые ближние родичи знали, что все скрытые родинки тянутся сплошной тропой по ее хребту, как Млечный Путь через небеса.
Когда северский княжич увидел срединную дочь князя Лучина, то обомлел и сразу забыл о своем хитром замысле совсем обмануть радимичей. В один миг он полюбил девушку всем сердцем и захотел ее всей своей плотью так сильно, что стена кремника, подпиравшая его спину, затрещала и сама собой отстранилась от него на целый шаг. Не догадался об истинной причине легкого выбора ни сам княжич, ни тот, второй, пришедший с ним из Царьграда и всегда умевший рассудительно ответить на все мысли и желания княжича. Сам того не разумея, княжич прозрел в серединной невесте и в ее лоне единственную, никому не ведомую дорогу, что могла тайно вывести его за все межи в одно не уловимое никакой охотой мгновение. То было мгновение, которое даже скорый князь Лучин не смог бы остановить своим особым заговором.
Тогда Стимар собрался с силами и сам двинулся от стены кремника вперед и, чем ближе подходил он к невесте, тем все сильнее поддавался страху, который был, однако, убит первым же реченным словом.