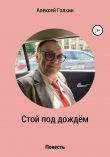Текст книги "Из жизни Потапова"
Автор книги: Сергей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Новый возраст
В один из этих дней Потапову пришла телеграмма: «Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Целую. Вася». Потапов снова прочитал загадочный текст, адрес: Ломоносова, 26, Потапову Александру Александровичу. Что за чертовщина?
Текст был странный, но какой-то знакомый. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин… За поступок благородный все его благодарят. Пожелайте что угодно, дяде Степе говорят… А-а! Это же из «Дяди Степы». Танюля сразу бы догадалась.
Кто мог отправить? Сева – больше некому! А что она значит, сия загадочная депеша? Пришла из Москвы. Значит, он вернулся. «Жив, здоров». Ну тут как-то особо не истолкуешь. А почему сюда не едет?.. Позвонить бы! Но Маше звонить никак не хотелось. И тогда он решил: лучше подождем. Объявится, куда ему деться!
Наверное, в других обстоятельствах Потапов придумал бы окольные пути, чтобы найти Севу, хотя бы попытался. Но сейчас это ему даже не пришло в голову. Потому что он жил только своей, сосредоточенной на работе жизнью. Бегал, работал, спал, сражался с желанием закурить, снова работал, спал, бегал, работал…
Он не развлекался, не читал книг, не имел лишних мыслей, не выпивал с устатку рюмочку-другую. Любое общение он бы счел для себя бедой – отвлекает! Поэтому, когда он уехал с дачи, чтоб повидаться с родителями и Танюлей, то не позвонил ни Севе, ни в институт. Если совершенно честно, он и самую эту поездку считал потерянным днем… Подумал так и ужаснулся себе. Что же я такое? Готов за свою работу душу прозакладывать? Но что мне в этой работе? Наслаждение, наркотик? Эгоизм? Сумасшедшая гордыня? Но ведь эти мои гордыня и наркомания, помноженные на эгоизм, они же для общей пользы, для всех!..
Нестерпимо его тянуло покурить. Он выбегал на улицу. Делал свои приседания, но уже не двадцать, а тридцать раз. И успокаивался… Молодеешь, парнишка. Животик тает. А там, глядишь, будем вес держать, как в команде! Однажды, возвращаясь со своего кросса, он прыгал в горку на одной ножке. И вдруг увидел, что навстречу ему идет девушка. Она, улыбаясь удивленно, смотрела на Потапова. А он тоже улыбался ей, и продолжал прыгать на одной ножке, и дышал во все легкие.
Дома Потапов с особым удовольствием обливался холодной водой, чувствуя, что фигура у него действительно молодеет. Какая-то, черт возьми, упругость появилась. Побриться надо, что ли, не брился уж дня два-три. Он включил бритву, посмотрел на себя в зеркало. И смешно ему стало и грустно. Он вспомнил удивленный улыбающийся взгляд той девушки… Эх ты, старая образина, товарищ Потапов! Ты радуешься отсутствию живота, а она-то юными своими глазами видит твою седину, и морщины, и слишком густую щетину, такой у молодых ребят не бывает.
«А народ-то над ним насмехался: поделом тебе, старый невежа! Не садись, невежа, не в свои сани!» – это он Тане читал «Сказку о рыбаке и рыбке». И они оба жалели старика. И Потапов тоже его жалел, но так, как жалеют кого-то тебе постороннего… Теперь это все прямо стало относиться к нему: «Не садись ты, невежа, не в свои сани!» И тут же вспомнилась холодная Маша: «Зачем он так усиленно занимается спортом? Чтобы к шестидесяти пяти стать неестественно молодым стариком?»
И все-таки он чувствовал себя молодцом – хоть убей! Потому что за плечами у него надежно стояла несметная рать – его работа. И с каждым днем, с каждым часом она росла. Потапов все дальше продвигался вперед, уничтожал неорганизованную материю, уменьшал энтропию Вселенной.
А юность… ну что ж с ней поделаешь. Была – нету! Вот работа моя есть, существует, хоть я совсем умри. А умирать я не собираюсь!.. Так он рассуждал сам с собой и опять садился за письменный стол. У него клеилось, шло дело. И завершение было лишь вопросом времени и вопросом вдохновения.
С вдохновением у Потапова было в порядке, со временем – хуже. Сегодня его письмо уже, наверное, приехало в Текстильный. Завтра Валя прочитает его. То есть осталась неделя!
Не больше… Потому что и с конторой ему тянуть никак было нельзя. И так уж все это выглядит не слишком: руководитель и вдруг взял да исчез! Будь ты хоть десять раз вроде в ссылку сосланный, все равно так не годится. Вот и правильно выходит, что тебя не назначили вместо Лужка!
Но постойте. Все эти разговоры были бы правомочны, если б Потапов сидел без дела. На юге, скажем, разные части тела грел и пульку расписывал. А он-то что делает! И тогда получается совсем иной разговор, верно? Однако, чтоб разговор был действительно иным, нужно дело, результат. И в какие-то весьма и весьма обозримые сроки. Неделя даже многовато. Это уж просто потому, что Потапову раньше никак не успеть.
Он работал… Если б по-настоящему снимать фильм о труде ученого-теоретика, это получилось бы жутко скучное кино. Сидит человек за столом и сидит. Десять секунд пишет, десять минут думает – больше буквально ничего. И звуковое оформление тоже было бы не дай господи! Ну может, когда стул скрипнет, ну может, когда страничка шелестнет… Потапов этого не замечал, но уже несколько дней он жил в кромешной тишине.
Однако он не слышал даже тишины. Потому что в голове его звучал грохот сражения, то похожий действительно на грохот, то похожий на музыку – это он решал свою задачу, свою огромную задачу, состоящую из тысячи маленьких.
Каждый выведенный им знак гудел и звучал по-своему. Основные, основательные отвечали, на взгляд Потапова, густым баритоном. И это нравилось ему, как бы соответствовало его комплекции. А всякая вспомогательная чепуха звенела вроде осколков, мелких ледышек. Звук их проскакивал быстро, словно холодок по спине. Среди них бывал какой-нибудь один, который выпрыгивал, словно черт из табакерки. Он заставлял своим звучанием приглядываться к нему. И чаще всего это бывала ложь, ошибка.
Тогда Потапов шел назад до того места, где им был обронен сорняк, и беспощадно выпалывал его. И когда он делал это, раздавался сухой, как бы траурный шорох. Потому что убитая Потаповым мысль была его собственной мыслью. Теперь если кто-то и захочет проследить ход потаповских рассуждений, то помчится по благоустроенному шоссе готовых выкладок. И просто невозможно себе представить, что этот кто-то становится у обочины и станет заниматься розысками отринутого… Как сам Потапов брал какие-то формулы и понятия уже готовыми к употреблению, так и его теорию «Носа», такую новенькую, такую совершенную на сегодняшнюю секунду, когда-нибудь возьмут как готовый блок, как часть чего-то несравненно более совершенного. И скажут: недурно, мол, все сделано, математически весьма элегантно. Или наоборот: до чего ж коряво, скажут, ну да ладно, пока работает, и шут с ним!
Итак, если Потапов зачеркивал что-либо в своих записях, он зачеркивал навсегда… Впрочем, на этой войне вообще выживали очень немногие, в братскую могилу шли даже вполне надежные солдаты. К сожалению, они почти все оказывались лишь математическим аппаратом. А уж когда потаповская теория уляжется в некую пятистраничную статью, то все эти верные солдаты будут сидеть и лежать страшно сжатые под несправедливым прессом слов типа «несложно привести» (формулу такую-то несложно привести к следующему виду…) или «легко показать» (а если величины «фи» и «альфа» равны, то, используя математический аппарат, легко показать, что…) и так далее.
Вовсе не «легко показать» и вовсе не «несложно привести». Первопроходец, в данном случае Потапов, изрядно поломал над этим голову. Но такова уж традиция в изложении материала.
Во время работы в математическом шуме и музыке ему слышались иногда какие-то слова. Это он сам произносил их каким-то незанятым на работе участком коры. А почему-отчего – неизвестно. От азарта, что ли… Так мальчишка на контрольной зачем-то сидит с высунутым кончиком языка, словно сам себя дразнит.
Вечером, после дня работы – грохота, музыки, неясных разговоров – ему хотелось тишины. В тишине хотелось ему тишины. Несколько раз, не веря себе, он включал приемник. И скоро выключал его. Сидел на террасе, смотрел на облака, проплывающие по небу, на звезды, целыми компаниями выглядывающие из облаков. Отдыхал. Говорят, после умственной работы неплохо бывает пройтись или покопаться в каком-нибудь там саду-огороде. Но это все чистая теория. Он уставал именно физически. И притом так натурально – натуральнее дровосек не устает! Не хотелось ни рукой шевельнуть, ни ногой.
Однако мысли не могут долго стоять на одном месте. Вернее, они вообще этого не могут. Куда-то и зачем-то текут биотоки, возникают ассоциативные ряды… Как очень скоро убедилось человечество, выключенная ЭВМ – это слишком дорогое удовольствие. И выключенная МВМ тоже.
Мы сидим себе при свете звезд, при течении облаков, ни о чем не думаем. Вернее, так: мы думаем, что мы ни о чем не думаем. Но вдруг глядишь: из совершенно ровной глади, как бы из ничего вынырнуло понятие, причем вполне готовое, твое.
Сейчас, правда, это было не понятие, а образ. Потапову вспомнилась та девушка, что встретила его у Севкиных сосен. Идет навстречу и улыбается: «Во странный дядечка-то». А лет ей не больше девятнадцати. То есть, в сущности, Потапову дочка. Есть девчонки, которые как бы совсем не замечают потаповского возраста. А есть которые сильно замечают. Как и он сам… Да, как и он сам.
Он долго не мог уразуметь, например, что солдаты все до единого моложе его. Это, наверно, рудимент детства: все солдаты – здоровые дядьки, взрослые. И опомнился он лишь после института, уже отыграв свое в команде. Посмотрел как-то на солдатика, грузина или азербайджанца, который удивительно беззаботно ел мороженое у станции «Курская-кольцевая», цеплял его дощечкой из картонного стакана. Потапов посмотрел и вдруг понял: пареньку этому лет девятнадцать, не больше… А мне двадцать седьмой! Потом это удивление подзабылось, постесалось. Он опять стал молодым-молодым инженером, молодым ученым. Но прошло еще сколько-то времени, и он неожиданно и бесповоротно установил, что все спортсмены моложе его. Если и попадался какой-нибудь чудачок потаповского возраста, его именовали не иначе как «неувядаемый ветеран», а это уж значит: пора, милый, сходить! Потом все чаще стали моложе его попадаться ученые, писатели, актеры и прочие знаменитости – словом, те, кого показывают по телевизору. И Потапов наконец сказал себе, что он вступил в новый возраст. Да что за дурь, говорил он себе, никакого возраста я не чувствую. Но чувствовал его. Не по одышке, не по сердцу, но по особому, наверное, отношению людей, по тому, например, что уж давненько никто при нем не занудничал, что, мол, вы, молодежь, а вот мы-то в ваши годы…
Были, впрочем, и преимущества у этого нового – среднего, что ли, – возраста. Вступив в него, ты однажды вдруг понимаешь, насколько стал сильнее и в чем-то даже свободней.
Потапов опять обнаружил это на мелочи. Года два назад к ним пришел соседский мальчишка: дядя Саш, помогите решить задачку.
От школьной математики у Потапова осталось впечатление тихого кошмара. А теперь, когда любят объяснять, сколь много и трудно приходится учиться в современной школе, Потапов втайне считал, что проскочил десять классов нашармачка.
Но вот пришел этот шестиклассник. Немного волнуясь, Потапов принялся решать задачу. Она раскололась, как орех под паровым молотом. Потапов, довольный, что может рассчитаться за все свои школьные страхи, сказал мальчишке:
– А ну-ка давай! Чего там у тебя еще задано?
С удивлением он увидел, как мало задают в этой современной школе. А может, не мало? Может, просто он сам стал огромный, а мир словно бы съежился перед ним…
Вечер уже перешел в настоящую ночь. Бледная весенняя луна медленно ползла, отпарывая тучи от небес, и они уплывали. По обычным временам Потапову, чтоб хорошо завтра поработать, следовало отправляться спать. Но у него была фора – два часа дневного мертвого часа. И он мог еще сидеть – не сонный, а такой весь успокоенный, словно родственный этой негустой лунной темноте, тишине… Да и представится ли когда-нибудь в его жизни возможность вот так же спокойно посидеть майской ночью?
Будто б совсем некстати ему припомнилось кладбище, где похоронена была его тетка, Варвара Павловна, самый дорогой из всех умерших при нем людей… Это было в годовщину ее смерти, шестого сентября. Небо синело, тихо светило солнце. И почти не верилось Потапову, что в такой день кто-то мог умереть. Кладбище, где лежала тетя Вава (так ее звали в семье), было молодое, так сказать, индустриальное, со множеством рыжих новых могил. Такие кладбища последние годы образовались в разных окраинных углах Москвы. Потапов отпустил машину и совершенно один пошел по узкой дорожке к знакомой могиле.
Несмотря на свою молодость, кладбище все было в деревьях, в кустах. Ветер осторожно обрывал с них желтые листья. А зеленые еще крепко висели на ветках и продолжали шелестеть.
Навстречу Потапову по дорожке шли старик и старуха – благообразные, но уже чуть заметно согнутые годами. Седой старик с желтоватым, как у всех стариков, лицом держал в руке мышиного цвета фетровую шляпу – такие модны были лет тридцать назад. Потапов притиснулся к ограде, уступая им дорогу. И они прошли под ним, оба такие невысокие рядом с баскетбольным Потаповым. Старушка обернулась к старику и сказала:
– Как все-таки хорошо здесь!
Потапов долго смотрел им вслед и долго видел их, две темные фигуры, пока они не затерялись среди памятников и крестов.
Тот мальчишка со своей задачей. И эти старики, которые говорят, придя на кладбище: «Как хорошо здесь!» И, наконец, Потапов – среднее поколение. Как определить: зачем он существует в мире?
Как определить? Записывай! Мы существуем затем, чтобы взвалить на плечи всю тяжесть ответственности за свою страну и нести ее очередные четверть века. А потом передать на плечи другим, тем, которые подрастут, которые сейчас скрипят зубами над задачами для шестого класса.
Четверть века – неужели так мало? Да, пожалуй, не больше, Потапыч. Нет, не больше. Значит, всего двадцать пять зим, примерно девяносто – сто серьезных испытаний, штук двадцать отпусков – вот и твоя рабочая жизнь. Это все не придуманные, это все точные, считанные вещи. Как же надо жить внимательно, чтобы не потерять ни одного из двадцати пяти отпущенных тебе по-настоящему рабочих годов. Да, внимательно. Вся страна у тебя на плечах! Особенно у тебя!
Так уж вышло в нашей земной науке, что от его работы слишком многое зависит. Пока трудятся твои «приборчики» и кое-какие иные аппараты, страна может спокойно стоять в своих пределах. Старики шагать по своим неспешным делам под синим сентябрьским небом, семиклассники балабонить про успехи хоккейной команды ЦСКА, а Танюля разговаривать с невслоном.
И вот все они и еще тысячи, миллионы других внимательно следят за Потаповым. Они-то думают, что будто бы не следят, а на самом деле они следят: как там у него дела, у Сан Саныча, как там у него дела?
Луна опустилась за горизонт, облака уплыли. Небо, готовясь к рассвету, было абсолютно чистым. Потапов спал в своем шезлонге. Пара комарих недоверчиво вилась над ним, проверяя, действительно ли он спит или только прикидывается, а потом грохнет огромной, как пшеничное поле, ладонью и убьет их, разнесчастных, голодных от рождения насекомых.
Хоть раз в жизни
Сева явился именно в тот час, который Потапов отвел ему для появления, то есть после обеда и послеобеденного сна.
Он шумно вошел в дом, бухнул что-то на стол, двинул стулом, который на дороге у него вовсе не стоял. Это все Потапов соображал, слушая сквозь пол Севины стуки и громы. Какой-то островок мозга еще цеплялся за работу, но куда уж там!
– Севка!
И одновременно как выстрелы в ковбойском фильме:
– Сан Са-ныч!
Потапов побежал к лестнице и вниз. И тут они встретились, так сказать, на полпути:
– Здорово, дядя!
Потапов обнял его, крепко пахнущего табачищем. Но дачная крутая лестница не слишком удачное место для объятий – чуть не загремели оба, Потапов ухватился железной рукой за перила.
– Господи, Сан, какой ты здоровый, просто ужас!
Сам Сева выглядел бледновато, а губы, наоборот, ярко-красные – словно у классического чахоточного из литературы XIX века. Глаза припухли. Но это у Севы было всегда: такие глаза, будто он недавно плакал. Элка придумала так говорить…
– Давай, Сан Саныч, выпьем по-быстрому. Я кой-какую бутылочку для тебя имею…
– Не пью, Сев. И… ты только не падай, я не курю.
– Во дает… Ты чего?.. Исхудал, смотрю. Спортивный…
Покачав головой, Сева пошел в дом (а они сидели на террасе), принес бутылку вина и два стакана… Надо ему рассказать, подумал Потапов, про конторские дела и про «Новый Нос».
– Ладно, Сев, давай, правда, махнем за встречу. Не пил уже лет двести пятьдесят!
Потом он вкратце изложил свои дела, и Сева кивал, пожалуй, все-таки с чуть большей амплитудой, чем требовалось для простого трезвого удивления. Ну да это сущая, ерунда. И чтобы не чувствовать себя полицией нравов, Потапов треснул еще полстаканчика:
– Это, Сев, я тебя малость догоняю.
– Давай-давай. – Сева улыбнулся. – А между прочим, что там наши друзья из города Текстильного?
Потапов неопределенно пожал плечами.
– А ведь я ее видел! – Сева смотрел на Потапова испытующе. – Тебе она ничего передавать не просила.
Потапов спокойно кивнул… Вот когда он понял, что такое муки бросившего курить. Встал, отошел подальше от столика, на котором лежали Севины сигареты. Впрочем, у меня и свои есть. Полторы пачки, в ящике письменного стола. Ну и что же, что не передавала? Она и не должна была ничего передавать. Передала, не передала – детский разговор какой-то… Сева все продолжал внимательно смотреть на него.
– Ты давно из Текстильного? – спросил Потапов.
– Два дня после тебя пожил и уехал… Ты влюбился, что ли? То есть извини, конечно, за дурацкий вопрос.
– Сев… – он сделал паузу, не зная, что говорить дальше. – А ты сам-то зачем целую неделю в Москве сидел?
– О! – Сева излишне радостно кивнул. – Об этом можем толковать сколько твоей душе угодно. У меня секретов нет, слушайте, детишки! Существует, Сан Саныч, такая мудрая формула: «Помнишь ли ты, кого ты должен забыть?» Вот этим самым я и занимался. И продолжаю заниматься. – Сева взял бутылку, потом раздумал, поставил ее на место. – И вот я забывал!
– Ну и?.. Ты так говоришь витиевато… Вы помирились, что ли? – спросил Потапов, надеясь, что этого не случилось.
Сева покачал головой – то ли отвечал этим жестом на вопрос Потапова, то ли что-то вспоминал.
– Я, говорю, пришел, Машенька, объявить тебе, что все женщины есть падлы, включая Джульетту и Дездемону!
– Гениальное соображение, Сев. Ради этого, конечно, стоит жить! Пошлятина первый сорт.
– Иди ты к богу в рай, Сан Саныч! – обиженно сказал Сева. – Что уж, человеку нельзя хоть раз побыть дураком?
Потапов засмеялся и кивнул. Сева, улыбаясь, смотрел на него:
– И знаешь, что она мне ответила? Я, говорит, тебя, Севочка, сплю и вижу. А хочу, чтобы проснулась и увидела!
Потапов представил себе, как это могла сказать прекрасная, с сияющими серыми глазами Маша… Нет, он совсем не знал Машу, произносящую: «Я тебя сплю и вижу, а хочу, чтобы…» И лишь догадывался, лишь отдаленно догадывался, какое это, должно быть, чудо, когда такие слова говорит тебе женщина ее красоты!
Чтобы хоть как-то спастись, он сказал себе, что все-таки слова эти представляются театральными и выученными заранее. И тут же ему безмерно жаль стало Севу и… и себя! Неужели действительно они были театральными? Неужели так на самом деле не может быть? Хоть раз в жизни!
– И что же ты ей ответил, Севка?
– Ничего, – глухо сказал Сева, – встал и ушел.
Ну и дурак, хотел крикнуть Потапов, но, естественно, ничего он не крикнул.
Ну и правильно ты поступил!.. Не сказал и этого.
Остров имени Маши
– Сев, а я и не знал, что у тебя велосипед.
– Вы еще много чего не знаете, Сан Саныч.
– А ты думаешь, она поедет, эта драндулетина?
– Сейчас увидим, – сказал Сева не очень уверенно.
– Так на черта тебе это вообще сдалось?
– Значит, сдалось.
Они накачали шины. Сева приподнял его, легонько стукнул о землю, велосипед подпрыгнул. Сева проехался вокруг дома, слез очень довольный:
– Ты когда-нибудь катался на итальянских велосипедах?
Потапов удивленно покачал головой.
– Это мечта, Саш, а не велосипеды! Но вот он черта с два бы прозимовал в заснеженном сарае, а потом бы куда-нибудь тебя повез. А «Харьков», он, конечно, не того класса, он просто-напросто гроб. Однако он гроб с колесами. И он тебе предан, как собака!
– Ну и слава богу! На кой нам в лесу-то понадобилась эта собака? Дичь, что ли, вынюхивать?
– Пригодится-пригодится, – сказал Сева скороговоркой. – Что ты какой любопытный?.. – помолчал и добавил: – А может, и не пригодится…
Они поднялись на горочку, прошли мимо сосен. Все маршруты на Севкиной даче начинались у этих сосен.
– Красивые, да? – сказал Сева. – Написал я про них, и еще хочется. – Велосипед послушно прыгал по скрюченным, каменным сосновым корням. – Тихо-тихо ты, – сказал Сева. Он вел велосипед за руль. На багажнике вздрагивал полиэтиленовый пакет с картошкой.
Рассказать ему, что ли, подумал Потапов. Не стоит. Он их и так любит, сосны свои… Странно. Ведь что прошло времени с тех пор? Ерунда! Но Севка не умер, спасся, и все будто забылось, будто и не было ничего… Это нельзя вспоминать. Потапов посмотрел на сосны. Они стояли неподвижно в закате, спокойно – огромные весла в синеве. Словно бы они ничего не знали, слово бы Потапов был им совсем не знаком.
Часть пути они прошли по потаповской пятнадцатикилометровой трассе. Потом Сева свернул с просеки в лес, пошел меж деревьями. Рядом велосипед тихо побрякивал звонком.
Лес этот был еловый, старый, сырой, с холодным и чистым дыханием. Лишь совсем недавно здесь растаял последний снег, ушел в рыжий и темно-коричневый ковер опавших игл.
После светлой просеки под еловою крышей казалось почти темно. Потапов и Сева шли молча, каждый по-своему прислушиваясь к тишине, в которой лишь дятел выстреливал короткими и звонкими очередями – д-ррр, д-ррр, и снова тишина на несколько долгих лесных минут.
Сева остановился. Прислонил велосипед к черному стволу. Запрокинув голову, стал смотреть вверх. И Потапов сделал то же. Он подумал о том, какие это высокие и удивительные строения – деревья. Как они упорно тянутся кверху, вместо того чтобы спокойно жить у земли.
И еще он понял тайну темноты этого леса. Когда смотришь на еловые стволы сбоку, как обычно смотрит человек, идущий по лесу, они представляются тебе прямыми, словно струны. Ну да, словно струны, натянутые между землею и небом. Но стоит посмотреть вот так – вертикально снизу вверх, – и становится заметно, что где-то во второй половине своего высокого роста каждое дерево отклоняется влево, вправо, чуть вперед или немного назад. Каждое находит свою территорию… как бы свою плантацию света. И между ними остаются лишь узкие щели, трещины, сквозь которые и пробивается свет.
Потапов медленно пошел вперед с запрокинутой головой. И везде видел все то же. И никак не мог насытиться этим своим открытием. Только редкие, только некоторые деревья стояли совершенно прямо. С одного из таких, с высокой ветки, будто подстреленная взглядом Потапова, слетела большая серо-угольная ворона. Помчалась, легко лавируя по трещинам света меж крон, со свистом ударяя крыльями воздух, с карканьем.
– Са-ша! – тихо крикнул Севка. – Эй! Ты куда?
Эхо разнеслось по весеннему лесу, словно по пустым комнатам. Потапов обернулся. Отчего-то ему не хотелось говорить о своем открытии, а вернее, было неловко… Оттого что это не мое, не мое состояние, а Севкино.
Но слава богу, Сева и не требовал никаких объяснений. Он лишь смотрел на Потапова и улыбался.
– Знаешь, что она мне однажды сказала?
Потапов чуть иронически пожал плечами: мол, откуда же я это могу знать?
– А ты не спрашивай, ты слушай. Не имей такой привычки – откликаться на риторические вопросы. Она мне однажды сказала… вот, примерно на этом самом месте. Тебе, Сева, сказала она, очень идет лес.
Он стоял рядом со своим послушным велосипедом, в телогрейке, в резиновых сапогах… совершенно не писатель. А впрочем, какие они бывают, писатели, много ли их видел Потапов на своем веку? В обрывках телепередач, когда он возится с Танюлей, а Элка обернется эдак возвышенно» «Потише вы, господи! Саша, Таня!», словно бы они с Танькой одногодки. Ну и в Доме кино еще, когда они проплывали, словно корабли на горизонте, и шепот: «Это кто?.. Это Бондарев!» Севка, правда, не классик… Хотя, впрочем, его тоже один раз показывали по телевизору, так что…
Это выяснение Севкиного места в литературе рассмешило Потапова.
– Ты чего это грохочешь? – спросил Сева удивленно и немного обиженно.
– Не знаю даже, как тебе сказать, Сев… Просто мысли, диффузия мыслей. Не серчай!
– Ну, так правильно она сказала или нет?
– Она хорошо сказала, Сев. Это точно!
Сева кивнул – причем так серьезно. Это все имело для него значение. Он сел на велосипед. Виляя между деревьями, метров на пятьдесят уехал вперед. Наверное, хотел побыть один, даже без Потапова. Опять повел свою конягу за рога. Без дорожки, без тропинки. Шел не оборачиваясь. Потапов с неожиданно прихлынувшей грустью смотрел ему вслед… Вот сейчас мне исчезнуть – что ты сделаешь? Пойдешь и пойдешь. Будешь думать о своей Маше. И долго еще не обернешься!.. Да что это я? Что это я, Потапыч? Ты не знаешь случайно? Неужели ревную?!
Чтобы сразу сбить себя с этих мыслей, он запрыгал Севе вслед на одной ноге. Но не так, как мальчишки прыгают – шатаясь и чуть не падая, а решительно, спортивно, как их учили и заставляли на тренировках, Сева живо обернулся – Потапов летел на него, съедая каждый раз метра по два.
– Сдаешься, гад?
– Не останавливайся! – крикнул Сева азартным голосом. – Рви дальше, там фокус впереди!
Верить, не верить?.. Но уж больно здорово ему прыгалось. На лету Потапов переменил ногу и – ух, ух, ух – мимо Севки. Деревья шарахались от него влево и вправо. С ходу он прошиб корпусом тесно стоящих низкорослых еловых защитников и… и словно бы прыгнул в пустоту. Даже упал от неожиданности. Но не разбился, не ударился. Руки, которые за эти дни тренировок уже вспомнили свою прежнюю работу, спружинили, принимая всю, немалую в полете, потаповскую массу. Он небольно ткнулся носом и подбородком во влажную землю. Поднял голову – над ним был разлит зеленоватый прозрачный свет. И странное чувство овладело душой Потапова. Он знал, что сейчас вечер, смеркается потихоньку. Но казалось ему, что кругом рассветает. Одновременно волнение и покой тронули его сердце… Странно: волнение и покой. Наверное, так бывает с человеком в церкви. Об этом подумал Потапов, когда, поднимаясь, несколько мгновений стоял на коленях… Улыбнулся и встал. Над ним росли высокие осины. Их зеленые весенние стволы излучали свет. Вверху шелестели уже подросшие листья.
– Вот и пришли, – сказал Сева. – Это место называется Остров имени Маши.
– Остров? Почему остров?
– А почему имени Маши? – в тон ему спросил Сева. – Прими это, Сан Саныч, как географическое название.
Он снова пошел вперед, но теперь уже не с видом человека, желающего уединиться, а с видом… ну, что ли, командира экспедиции. И Потапов последовал за ним.
В середине этого небольшого, видимо, осинничка – он весь просвечивался насквозь! – темнело странное сооружение из земли и молодых елок. Холм не холм, курган не курган… Все же больше это было похоже на курган – в общем на некую искусственно насыпанную горбину. И вся она, словно огромный еж, была тесно уставлена елками. Действительно остров, затонувший в осиновом озере. Сева пригнулся и полез в чащобу, ведя за собой брыкающийся велосипед. Потапов крякнул и полез следом, взялся рукой за, багажник. И непонятно было, то ли он помогает Севке, то ли сам тащится на буксире.
Так они пробирались минут пятнадцать, не меньше. И все время чувствовали, как десятки сухих и живых веток одновременно хватают их, лезут в волосы, в карманы, за шиворот. Потапов шел согнувшись, молча, видя впереди только Севкину спину. О том, чтобы разогнуться, не могло быть и речи. Тогда б на него напало веток в два или в три раза больше!
И вдруг Сева сказал спокойно:
– Ну вот и все.
Через секунду и Потапов, вслед за велосипедом, выбрался на свет божий… на небольшую поляну, действительно очень небольшую, даже тесноватую. В середине ее было кострище, очень аккуратное, круглое. Рядом горка хвороста и натуральная поленница дров, нарубленных из толстых сучьев.
– Ну вот, – сказал Сева, – здесь мы будем сидеть… Знаешь, по-моему, до меня тут просто не ступала нога человека. Какой дурак полезет в такие дебри, верно?
Потапов кивнул.
– Я сам не знаю, за каким аллахом я сюда однажды полез. Злой, что ли, был… Продрался и вдруг вижу – поляна. И знаешь, что я подумал недавно? Что она будет существовать только во время моей жизни. Значит, только для меня.
– А потом куда денется?
– Елки же вырастут. Значит, одна другую заглушит, большинство погибнет – уже никакой чащи не останется. Ходи кто хочешь!
– А сейчас?
– А сейчас – извините! Я сюда специально каждый раз пробираюсь разными дорогами. Чтобы никакой тропинки! Да и бываю тут два раза в год… А зато уж это мое!
Земля была сухая. Потапов лег, заложив руки за голову. Сквозь редкие ветки обступивших курган высоких осин виднелось синее, чуть пепельное небо. А листики осиновые дрожали, дрожали, серебрились. Потапов подумал, как хорошо ему будет сквозь эту почти несуществующую, больше чем прозрачную крышу смотреть на звезды. Сева не торопясь, очень аккуратно ломал хворост для разжиги… А почему он мне раньше ничего не говорил про этот… Остров?
– Не простудишься, Саш?
Не буду я у него об этом спрашивать. Не говорил и не говорил… Запахло дымом, и скоро Потапов увидел почти прозрачную его струю, идущую вверх, и представил себе, как огонь красной мышью бегает в проволоке еловых веток и веточек… Севка, лесной человек… А я, как установлено, похож на него. А он похож на Валю. На Валю? Ну да. У нее ведь тоже своя поляна. Только среди сосняка. А у Севки среди елок и осин. И значит, я, похожий на Севку, похож и на Валю – выходит, так.
Ему припомнилось стихотворение, которое они любили с Таней: «На свете все на все похоже. Змея на поясок из кожи. Кот полосатый на пижаму. Я на тебя, а ты на маму…» А Валино письмо уже идет, уже, наверное, мчится в поезде: Ломоносова, 26, Потапову Александру Александровичу… В мире смеркалось. Но медленно-медленно.
Брякнул велосипед, словно ему надоело стоять без движения. Потапов повернул голову.
– Поеду съезжу, Саш, – сказал Сева.
– Ты чего?.. Куда?
Сева прикурил от уголька… И Потапов сразу вспомнил, как же это сладко бывает! Вдруг Севка пачку с сигаретами аккуратно положил на горящие сучья.