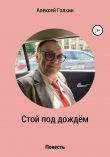Текст книги "Из жизни Потапова"
Автор книги: Сергей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Из жизни Потапова
Возвращение
На небе уже было утро. Солнце сверкало, облака под самолетом лежали снежными мягчайшими холмами и долинами. Уходили к горизонту. Хотелось мчаться по ним и мчаться. Они сияли безжалостным манящим светом. На них больно было смотреть, но оторваться – и того больнее. Все же Потапов отвернул голову, встретился с глазами ПЗ, который тоже смотрел в иллюминатор. Взгляд у ПЗ был изучающий и как бы чуть насмешливый: мол, знаем мы вас, ангельские красоты! Прежде чем в душу пускать, вас надо проверить и перепроверить…
Потапов ничего не стал ему говорить: наговорились довольно. Опять отвернулся к иллюминатору – опять поплыли внизу нежнейшей округлости курганы, засыпанные жемчужным, чуть желтоватым снегом. Буквально душой отдыхаешь, сказал себе Потапов.
На самом деле душа его еще не могла отдыхать. Она вся была сжата в комок, ее свело, словно икроножную мышцу. И должно было пройти дня три или четыре, прежде чем она сумеет вздохнуть и расслабиться. Такая уж была у него работа.
Наверное, здесь с самого начала следует сказать, что мы не будем распространяться на тот предмет, что именно принимал Потапов вместе с ПЗ (представитель заказчика – так сказали бы в обычной жизни), и какой именно был у ПЗ чин, и с каких именно испытаний они теперь возвращались. В их кругах была такая манера называть свои объекты просто приборами. Думаю, нам имеет смысл использовать это слово как термин. Да и дело с концом.
Самолет начал снижаться, срезал самые первые, легчайшие слои облачной мути. Они промчались за окном неосязаемой паутиной. Затем самолет взрыл носом долину меж сверкающих холмов. Посерело, потемнело…
– Пошли в преисподнюю, – сказал ПЗ, – в плотные слои.
Некоторое время они плыли, затерявшись в облаках, словно рыба в океане. Наконец вынырнули на противоположной, нижней границе облаков. Все было здесь непролазно серым. Облака давили, словно потолок подвала. На земле лежал сероватый подтаявший снег конца зимы, снег надвигающейся оттепели. Сердце сжалось у Потапова, будто в ожидании приступа.
На самом-то деле он не знал, какими они бывают, эти приступы, просто у него существовала для себя самого такая как бы внутренняя терминология, которую он, кажется, и вслух-то никогда не произносил… Он снова прислушался к тоске, больно тронувшей его сердце. Отдыхать надо, сказал он себе, тем более отпуск за тот год не выбран, оставалось еще недели полторы.
Самолет качнуло, тряхнуло, он начал медленно и как-то особенно безнадежно падать, хватаясь огромными крыльями за края воздушной ямы. Потапов всего этого почти не замечал – он уж столько налетал за свою жизнь! Лишь отметил про себя: на посадку идем. Рядом ПЗ листал журнал «Вокруг света».
Они спустились совсем низко. Закачались, поднялись на дыбы знакомые Внуково и Юго-Запад. Коробки домов толкались, толпились так и эдак – то высокие, то продолговатые. Тут явно присутствовал какой-то свой, и не случайный, а расчисленный ритм. Впервые Потапов заметил это. Было даже по-своему красиво.
А ведь с земли – каменные джунгли. Вернее, каменный подлесок, подшерсток – одинаковость… Почему ж так получается, подумал Потапов, в чем тут фокус-то?
И догадался: эти кварталы проектировали не отдельными домами, а прямо районами… массивами… Деятели!
Сам человек промышленности, Потапов знал, конечно, что коробки ставили в свое время не от хорошей жизни. Что это выгодно, экономично, дома можно строить чуть ли не прямо на заводах… ну и так далее. Однако когда нападало на него плохое настроение, он начинал брюзжать.
От какого-то архитектора Потапов слышал такую цифру – пятьдесят лет. Столько якобы простоит эта железобетонщина… На мой век как раз хватит, подумал он не то сердито, не то грустно, хватит, и даже с избытком… И потом без всякой будто бы логики: отдохнуть надо.
Между тем наступил тот волнующий момент, когда происходит большинство катастроф, – самолет коснулся круглыми бегучими своими ногами бетона, дернулся весь и помчал по земле – казалось, еще скорее, чем по воздуху.
– Вы когда будете докладывать? – спросил ПЗ.
– Да вот приеду…
ПЗ глянул на него удивленно:
– Вы сейчас что? На работу?
Это странно было в ПЗ. Потапов не знал человека более въедливого, причем вдумчиво въедливого, а стало быть, надежного. Но как только работа кончалась, он – хоп и выключался. И зазря включаться не любил. Например, вот сейчас: они с Потаповым имеют полное право поехать домой, принять ванну, позавтракать… ну и тому подобное – как это обычно бывает после командировки. ПЗ именно так и собирался поступить.
Потапов же сей благословенной картины даже и в голове не держал. Он собирался отыскать машину, которая должна его ожидать, приехать в контору, сесть за стол в своем кабинете, закурить всласть, привести в порядок бумаги, набросать конспектик того, что он скажет Луговому. Потом, часов в девять, позвонить Элке – сообщить, что он приехал, и узнать, как там дела-делишки у нее и у Танюли. Потом позвонить Луговому и сказать, что хочет зайти посидеть минут сорок.
– Давай заглядывай, Сан Саныч, – скажет Луговой. – Ты когда вернулся-то?
Это он спросит с удовольствием, так сказать, со вкусом. Зная, что Потапов вернулся только что. И сразу в контору! Что Потапов самонадежнейший его кадр.
Они посидят свои минут сорок, накурят до первой синевы. Но даже сквозь эту накуренность Потапов почувствует в желудке зверский аппетит, усиленный хорошим настроением оттого, что отчет одобрен. И он отправится с Луговым в столовую, со своим, в сущности говоря, товарищем, но и начальником. И уходя, они со стуком откроют фортку, чтобы, пока их нет, она выглотала никотин, что клубится и плавает по комнате.
Все это в мгновение предстало перед Потаповым как бы единой печатной схемой. И подумалось ему, что расскажи он сейчас все это ПЗ, тот просто не поверил бы и принял Потапова за карьериста. И несомненно бы уменьшил свой высокий потенциал уважения к Потапову. А этого допускать нельзя. И значит, надо помалкивать.
Впрочем, не стоит и на ПЗ наговаривать. Работу человек любит… Кстати, работу свою многие любят. Но как, простите, любят? Как незлое времяпрепровождение между отпусками – вот в чем дело.
А я?.. А ты сидишь среди своих хитрых «приборов», в дыме, что выходит из них. И ничего другого не знаешь.
Ну – и хорошо это или плохо? Обычно на такие вопросы Потапов неопределенно пожимал плечами, хотя на самом-то деле в душе он был уверен, что это очень хорошо, единственно хорошо. Действительно, ведь что за горе такое – по-настоящему жить в году всего один месяц: когда в отпуск отпустят. А остальные одиннадцать ожидать его. Ужас!
Они выбрались из самолета, прошли через холодный аэродром. Тучи висели, ничем не выдавая того секрета, что над ними полыхает солнце… Прошли здание порта, как всегда набитое людьми. На площади, полной народа и полной машин, они почти сразу увидели свои «Волги».
– Ну я вам желаю, – сказал ПЗ. – Тогда поближе к вечерку созвонимся?..
Все было, как он предполагал – и сладкая сигарета и разговор, а потом завтрак с Луговым. В конце завтрака, когда им принесли кофе, Луговой вдруг сказал:
– Ну что, хочешь две недельки свои отгулять?
Потапову было приятно, что Луговой помнит о такой мелочи. Но и сделалось чуть не по себе: предлагать подчиненным отпуска – это было как-то не в его привычке. Сразу припомнилась самолетная тоска в сердце…
– Ну так что? – спросил Луговой. – Чего ты замялся?
– Если начальство предлагает отпуск, значит, надо заказывать гроб. Я вас правильно понял?
Они были почти одногодки. Но Потапов при людях никогда не звал его на «ты». Да и с глазу на глаз это у него получалось не очень. Дело не только в том, что Луговой был начальником, – это бы он пережил, Потапов. Но Луговой был титаном. Форменным титаном – и в руководстве и в науке. Правда, титаном с человеческим сердцем, которое три года назад подстрелил инфаркт.
Луговой никогда не предлагал ему, что, мол, давай перейдем на «ты». Или наоборот – никогда ни голосом, ни словом не говорил Потапову: «Прошу меня называть на «вы». Он лишь иногда позволял себе подтрунивать над потаповским выканьем. Например, вот сейчас.
Потапов спросил:
– Я вас правильно понял?
Луговой на это ответил:
– Ты нас неправильно понял, Сан Саныч. У меня просто есть две путевки в дом творчества. А ко мне Колев… помнишь, болгарин? Так что езжай, не сомневайся. Я тебе плохого не предложу. Писатели кругом, богема, всякие дела. Спирту с собой прихватишь…
Спирту у них на предприятии было не сказать что залейся – такого места и вообще, наверное, нет на земле. Но шутить-то по этому поводу можно было неограниченно.
– Ну если, конечно, спирту… – сказал Потапов. – А с когда путевки?
– Завтра с утра.
– Ничего себе вариантики у тебя, Сергей Николаевич…
– Бери, пока дают.
Это была не угроза, но все ж предупреждение.
– Надо супруге отзвонить.
Тут он как раз вспомнил, что в его печатной схеме, так ясно вспыхнувшей сегодня в самолете, не хватает одного звена – телефонного звонка Элке… Чем же вы это объясните, гражданин Потапов? Объяснение было одно: неохота, вот он и позабыл. Потапов нахмурился: неминуемо придется дать клятвенное заверение, что прилетел десять минут назад… Он был в кабинете один. Снял телефонную трубку, посмотрел на дверь, словно хотел взглядом припереть ее от нежелательного посетителя. Трубка пропела раз и два… Наконец Элка подошла.
– Привет, Эл. Это я.
– Привет, – сказала она, изображая в голосе улыбку. – Давно приехал?
– Только что. Как там у Танюли дела?
– Не болела.
– Слушай, а мы не можем недельки на две сплавить ее к твоим? – спросил и почувствовал, что рановато он стартовал. Надо бы прежде спросить: а как ты, а как настроение?.. и тому подобное. Не спросил. Потому что не интересовался. Плохо!
– А зачем тебе Танюлю… сплавить?
– Путевки тут Лужок подкидывает. – И поспешно: – В дом творчества!
Его это не так уж чтобы вдохновляло. Но для Элки могло быть решающим стимулом: она когда-то что-то внештатно делала в одной почти центральной газете.
– С какого числа твои путевки?
На этом мирные переговоры были закончены.
Она сказала, что думает о Лужке с его горящими путевками и о нем, о Потапове, который готов любому услужить, а о жене и на волос не подумает. А у жены, между прочим, тоже могут быть планы и надежды. Ну и дальше в том же духе. Однако он уже не слушал ее – с того момента, когда она сказала про «услужить». Минуту подержал трубку на столе, потом отсоединил Элку где-то на полуслове.
Так и остался сидеть – злой, неподвижный, хотя все учебники физиологии как раз рекомендуют разгонять злость действием: якобы двигаться надо… Да пошли вы к черту-дьяволу со своим движением!
Что, однако, делать? И почему любое его предложение встречается именно таким вот образом? Я что, с любовницей еду? Я что, ее обманываю?.. Говорю: давай поедем со мной, милая. Тут он чертыхнулся.
Однако скрежещи не скрежещи, а деваться некуда – теще надо звонить. Ее все равно придется уговаривать, чтоб Таню взяла. А заодно и чтоб Элку уломала.
Не хотелось звонить – до ужаса… Кстати, чего ему так приспичил этот дом творчества? Отдохнуть надо – это точно. Но главное, что просто неловко уже перед Луговым… Чего ж ты, парень, тебе предлагают, а ты… Потапов набрал тещин телефон и, вспомнив старые-старые добрые времена, сказал:
– Здравствуйте, Антонина Ивановна! Точно, Саша… Ну, как здоровье у вас?..
Время подкатило к одиннадцати. А у него было на одиннадцать совещание, не официальное, а деловое, внутреннее, между своими. И Потапов занялся важным делом – учил уму-разуму подчиненных на основе своей последней командировки. И сам потихонечку тому же учился. В начале первого позвонил Луговой:
– Ну ты чего, Саш? Решил?
– Зайду к вам через полчаса, Сергей Николаевич.
За эти полчаса, он надеялся, теща позвонит и все будет так или иначе ясно. Позвонила, однако, Элка:
– Я повезу Танечку к маме, так что тебе придется поужинать одному.
Совершенно неясно было, почему, если человек в час дня отправляется к маме, к семи он не может вернуться домой. Ну да аллах с ней! И он положил трубку.
На кухне в половине второго
Однако не пришлось ему испытать печали и угрюмства одинокого ужина, а Элле не пришлось испытать справедливого и сладкого удовлетворения от железно рассчитанной мести. Потапов задержался в конторе и вместо положенных семи ушел в половине одиннадцатого.
«Совещательная дичь», «прозаседавшиеся» и так далее, что обычно говорится по этому поводу в фельетонной литературе, является на самом деле сущей ерундой. Совещание есть одна из важнейших форм жизни современного научно-промышленного предприятия. Кой-где это называется коллоквиумом, кой-где советом. Но в принципе все остается в тех же параметрах: «Товарищи, как вы знаете, сегодня нам предстоит решить следующие вопросы…» Садятся и решают… Говорильня? Ну, есть немного. Однако мы ведь не компьютеры – воспринимать одну сухую информацию, нам ее хоть малость нужно и эмоцией разбавить. Потапов как-то с секундомером в руках делал полушутливые замеры – хотел уличить некое совещание в болтовне (то было в пору его глубокой молодости).
И что же? От общего времени – от, кажется, трех часов – на всевозможный треп, стилистические фигуры и прочее ушло минут двадцать. Потапов, признаться, был тогда здорово удивлен столь высоким кпд. И больше к совещаниям не придирался. А со временем, пожалуй, и полюбил их. В этом стыдно было признаваться, и потому Потапов помалкивал о таких своих бюрократических рефлексах.
Они остались – самая головка, человек десять. А все уж давным-давно ушли: смотрели себе «Спартак» по телевизору, проверяли у ребят домашние задания. А эти десять сидели и прилежно работали!
Вот тебе и преимущества руководителя! Это все пулей мелькнуло в голове у Потапова во время одной из кратких минут отдыха, а лучше сказать – затишья, какие бывают на каждом совещании. Опытный заседательщик обязательно их уловит и сумеет использовать, чтоб улыбнуться самому себе, отгоняя усталость.
Впрочем, думая так, он не жаловался на судьбу. Он любил работать. Да и спешить сегодня было некуда. Ничего, кроме Элкиной мрачности, его не ждало. По всему по этому он заседал со вкусом, а не отбывая номер. Он был, в сущности говоря, еще совершенно молод, Потапов. Ему не стукнуло и сорока. В жизни его наступила та прекрасная пора, когда сил от юности еще осталось много, а закалившаяся воля помогает быть усидчивым… У немцев есть такое слово – «шпанунг», то есть общий подъем духовных сил. Вот это самое и переживал сейчас Потапов. И втайне от себя надеялся, что так будет вечно.
Или но крайней мере очень долго…
Но сейчас, в данную минуту, когда он стоял перед дверью своей квартиры, всякие воспоминания о шпанунге начисто его покинули. Он почувствовал себя перекурившимся, усталым, главное же – ожидающим справедливых Элкиных речей. Правда, была слабенькая надежда, что Элка уже спит, она иной раз, когда очень уж разозлится на него, напсихуется, ложится пораньше.
Тихо он открыл дверь, вошел в прихожую. В казенном и пыльном свете, падавшем с площадки, он увидел, что квартира пуста и темна. Потапов включил свет, стал раздеваться.
Собственно, слово «прихожая», оставшееся у него из детства, не особенно подходило для тесного загончика, где с одной стороны тебя подстерегала полупьяная вешалка, а с другой ванно-сортирная дверь, которая открывалась в самые неожиданные моменты, и человек туда буквально проваливался, как в западню.
Чаще всего этим человеком бывал Потапов, ибо телосложения он был весьма гвардейского.
Однако на этот раз он разделся вполне благополучно, потому что был старателен. И от этого успокоился. В одних носках, на цыпочках он прошел в так называемую большую комнату – она же столовая, гостиная, она же Танина игровая.
Прямо посредине стоял их походный чемодан, что называется, нескрываемых размеров и рядом еще маленький чемоданчик с дополнительными Элкиными нарядами. Оба они должны были сказать Потапову: смотри, гад такой, ты где-то и неизвестно что, а жена в это время работает как ломовая! И никто не ценит.
Потапов улыбнулся, поднял чемоданы, примерившись, каково ему будет завтра их нести. Нормально!.. Вот чего у Элки не отнимешь – аккуратистка. Потапов мог быть уверен: ничего не забыто, все уложено в потрясающем порядке и причем быстро.
Некоторое время он постоял у двери в их спальню. Даже почти услышал, как там посапывает Элка, уставшая от нервотрепки… Войти, что ли? Разбудить тихонько… Но не решился. Стоял с опущенной головой… Что же у нас случилось? Неужели только то, что мы живем вместе одиннадцать лет?
Он открыл бар – медленную скрипучую крышку (Элка: «Вот! Нету мужика-то в доме!»), осмотрел свои запасы.
Как-то диковато было пить одному… Или выпить? С устатку. Под отпуск, так сказать… Он закрыл бар, свет внутри погас. Нечего в самом деле! С ума сойти – пьянствовать в одиночку, за двадцать минут до полуночи.
Он отправился на кухню. Это тоже Элкино кровное: если б даже она застала его с любовницей или если б он, скажем, проиграл на бегах тринадцатую зарплату, получку и квартальную премию вместе взятые, то и в этом случае вечером, в любую полночь, за полночь, его бы ждал на кухонном столе холодный ужин.
Холодный ужин – тещина школа. Она, конечно, с тестем тоже горюшка попила. Военный человек, все у него дела да случаи – там вечеринка, там командировка…
Тут он остановил свою мысль, открутил ее на несколько метров назад. «Она с тестем тоже горюшка попила». А почему тоже? В смысле – как Элка со мной? Неужели и я сам так думаю?
Он откинул салфетку и обнаружил небольшой поднос, на котором с одной стороны лежал педантичнейшим образом нарезанный сыр, с другой – столь же аккуратные ломтики колбасы. А посредине продолговатый огурец и небольшая помидорина – как бы восклицательным знаком… И еще блюдечко с двумя ломтями хлеба.
Потапову вдруг припомнился его самолетный завтрак. Те же подносики, блюдца, шуршащие бумажки. И все уложено с тою же равнодушной заботливостью. Назло Элкиным правилам бонтона он начал есть стоя, руками брал сыр и колбасу…
О них всегда говорили: красивая пара. Да, красивая – оба высокие. Причем Элка не казалась массивной на его фоне. Они были именно прекрасной парой. Молодой ученый, мастер спорта. И его очаровательная жена.
А что? Скажешь, она была не очаровательная? Еще какая! Он просто-таки столбенел, когда ее видел. Лишь в самый первый момент Потапова царапнуло ее имя – Элла: слишком какое-то красивенькое, мещанское (но в ту пору он подобных терминов не употреблял). А после подумал: что за чушь, все имена равны!
Красота ее…
Красота. Что она с человеком делает – это уму непостижимо… Если б добавить ей к носу грамма три-четыре материала. Если б сделать разрез глаз всего на несколько миллиметров меньше. Если б цвет их был не с колдовским фиолетовым отливом, а какой-нибудь банальный, светло-голубенький там (ничтожнейшие добавки красителя!) – и все, не быть ей королевой, никогда не испытывать высшую власть над мужиками, ходить всю жизнь в добрых девках, а позднее в тетушках, что приносят твоим детям гостинцы.
Как странно, в самом деле. От какой, в сущности, чепухи зависит человеческая жизнь. Та самая, про которую столько стихов сложено и прочей «возвышенности»…
Но и красивых тоже много всякого подстерегает. Уж время твое ушло, а все она цепляется, все норовит румяна, и пудру, и тушь употреблять так, чтоб незаметно было, для чего ей это надо?..
Все молода-молода, все прекрасна, все нет тебе и двадцати пяти… Хотя этим все женщины так или иначе страдают. Но красивые, у которых красота и молодость будто бы особенно безграничны, эти и бьются о самые острые углы.
А бывает, что как Элка – замаринуются в себе, в подругах, в поклонниках, в компаниях столетней давности. И стерегут этот свой капитал. Без конца, без продыху ванны с какими-то там травами, маски клубничные… Здесь ему припомнились так называемые спортивные ветераны: мужик-здоровила, каких-то тридцать пять лет, работать бы ему как трактору, а он все за свой спорт держится, в какую-то вторую лигу лезет – лишь бы, лишь бы… Дурачье слабовольное… Так и Элка: скатилась во «вторую лигу». И сидит. И что дальше делать – неизвестно! Она ничего и не делает.
А ведь он тоже был красивый мужик… Он и сейчас недурен, Сан Саныч Потапов. И в баскетбол гонял по мастерам. Причем институт кончил не какой-нибудь – МИТХТ. Однако плюнул, остался играть. Перед распределением позвонил ему тренер:
– Ну, так куда тебя отправляют?
– В далекие края, на Арбат, – пошутил Потапов. Он был рад, что здесь ничуть ни от кого не зависел и мог диктовать свое.
Тренер молчал некоторое время, а Потапов улыбался, очень довольный собой.
– Короче говоря, так, – сказал тренер, – если хочешь играть в команде, я бы тебя взял. Условия тебе известны… Что скажешь?
Потапов намечал себе покочевряжиться, поразмышлять. Но вдруг согласился за одну минуту, на целых четыре года забросив все научные дела. Он любил игру. Вообще он был игрок по натуре… То есть так можно было бы сказать, если б это понятие – игрок по натуре – не имело застарело-отрицательного оттенка. И Потапов помалкивал об этих своих склонностях.
Четыре года… То странные были годочки, прекрасные. Тренировались тогда, конечно, не так, как сейчас. Правда, каждый день, но всего два часа – подумаешь, работа! А там, глядишь, ухитрялись зарулить в пивбар… Он ушел в самый разгар своей силы, ну или около того – в общем, всего себя для спорта далеко не растратив. Но он и не был, наверное, настоящим спортсменом, Потапов. Он только был игроком с хорошими для баскетбола данными.
Другие ребята из команды тоже почти все пооканчивали вузы – кто технические, кто педы, кто еще какие-нибудь, – они все остались в спорте, при баскетболе: тренерами, администраторами, один или два заседали по центральным советам. В принципе это естественно: раз в спорте чего-то добился, приобрел какой-то вес – двигай дальше.
Только Потапов резко сменил жизнь, пошел в эту вот самую контору, где просидел уже двенадцать лет. Пошел на простого инженера за сто целковых. И всего, что он сумел здесь добиться, он добился сам – своей работой, способностями, черт побери. А добился он немалого!
Вообще-то к вопросу о способностях стоило бы вернуться. Так подумал, улыбнувшись сам себе, Потапов… Он в это время сидел над развалинами холодного ужина, тяжело положив локти на стол. Да, о способностях. Он никогда не считал, что ему очень уж много дано. Он видел, что иные могут жить куда вольготней – им дано больше, более быстрый и более неожиданный мозг, а может, и просто более тяжелый по весу – впрочем, пока еще не совсем доказано, важно, чтоб он был у тебя тяжелым или нет.
Но Потапов не завидовал таким ребятам. Как особый талант он ценил свое умение работать. Вникать и работать до победы. И он знал, вернее имел возможность заметить за эти двенадцать лет, что работяги большего добиваются. Даже не только в смысле внешних показателей успеха: премий, должностей, а в смысле того, что ты дашь человечеству… Ну, при условии, конечно, что ты соревнуешься, скажем, не с Вавиловым и что ты действительно работяга… Так подумал Потапов, как бы кончая объяснение для самого себя.
Тут он заметил, что в кухне слишком накурено. Везде, где ему случалось посидеть час и более, становилось слишком накурено… Да и пора было спать.
Но прежде чем идти в ванную, он распахнул форточку – такой весною, таким мокрым снегом пахнуло с улицы… Спать надо, не высплюсь… А и не важно – пусть не высплюсь: отпуск-то уже начался! Вдруг ему послышался звон: динь-дили-дон-дили-дон… Это ни с чем нельзя было спутать – это были кремлевские часы. По радио у какого-то полуночника. Невольно он глянул на тикающий в уголке будильник – полвторого. Что такое? Значит, не по радио? Но и услышать настоящие куранты он тоже не мог, потому что жил на другом конце Москвы, километров за двадцать от Красной площади.
Что ж это такое?.. И не знал. Чудо, что ли? Может, в новорожденном весеннем воздухе далекий звон сумел промчаться двадцать километров, чтобы потом упасть в распахнутую форточку единственного во всем микрорайоне светившегося окна.
Потапову стало удивительно хорошо. И вспомнилось то ли детство, то ли ранняя юность, когда они жили в центре, между Маяковкой и площадью Пушкина. И он, так же вот засидевшись допоздна, открывал окно или фортку, и к нему прилетал перезвон курантов, и где-то за домами слышался бессонный шум улицы Горького…
Неожиданно он подумало Тане. Таню он не видел больше двух недель. И вот опять уезжает… Ну ничего, выберу денек, смотаюсь из этого творческого дома. Или ее с собой прихвачу…
Таня отчего-то припомнилась ему совсем маленькой, в первую весну своей жизни. Ей было лишь несколько месяцев, и врачиха сказала, что в июне или в конце мая, когда солнце достаточно разгорится, «девочке будет полезно принять несколько ультрафиолетовых ванн». Это была старая врачиха, сама она жила, быть может, последнюю свою весну. И оттого врачихины слова молодой Потапов слушал с чрезвычайным вниманием и серьезностью. Помнится, он тогда же на субботу и воскресенье притащил из лаборатории секундомер. Но по нервности не тот, какой нужно, не нормальный отмериватель секунд, а ненужно-особый, который ловил десятки и, кажется, даже сотки. Им почти никогда не пользовались. Он был опальный и оттого чуть заржавленный, как, наверное, ржавел бы скальпель в дружной компании кухонных ножей.
И вот Потапов с этим чудо-секундомером в руках ждал, когда Элка вынесет голенькую Таньку в сад, чтобы положить ее на ковер, покрытый простыней.
Они оба слегка нервничали, но были счастливы. Но при этом – как теперь понимал Потапов – из бурного моря любви уже выплывали в гавань, название которой Семейные отношения… Или я что-то не то… Он аккуратно свалил пепел на край тарелки с бывшим холодным ужином…
А Таня была в ту пору удивительно вся ровненькая, не худая, не толстая. И только с перевязками на запястьях и на лодыжках, какие бывают у грудных детей.
И еще она была абсолютно белобрысая. При Элкиной каштановости, при его собственных почти черных волосах это казалось странным и будило в Потапове какую-то дремучую тревогу. Хотя он знал-точно, что Элка – это крепость. Да и она его любила! Как, впрочем, и он ее. А корабль их вплывал в ту самую гавань…
Элка положил Танечку на ковер, и та лежала на животе с совершенно бессмысленной и счастливой мордахой среди огромных, словно бы чуть расплюснутых, о пространство одуванчиков, среди облитой миллионами люкс свежей и сильной травы. И Потапов никогда не испытывал наслаждения более возвышенного и более простого, чем это… Никогда – ни раньше, ни потом.
Элка тронула его за руку, в которой колотился сорвавшийся с цепи секундомер. Да – было уже пора уносить Таню в тенек.
Потапов остановил сумасшедшую стрелку – словно хотел перед кем-то оправдаться: мол, вот, не больше, чем доктор велела. И потом тихо попросил:
– Давай еще немножечко!
Элка кивнула, и так они стояли над дочерью своей эти последние короткие секунды чистейшего счастья.
Потом он сам поднял Таню, всю пригретую солнцем, и понес в комнату.
Успокоенный этим чудесным воспоминанием, Потапов тихо пошел в ванную, заставил, а вернее попросил себя умыться, потому что от умиротворения его вдруг ужасно потянуло в сон. Потом он вернулся в большую комнату, где ему сегодня было постелено в знак презрения. Он разделся уже, что называется, вслепую, роняя штаны, пиджак и рубашку куда-то в небытие. «Я с ней обязательно повидаюсь, понимаешь?» – говорил он то ли себе, то ли Элке. Но это было уже во сне.