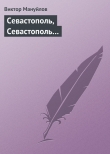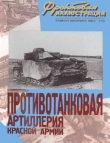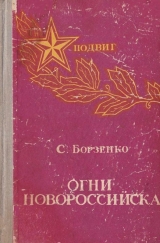
Текст книги "Огни Новороссийска (Повести, рассказы, очерки)"
Автор книги: Сергей Борзенко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Сергей Борзенко
ОГНИ НОВОРОССИЙСКА
Повести, рассказы, очерки



ПРЕДИСЛОВИЕ
Серия книг библиотеки «Подвиг» – литературно-художественной летописи героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны – пополняется однотомником публицистических произведений Сергея Александровича Борзенко «Огни Новороссийска».
Войну, боевые действия крупных соединений и тактических подразделений, духовный мир бойцов и командиров Сергей Борзенко выписывает реальными красками, в строгой последовательности событий Отечественной войны, суровость которой испытал на себе во многих сражениях. Он непосредственный участник вооруженной борьбы с гитлеровскими войсками с июня 1941 года по май 1945 года.
На стол читателя ложится книга, каждая страница, каждая строка которой и сейчас, спустя тридцать лет после окончания войны, дышит огнем боевых сражений на южном фронте, на Кубани, на Карпатах, в Румынии, затем в Польше и в Берлине. Это дыхание ощущается в авторском взгляде на багряное небо горького лета 1941 года, в кладке фраз о конногвардейцах, в энергии слов, добытых в боях за аванпосты перед кавказскими горами, в ритме повествования о преодолении смерти и о пехоте за облаками, в нежных раздумьях о юной вдовушке, в пылких и страстных умозаключениях воина – победителя в Берлине. Пыльные дороги войны, холод и сырость в солдатских окопах, удушающий чад тротила, лязг танковых гусениц и пальба орудий при штурме укрепленных узлов врага – все передается автором с достоверностью и яркостью.
Человек решительного характера, светлой мечты, красивый, стройный и удивительно застенчивый в общении с друзьями – таким встает перед читателями автор книги «Огни Новороссийска» Сергей Борзенко. Таким он остался в памяти его сверстников – друзей по боевым делам и по журналистской работе, по общениям в писательских кругах.
Родился Сергей Александрович Борзенко 3-го июля 1909 года в Харькове. Отец был ветеринарным фельдшером, мать – учительница начальной школы. Семья распалась рано. Сама жизнь и действительность той поры с юных лет готовила его к трудовому и ратному подвигу. В пятнадцать лет он остался сиротой. После окончания семилетки пошел в фабзавуч, приобрел специальность слесаря и электромонтера, работал на харьковских заводах «Свет шахтера», «Серп и молот», в трамвайном депо. Без отрыва от производства учился в электротехническом институте на вечернем факультете. Тогда же успевал выступать с заметками в заводских многотиражках. Этого не могла не заметить общественность, литературные круги Харькова. Борзенко был взят на постоянную работу в областную газету разъездным корреспондентом. Молодой журналист полюбил свою новую работу. Поиск энергичного слова стал постоянной нагрузкой его пытливого ума. В годы первых пятилеток не было, пожалуй, на Украине такого нового завода или стройки, на которых не побывал Сергей Борзенко.
В первые же дни Великой Отечественной войны Сергей Борзенко выезжает на фронт корреспондентом армейской газеты «Знамя Родины». Свои впечатления и суждения о начале войны он раскрывает в повести «Горькое лето». В конце этой повести Сергей Борзенко пишет: «Ночью я подошел к Днепру, как всегда, гордому и величавому, сел под кустом плакучей ивы, посмотрел на высокий, недавно оставленный берег и впервые за последние двадцать лет заплакал.
Сколько я так просидел, не знаю, только к моим ногам стала прибывать вода, и показалось мне, что все слезы украинского народа хлынули со веек городов и сел в могучую реку.
Мимо, позванивая шпорами, прошли два артиллериста. Колючий ветер, настоянный на горькой ивовой коре, донес обрывок фразы:
– Взорвали днепровскую плотину.
Стало нестерпимо горько и тяжело».
О том, что у Сергея Борзенко было храброе сердце и решительный характер, хорошо раскрывается в очерке «Пятьдесят строк». Речь идет о высадке десанта через Керченский пролив на крымскую землю. О ходе этой операции Сергей Борзенко дал корреспонденцию, которая убедила командование фронтом в том, что десантные батальоны зацепились за крымский берег и ведут бои. До этого момента ни штаб армии, ни штаб фронта не имели точных данных и перед ними встала проблема – как докладывать в Ставку о ходе операции. Радиосвязь с десантниками была нарушена, однако корреспондент сумел найти пути для передачи сведений.
Было это так:
«На берегу, скользком от крови, корреспондент палил из автомата, бросал гранаты, дело дошло до пистолетной стрельбы, затем, вспомнив, что его задача – написать пятьдесят строк, с нетерпением ожидаемых в редакции, забежал в горящий дом и при свете пылающей крыши на разноцветных листках какой-то немецкой квитанционной книжки, попавшейся под руку, написал заметку „Наши войска ворвались в Крым“ Он написал все, что увидел в бою, назвал фамилии двенадцати матросов, храбро сражавшихся рядом с ним. Заметку завернул в тонкую противоипритную палатку, чтобы бумага не размокла в воде, отдал связному, и тот увез ее на последнем мотоботе, отчалившем на Тамань».
В наградном листе о подвиге Сергея Александровича Борзенко той поры сказано:
«В ночь на 1-ое ноября 1943 года писатель армейской газеты „Знамя Родины“ майор С. А. Борзенко высадился с десантом 318-й Новороссийской стрелковой дивизии на крымской земле. В силу сложившейся обстановки ему пришлось руководить боем. Вместе с офицерами и солдатами С. Борзенко отбивал гранатами танки противника, которым удалось прорваться на 100 метров к командному пункту. Были дни, когда бойцам приходилось отражать контратаки противника по 17–19 раз, и всегда вместе с ними находился писатель С. Борзенко». Он был в отряде особого назначения, действовавшего в тылу врага, более шести месяцев жил в огне на «Малой земле», участвовал в штурме Новороссийска.
17-го ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сергею Александровичу Борзенко присвоено звание Героя Советского Союза.
Тридцать лет спустя, в день вручения городу-герою Новороссийску ордена Ленина и «Золотой Звезды» Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в своей взволнованной речи о героических защитниках Новороссийска сказал: «Своим боевым, страстным словом сражались с врагом писатели и журналисты Сергей Борзенко, Павел Коган, Анатолий Луначарский и многие другие».
Он был одним из первых писателей и журналистов, вернувшихся после войны к мирной жизни с «Золотой Звездой» героя на груди. Но мирная жизнь для Сергея Александровича отнюдь не означала творческий покой и сбор лавров боевой славы. Работая корреспондентом «Правды», он публикует очерки из Югославии, Индии, Италии, Египта, Сирии, Ливана, Англии и других стран. Вынашивает замысел многотомного романа «Какой простор!» и приступает к его осуществлению. Разразившаяся корейско-американская война в начале пятидесятых годов отрывает его от работы над романом. Он едет в Корею. Фронтовая командировка продолжается два года.
После возвращения из Кореи, Сергей Борзенко публикует первую книгу романа «Какой простор!», затем вторую.
Началась космическая эра. Его захватывают героические подвиги советских космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андриана Николаева, Павла Поповича, Валентины Терешковой, Владимира Комарова, Павла Беляева, Алексея Леонова. Отложив работу над третьей и четвертой книгой романа «Какой простор!», Сергей Александрович изучает жизнь и быт космонавтов, помогает им в создании книг, которые выходят массовыми тиражами в нашей стране и за рубежом.
И снова в мире неспокойно. В дни чехословацких событий Сергей Борзенко передает оттуда репортажи и очерки, в которых с гневом разоблачает всю сущность антипартийных прокламаций и злобных действий организаторов контрреволюционного путча.
Всегда быть на переднем крае борьбы за высокие идеалы Коммунистической партии, за честь и независимость Родины, за свободу угнетенных народов – таков девиз его боевой писательской жизни, которая прервалась 19-го февраля 1972 года. Но добрая память о Сергее Александровиче Борзенко живет и будет жить долго. Свидетельство тому яркие, набирающие все большую силу произведения, включенные в однотомник «Огни Новороссийска». Слово, добытое в огне сражений, не увядает, не тускнеет. Время не властно над ним.
ИВАН ПАДЕРИН.
ГОРЬКОЕ ЛЕТО
Воскресенье – теплый день, редкий в холодное, дождливое лето 1941 года. Все ожило под солнцем.
Я гулял по Сумской улице и вдруг увидел, как через огромную площадь побежал человек. Он мчался, вопреки правилам уличного движения, к горсовету, к громкоговорителю, под которым стоял сияющий белоснежным кителем милиционер.
Милиционер резко, негодующе свистнул, но, увидев, что к горсовету со всех сторон бегут люди, оборвал свист, поднял руку в белой перчатке и нерешительно спрятал ее за спину. Возмущенное лицо его стало растерянным, и снисходительная улыбка застыла на губах.
Я присоединился к толпе, не понимая, что случилось. Спросил, что произошло?
– Германские войска, не объявляя войны, перешли советскую границу, утром бомбили Киев и Севастополь.
– Значит, война?
– Да, война, – ответили сразу несколько мужчин, по-солдатски поправляя ремни.
И хотя внутренне я был готов к этому, известие потрясло. Гроза, столь долго и настойчиво собиравшаяся у наших границ, разразилась.
Передача окончилась, и в рупорах громкоговорителей зазвучала бравурная музыка, – до поздней ночи она гремела над городом. Народ собирался группами и не расходился по домам. Лица у всех были серьезны. То страшное и неизбежное, о чем еще предупреждал Ленин, к чему ежедневно готовилась вся страна, свершилось. Где-то уже дрались и умирали. В ушах звучали слова правительственного сообщения: «Наше дело правое… Враг будет разбит… Победа будет за нами…»
Я пошел в редакцию окружной военной газеты «Ворошиловец». Там подбирали штат полевой армейской газеты. Я получил военную форму, вернулся домой и увидел на столе повестку военкомата. На столе лежали книги, папка с рукописями, главы недописанного романа.
Хотелось попрощаться с рукописями, потрогать их, кое-что прочесть, но свет нельзя было зажигать. По улице, зажимая в зубах свистки, ходили серьезные дворники, дежурили домашние хозяйки, высматривая среди черных драпировок узкие полоски света.
Я зашел к себе на работу – в редакцию газеты «Соціалістична Харківщина», застал там сотрудницу редакции Мусю Гречко. Вместе с ней я весь вечер бродил по улицам – прощался с родным городом. Мы были у стадиона «Зенит», где я играл в футбол и хоккей, были у Электротехнического института, где учился, прошлись по харьковской набережной, возле тридцатой школы-семилетки, в стенах которой прошло мое детство, были на Петенке – милой, родной улице, где я родился, учился в фабзавуче трамвайных мастерских и работал слесарем в депо.
Все эти, такие знакомые и привычные места вдруг вызвали много милых воспоминаний, будто я видел их в первый и последний раз.
– Я хочу помочь вам, – сказала Муся.
– Мне?
– Армии – вы ведь сейчас частица армии. – Девушка немного подумала. – Я знаю, как помочь, я запишусь в доноры и буду отдавать свою кровь раненым. Правда, это будет продолжаться недолго. Секретарь партийного комитета говорил на собрании, что через месяц наши войска будут в Берлине.
– Его бы устами да мед пить.
Расстались мы на углу Барачного переулка и улицы профессора Тринклера. Муся перешла на левый тротуар, я остался на правом. Между нами прошел затемненный трамвайный вагон, все окна его были замазаны густой синей краской. Разве мог я думать тогда, что в здании больницы, у стен которой попрощался с Мусей, фашисты сожгут живьем восемьсот раненых пленных красноармейцев. Я не представлял себе всех этих ужасов и о современной войне имел представление лишь по романам Эрнеста Хемингуэя.
Вернулся домой в час ночи, бросился в постель, но до утра не мог сомкнуть глаз. Странные видения, сменяя друг друга, проходили перед моими глазами. То я видел себя во главе роты, атакующей позиции фашистов, то ко мне, раненому, подходил герой гражданской войны Буденный и прикалывал к моей окровавленной гимнастерке медаль «За отвагу». Я слышал чугунный топот бегущих фашистских полков, преследуемых красноармейцами; видел пылающий, превращенный в каменоломню Берлин, чувствовал крепкий запах сосны, исходивший от виселицы, под которую под руки подводили дрожащего от страха Гитлера.
Отъезд редакции назначили на десять часов следующего дня. Надо было очень многое сделать. Но времени было мало, и я успел только попрощаться с товарищами по работе.
В этот памятный час сотни тысяч мужчин прощались с женами и матерями, с невестами и друзьями. Провожал меня на вокзал Игорь Лакиза – милый юноша, с которым мы частенько во дворе дома «Слово» гоняли футбольный мяч. Не знал я тогда, что в апреле 1944 года увижу в Черновицах его могилу.
Нас везли в грузовике на Балашовский вокзал. Незнакомые люди приветственно махали руками, бросали в машину цветы. Харьков продолжал жить напряженной жизнью. В скверах женщины и подростки рыли щели. Все стекла в окнах домов уже были перекрещены бумажными полосами. По проспекту Сталина, ломая асфальт, громыхали легкие танки Т-60.
Через час мы сидели в товарном вагоне эшелона, в котором штаб нашей армии направлялся на фронт. В тупике на станции стоял эшелон цистерн с бензином, направлявшийся на запад и задержанный вчера в Харькове. В штате армейской редакции находились харьковские журналисты и писатели: Иван Шутов, Михаил Ройд, Павло Байдебура, Владимир Гавриленко, Виктор Токарев, Владимир Сарнацкий. С некоторыми из них я работал в газете «Соціалістична Харківщина» и почти со всеми дружил. Грузный Гавриленко не смог найти бриджей по своему размеру и едет в белых полотняных штанах, стараясь не попадаться на глаза начальству. Он наивно верит, что это последняя война.
Наконец наш длинный эшелон с автомашинами на площадках и людьми в классных и товарных вагонах тронулся в свой далекий путь. Люди бросились к дверям и окнам вагонов, провожая взглядом родной город…
– Как красив Харьков, а я до сих пор и не замечала его красоты, – сказала Нина Зикеева – девятнадцатилетняя студентка Медицинского института, зачисленная в состав редакции красноармейцем на должность корректора.
Поезд отдалялся от Харькова. Проехали Новоселовский бор. Ели долго махали ветвями, словно напутствуя людей, едущих защищать родную землю. Многие из нас раньше купались здесь в реке, протекающей мимо бора, отдыхали на шелковой траве, рвали цветы.
«Прощай, родной город! Я вернусь к тебе или героем, или не вернусь совсем», – так думал каждый, отправляясь на фронт.
Паровоз набирал скорость, проезжая станции без остановок.
В вагонах, двери которых были широко раскрыты, пели украинские песни. Мимо летели колхозные поля, и девушки в белых платках, провожая в армию своих близких, подпевали нам на полустанках. Эшелон встречали и провожали песней.
Вечером остановились в затемненной Полтаве. Нам сказали, что днем немецкий самолет обстрелял рабочий поезд. Есть раненые и убитые. Фашисты начали войну с гражданским населением.
В дороге выдали противогазы и индивидуальные пакеты, которые могут пригодиться каждую минуту. В Полтаве к составу прицепили платформу с зенитными пулеметами, и зенитчики дважды за ночь отгоняли назойливый самолет, ухитрившийся все же продырявить наш вагон. Горячее дыхание войны коснулось нас. Товарищи в своих блокнотах сделали пометки о первом боевом крещении.
– Отец мой воевал четыре года, теперь мне придется четыре года таскаться по окопам, – говорю я.
Через два часа меня вызывают в отдел.
– Так сколько будет длиться война, Аксенов? – спрашивает меня совсем еще юный старший офицер с двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке.
– Четыре года…
– Ты с ума сошел… Через месяц мы будем в Берлине.
– Пожалуй, вы правы – через месяц мы будем в Берлине.
– То-то же. Можешь идти, и впредь не болтай глупостей.
Я возвращаюсь в вагон и говорю:
– Через месяц мы будем в Берлине…
– В Берлине мы будем через две недели, – поправляет меня секретарь редакции Володя Сарнацкий. – Мы раздавим Гитлера, как вонючего клопа.
Я иного мнения о сроках. Я знаю, что за шесть недель, к 28 мая 1940 года, немецкие войска разгромили «непобедимую» французскую армию, вывели из строя Голландию и Бельгию и на французском побережье у Дюнкерка сбросили английскую армию в море. За шесть недель Гитлер стал хозяином всей Европы, от Ла-Манша до советских границ. И хотя я все это знаю, я говорю:
– Через две недели мы будем в Берлине.
Штабной эшелон пропускали вне очереди на всех станциях, но чем дальше мы отдалялись от Харькова, тем двигались все медленнее среди бесчисленных воинских поездов. Так узкая река умеряет свой стремительный бег, вливаясь в широкое русло. Как было бы хорошо, если бы все эти войска к началу войны оказались на границе.
На одной из станций видели диверсанта, сброшенного с самолета на парашюте. Он был одет в советскую военную форму, носил в петлицах ромб и орден Ленина на гимнастерке, в карманах у него нашли порошки стрихнина и маленькие гранаты. Он попался на пустяке – отвечая на приветствие красноармейца, поднял два пальца к фуражке. Через два часа его расстреляли. Он заслужил этот конец по законам военного времени. Перед казнью диверсант пытался целовать сапоги красноармейцев, плакал и молил подарить ему жизнь.
Поезд уходил все дальше, блуждая какими-то окольными путями, задерживаясь на неизвестных станциях. Ехали на юго-запад, но точного маршрута никто не знал. Кто-то из командиров одолжил мне только что поступившую в продажу книгу Стейнбека «Гроздья гнева», и я всю дорогу читал.
Ехали мимо неоглядных колхозных массивов дозревающей ржи. Среди высоких колосьев, словно брызги крови, алели маки. Я вспомнил Мусю Гречко, подарившую мне на прощание букет цветов, хотелось ей написать о первых впечатлениях, но письма пока запретили писать. Наша часть еще не имела номера полевой почты.
– За все годы Советской власти не было такого обильного урожая, какой вымахал этим летом, – сказал мой сосед по вагону офицер авиации Бондарь. В его словах прозвучала нотка грусти, ведь не известно, удастся ли собрать этот урожай.
Мы разговорились.
Бондарь был сыном колхозника Близнецовского района. Его отец за успехи в выращивании подсолнечника был награжден Главвыставкомом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки серебряной медалью. Старший лейтенант вместе с отцом ездил на выставку в Москву.
– Сволочь Гитлер начал войну накануне уборки урожая, – ругался старший лейтенант. – А я-то собирался приехать домой на жнива, поработать на комбайне. До авиационного училища работал я помощником комбайнера.
На третьи сутки встретили в пути первый эшелон беженцев, он промелькнул мимо безмолвный, как тень. Беженцы ехали в товарных вагонах и на открытых платформах, везли велосипеды, подушки, корыта и прочий домашний скарб. Это уезжали из Западной Украины многие семьи, направлявшиеся в тыл.
Мы обгоняли составы, груженные автомашинами, танками, орудиями, закрытые толстым брезентом, – все это неудержимо стремилось к фронту. Паровозы меняли за несколько минут. Кто-то нас усиленно подгонял.
Проехали несколько станций, разрушенных немецкими самолетами, три раза делали короткие остановки в пути, ожидая, пока починят разбитую бомбами железнодорожную колею.
На станции Каменец-Подольск, которую немцы также бомбили, встретили первый санитарный поезд. Окна в пассажирских вагонах, отмеченных красными крестами, были завешены белыми занавесками. Поезд, пахнувший медикаментами, быстро прошел мимо.
В Каменец-Подольске штаб армии, а вместе с ним и редакция выгрузились из вагонов и дальше двинулись автомашинами. На окраине города, в лесу, разбили палатки, установили типографские машины. Для выпуска газеты нужен был боевой материал. Надо было ехать на фронт.
Вечером Нина Зикеева расплела свои чудные косы, покорно наклонила голову, отягченную волной каштановых волос. К ней со сверкающими ножницами в руках приблизился сотрудник редакции Давид Вишневский. Это было похоже на средневековую казнь.
– Остановитесь! – закричал я. И, употребив все свое красноречие, спас две роскошных косы, о которых потом на фронте было написано несколько хороших стихотворений.
…Сотрудники редакции рыли у палаток щели, когда над садом появились немецкие бомбардировщики. Их узнали по характерному звуку, тонким и длинным хвостам. Безобразно некрасивые, сотрясая воздух зловещим гулом, они проплыли вверху и безнаказанно развернулись над притихшим городом.
С огромной высоты один за другим семь самолетов пикировали вниз. От каждого отрывалось по три черных капли, сразу же исчезавшие в воздухе. Тотчас глухие взрывы потрясали землю.
– Малокалиберные бомбы, – говорит Гавриленко.
«Если это малокалиберные, то каковы крупнокалиберные?» – думаю я.
Из редакции в город ушел украинский писатель Павло Байдебура. У него было задание – пойти в госпиталь и написать там заметку. Редакционные девушки не без беспокойства проводили его.
Стучали зенитные пулеметы. Стреляли зенитные пушки. Вокруг вражеских самолетов вспыхивали маленькие облачка разрывов, будто раскрывались коробочки хлопка. Все гремело вокруг. Червивые яблоки падали с яблонь на землю.
– Где же наши соколики? – спрашивала Нина Зикеева, и слезы звенели в ее милом грудном голосе.
Сбросив бомбы, бомбардировщики возвращались, разрезая воздух гулом моторов. И вдруг из-за высоких деревьев, словно луч света, вырвалась стайка краснозвездных «ястребков».
Они смело бросились наперерез врагам, но бомбардировщики не уклонились от курса, готовые принять бой. «Ястребки» ринулись в атаку. Не нарушая строя, фашисты встретили их пушечным и пулеметным огнем. Видно было, как из пулеметов вырывалось пламя.
Советские летчики отвернули в сторону и попытались зайти бомбардировщикам в хвост, но и этот маневр не удался. И вдруг в небе появился двухкрылый самолет, светлый, как на картинке. Он один летел наперерез семерке врагов. Его встретили огнем. Но самолет приближался к головному фашистскому бомбардировщику. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Флагманский бомбардировщик резко свернул вправо, в то же мгновение наш самолетик врезался ему в бок. Оба, большой и маленький, самолеты загорелись и комком пламени и черного дыма рухнули вниз. То был новый прием воздушного боя – таран, не применяемый ни одной армией мира. Впервые его испытал на немцах 26 августа 1914 года волжанин Петр Нестеров, потом повторил француз Пегу, а теперь снова возродили советские летчики.
Из огня и дыма вырвалась белая точка, и через минуту в воздухе повис белый парашют, а через мгновение еще два цветных.
Увлеченные плавным полетом парашютистов, мы и не заметили, что в воздухе произошла резкая перемена. Лишившись своего вожака, немецкие летчики растерялись, а наши загорелись жаждой подвига и с новой энергией накинулись на врагов.
Одна за другой на землю свалились, охваченные пламенем, две германские машины.
Бой кончился, и меня с Лифшицем послали на аэродром, находившийся невдалеке. Герой, сбивший головной бомбардировщик врага, был жив. Об этом сказал мне первый попавшийся на аэродроме красноармеец. Когда наш летчик спускался на парашюте, немецкий самолет спланировал к нему и, дав очередь из пулемета, прострелил ему ногу.
Я пошел к раненому. Он лежал в домике на походной койке, по пояс накрытый синей шинелью. Перевязку ему уже сделали, и вокруг него толпились товарищи. Я подошел ближе и, хотя начинало темнеть, узнал обожженное морозом и солнцем лицо человека, дравшегося под хмурыми облаками Финляндии. То был Иван Бондарь – летчик, недавно в вагоне читавший мне стихи Руставели в переводе Миколы Бажана и говоривший о мастерстве своего отца – рядового колхозника.
– Здравствуй, редактор, – сказал Бондарь, увидев меня, и, передохнув немного, спросил: – Ну, видел?
– Видел!
– Так вот, – старший лейтенант вытащил из полевой сумки миниатюрную фотографию, подал мне. – Знакомься… моя жена. Напиши ей то, что видел… – он помолчал немного. – Надо было подойти снизу и рубить пропеллером стабилизатор и руль поворота. Таким манером можно было спасти свою машину.
В углу комнаты заговорили по-немецки. Я посмотрел туда и увидел двух пленных немецких летчиков – рыжего и шатена. Рыжему было лет сорок, на груди его висел «железный крест» – черная фибра в серебряном ободке с роковой для фашистов цифрой «1941».
Пленные сидели на деревянной скамье, рядом с охранявшими их красноармейцами. Подъехал легковой автомобиль, и в комнату вошел командир стрелкового корпуса – генерал-майор Галанин. Все встали, кроме фашистов. Один из красноармейцев крикнул:
– Ты почему не приветствуешь советского генерала?! – и замахнулся на гитлеровца.
Второй фашист, хотя и не понимал русского языка, вскочил и отдал честь.
Генерал улыбнулся.
– Грубо, конечно, но получилось от души.
Рыжий летчик в погонах майора производил неприятное впечатление. Высокий, с огненной окладистой бородой – ни дать ни взять император крестоносцев Фридрих Барбаросса. Понимая, что плохая роль должна быть хорошо сыграна, он заявил:
– Скоро мы поставим вас на колени. Фюрер требует – в полтора-два месяца дойти до Урала.
С военной прямотой он отдал должное своему победителю и заметил, что таких летчиков, как Бондарь, в Германии мало, ибо его – Штрауха – газетчики расписали как одного из лучших асов Третьей империи.
Лифшиц перевел генералу слова фашиста.
В сумке Штрауха нашли книгу в коричневом переплете «Миф XX столетия», написанную Альфредом Розенбергом, густо исчерканную красным карандашом. Книгу не только читали, ее изучали. Лифшиц перевел на русский язык цитату из Гитлера, приводимую Розенбергом: «Нужно уничтожить двадцать миллионов людей… Начиная с настоящего времени это будет одна из основных задач германской политики… В прошлые времена за победителем признавали полное право истреблять племена и целые народы».
Переводчиков не оказалось, и генерал Галанин попросил Лифшица помочь ему допросить пленных летчиков.
– Скажи им, что мне известно, что к началу войны их командование сосредоточило на южном направлении группу армий «Юг». Шестая, семнадцатая армии и первая танковая группа развернулись на фронте Влодава, Холм, Перемышль, а одиннадцатая немецкая армия, третья и четвертая румынские армии на рубеже рек Прут и Дунай; венгерский корпус стоял на границе СССР с Венгрией и Словакией. Меня интересует план фашистского наступления.
– План? Это ни для кого не секрет. Наш отдел пропаганды будет сообщать вам этот план ежедневно, мы готовы сбрасывать вашим окруженным частям листовки, на которых будем указывать названия наших частей, сжимающих кольцо…
– Ближе к делу, – потребовал Галанин.
– План наступления состоит в том, чтобы ударом шестой армии и первой танковой группы в направлении Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Киев прорвать оборону советских войск, в несколько дней овладеть Киевом, форсировать Днепр и, развивая в дальнейшем наступление на юго-восток от Киева, окружить и уничтожить советские войска, находившиеся западнее Днепра, – вызывающе ответил рыжебородый майор.
– Что Гитлер намеревается предпринять на нашем участке фронта? – нетерпеливо спросил генерал Галанин.
– Войска, сосредоточенные в Румынии, перейдя в наступление с рубежа реки Прут в направлении Могилев-Подольский, Жмеринка, должны на первом этапе содействовать главным силам группы армий «Юг» в окружении и уничтожении советских войск в Западной Украине.
– Вот это то, что нам надо знать, – сказал генерал, сел в машину и уехал.
Пообещав Бондарю написать его жене, мы с Лифшицем отправились в редакцию. Туда уже вернулся Павло Байдебура. Он был в госпитале, когда началась бомбежка города. Писатель вышел на крыльцо, к которому на подводах подвезли первых раненых.
– Товарищ, помоги, – попросил его раненый.
Байдебура взял человека за ноги, а они отвалились, повисли на каких-то жилах. Но он все же внес его в операционную, в которой хирурги старательно мыли руки.
Потом Байдебура внес маленькую девочку. Ей было лет восемь. В детских расширенных глазах застыл ужас, но она не плакала и не стонала, оправляя ручонкой платье, мокрое и красное от крови. Рядом стояла ее мать, еще молодая женщина. Лицо ее было перекошено страданием. Она сказала:
– Хорошо хоть не в красноармейцев попало.
За исключением двух бойцов, все раненые и убитые были мирными жителями.
…Нашу газету назвали «Знамя Родины». Пора было ее печатать. Походная типография оборудована по всем правилам, красноармейцы-наборщики ждут материал.
В редакцию приехал начальник политотдела армии – полковой комиссар Петр Петрович Миркин, собрал всех сотрудников, объяснил обстановку на нашем участке фронта.
– Надо ехать, товарищи, в части, знакомиться с народом, описывать подвиги красноармейцев. – Миркин встал из-под дуба, под которым сидел на складном стуле, пожелал нам успехов, добавил: – Человека можно узнать только в бою… Поведение в бою – самая лучшая анкета, правдиво отвечающая на все вопросы.
Сарнацкий роздал нам карты Румынии, но ни у кого в редакции нет карты Украины.
В тот же день я, Шутов, Головин и Гавура вместе с работниками политуправления Южного фронта, приехавшими к нам в армию, отправились в Черновицы, в штаб 17-го корпуса. В нашей редакции оказалось трое Лифшицев; чтобы не было путаницы, они сами себя в шутку пронумеровали. С нами поехал Лифшиц третий – хороший газетчик и смелый парень.
Проехали Каменец-Подольск. Центр города разрушен бомбами. Осколок перебил водопроводную трубу, и вода выливается из нее, как кровь. На улицах обломки домов и утвари. В разбитых витринах магазинов валяются товары, лежат покрытые пылью флаконы духов, книги. На сломанный тополь залетел помятый медный самовар, на тротуаре, закатив глаза, лежит кукла с оторванными ногами. Легкий ветерок листает томик Гете, забрызганный грязью.
Оставшиеся в городе жители испуганно жмутся к домам, и только регулировщик движения – молодой красноармеец стоит на перекрестке улиц и энергично работает белым и красным флагами. Он не уходит, когда бомбардировщики сбрасывают над городом бомбы. Преодолевая в себе страх, стоять под пулеметным огнем с самолета, не обращая внимания на него, – это стоит многого.
Каменец-Подольск красив, в особенности его старинная часть с высоким Турецким мостом и древней крепостью, покрытой зеленым мохом.
Путь дальше лежал через Хотин. Перед нашим въездом в него городок бомбили. Тяжелая бомба разорвалась в родильном доме. Матери и младенцы погибли в груде пыльных развалин. В живых остался лишь главный врач. Говорят, он был брюнет, а выбрался из-под обломков совершенно седым.