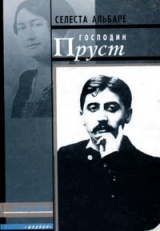
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
И каждый раз все это почти в точности повторялось, когда г-н Пруст возвращался с вечера, где был Кокто, – два или три раза он даже позволил ему отвести себя к «Быку на крыше», модное тогда артистическое кабаре.
– Хоть это и фешенебельное мясо, – говорил он, – но оно не стоит телятины нашей Фелиции. Там я совсем не на своем месте.
Помню еще его слова после вечера у княгини Мюрат, вышедшей за посла в Италии, графа Шанбрена.
– Это одна из самых умных и тонких женщин, и отнюдь не потому, что она хвалит мои книги. Но ее первый муж был русским, и она почему-то считает необходимым во всем подражать славянам, от душевных переживаний и до высоких ботинок на шнуровке.
Была еще и г-жа Шейкевич, с ней он очень любил разговаривать о русской литературе, особенно о Достоевском, которого только что стал читать. Это было в Кабуре, еще в первые годы века. Он говорил:
Вот странная женщина. Прожигает свою жизнь ради Удовольствия устраивать приемы, на которые у нее совсем нет денег. И что за необычная судьба! Когда-то ее мужем был сын художника Каролюса-Дюрана. От этого брака она чуть не покончила с собой, но сначала пошла за советом к нашей общей близкой приятельнице госпоже Арман де Кэллаве, которая была последней утехой Анатоля Франса и притом страшно ревнивой. Как раз перед тем она тоже хотела свести счеты с жизнью, потому что во время путешествия по Америке Анатоль Франс изменял ей с какой-то балеринкой. Она была настолько подозрительна, что Франса выслеживал ее дворецкий, который приносил ей чуть ли не письменные отчеты. Обезумев от ревности, она выстрелила в себя, но револьвер осекся. Так что сами понимаете... Бедная Мари Шейкевич просила у нее совета, каким образом лучше всего промахнуться!..
Рассказывал он мне и еще об одном вечере с ней в ресторане на улице Дону:
– У нее на шее была белая лиса, и она весь вечер гладила мое лицо ее хвостом, приговаривая: «Ах, Марсель, как я вас люблю!»
Он смеялся, потом вдруг погрустнел:
– Это просто ужасно, Селеста! Бедняжка сделалась совершенной развалиной. И тем хуже для нее, что прежде она считала себя красавицей с идеальной фигурой. Например, она могла во всеуслышание сказать: «У меня все натуральное. Видите мои зубы? Они мои собственные!»
В другой раз он пригласил ее вместе с другими знакомыми в «Риц».
– Представляете, Селеста? Она вдруг распустила волосы, да еще уселась на пол, чтобы всем было удобнее ею любоваться! Я просто не знал, что мне делать.
Но подобные ситуации, в сущности, забавляли его, он всегда хоть что-нибудь извлекал из них для себя. Когда я сказала ему о госпоже Шейкевич: «Сударь, да ведь она просто артистка», – он возразил:
– Вы так думаете, Селеста? А мне кажется, наоборот, она персонаж пьесы.
При этом глаза его блеснули, как и в ту ночь, когда он возвратился от графа Этьена де Бомона, к которому его приглашали на гипнотизера. Всех собравшихся подвергали его опытам, включая самого графа, который заснул; потом стали подталкивать и г-на Пруста. Но тут отказался сам гипнотизер, и г-н Пруст очень этим гордился, как и случаем с тем бродягой во время бомбежки:
– Он сразу почувствовал: со мной это не пройдет, не то что с графом или всеми другими. Понимаете, Селеста, я очень люблю г-на де Бомона, и как человек он меня интересует и забавляет. Но он из тех людей, которые даже свой небольшой ум заимствуют от окружающих. Поэтому гипнотизеру было нетрудно вложить в него кое-что свое.
Но больше всего г-н Пруст бывал доволен и многословен, если встречал такого человека, у которого преобладали приятные качества. Кроме того, мне кажется, он всегда различал тех, кого любил и наблюдал для своей книги, и тех, кого любил за то, какими они были в жизни. В этом отношении г-н Пруст больше всех других восхищался аббатом Мюнье.
Аббат Мюнье был священником церкви Св. Клотильды в аристократическом квартале Сен-Жермен. Но у него возникли неприятности из-за отношений с одним расстриженным священником, которому он хотел помочь, и его сместили на должность капеллана при монахинях Св. Франциска Сальского. Г-н Пруст познакомился с ним на обеде у своей приятельницы княгини Сузо, о которой у меня еще будет случай упомянуть. И он сразу влюбился в ум и манеру держать себя этого человека.
– Он некрасив, даже безобразен со всеми этими бородавками на лице. Но когда я вижу его среди светских людей в жалкой потертой сутане – ведь он беден, подобно настоящему святому: как он крутит свою седую прядь, глядя на вас по-детски голубыми глазами – надо быть самим дьяволом, чтобы не полюбить этого человека.
А какая беседа!..
Каждый раз после их встречи г-н Пруст возвращался переполненным его словечками. При первом знакомстве, чтобы немножко поддразнить аббата, он спросил, читал ли тот «Цветы зла» Бодлера.
– Никогда не угадаете, что он мне ответил, Селеста. «Но, дорогой мой, я вообще с ним не расстаюсь. Без запаха серы разве ощутишь аромат добродетели?» А после обеда, когда мы вместе спускались по лестнице, он сказал: «Дорогой друг, будь на то моя воля, наша беседа никогда не прекращалась бы; но я должен возвращаться, меня ждут мои мистические курочки».
Г-н Пруст так восхитился этим выражением, что повторил еще раз:
– «Мои мистические курочки»! Селеста, разве можно сказать лучше этого?
В другой раз дело было на страстную пятницу, когда подавали мясо или рыбу по желанию гостей, и аббат Мюнье выбрал для себя мясо.
– Вдруг его соседка наклонилась к нему и сказала: «А я думала, г-н аббат, что вы не едите мяса, особенно в страстную пятницу». Он оттолкнул тарелку со словами: «Ах, Боже мой, что это? У меня и в мыслях не было, сударыня».
Скорее всего, г-н Пруст не вставил этот диалог в свою книгу только из уважения к аббату. Сколько раз он повторял мне:
– Я хотел бы познакомить вас с ним, Селеста. Когда-нибудь я приглашу его.
А однажды, как сейчас помню, он сказал:
– Конечно же, вы познакомитесь с ним, дорогая Селеста. Обещайте мне, когда я умру, позвать его читать молитвы. Вот увидите, он непременно придет, я нисколечко не сомневаюсь.
Я хотела исполнить это желание, и по моему настоянию профессор Робер Пруст телеграммой вызвал его, чтобы сделать все по воле брата. Увы! Он лежал в постели с воспалением носа, которое причиняло ему ужасные страдания. Зато на ежегодных поминальных мессах у Св. Петра в Шайо всегда служил только он.
Вспоминая эти ночи, я и сейчас вижу г-на Пруста, сидящего на краешке постели в приглушенном свете лампы, и то как он рассказывает мне, передразнивая кого-нибудь своим то довольным, то печальным голосом. И это был самый прекрасный для меня театр, тем более что и сам он не только получал истинное удовольствие, но еще и словно хотел удержать время за волосы, чтобы оно не похитило персонажей его книги.
Из них большинство так и осталось для меня неизвестными. Но те, кого мне случилось увидеть или узнать даже после его смерти, сразу казались мне уже знакомыми, как это бывает сегодня с людьми из телевизора, от ежедневных встреч с которыми на экране уже кажется, будто и знаешь их совсем близко.
Еще не видя Жана Кокто – потом он приходил к нам несколько раз во время войны, – я хорошо представляла его по рассказам г-на Пруста и даже как-то в разговоре сама сказала: «Да это же настоящий полишинель!» – хотя сразу же и прикусила язык. Это вырвалось у меня совсем непроизвольно, оттого, что я вспомнила, как он скакал по столикам у «Ларю».
– Когда меня уже не будет здесь, Селеста, увидите, чего для вас больше всего недостает... маленького Марселя, который все это рассказывал вам.
В другой раз он говорил, как мне должно быть грустно проводить с ним столько времени по ночам:
– Все-таки я должен стараться веселить вас.
Но мне это было совсем не нужно. Я нисколько не тяготилась ночной жизнью.
Когда он приходил домой, для меня словно занимался радостный светлый день.
Случалось, что он говорил вдруг:
Боже мой, как я устал, Селеста, и сколько всего наговорил! Странно, что мне так нравится болтать с вами, хотя это очень утомительно!
– Хорошо, сударь, я ухожу.
– Нет, нет, простите меня, дорогая Селеста, ведь вы задержались только по моему желанию.
Но бывали моменты, когда, не переставая говорить, он вдруг оказывался где-то далеко, я видела по его глазам. Это была очень странная способность, подобно дару исчезновения, хотя губы и продолжали произносить слова. Столь же внезапно взгляд возвращался, и он смотрел, словно удивляясь вашему неожиданному появлению, и смолкал на мгновение, как бы стараясь понять, в чем дело:
– Ах, да, мы говорили...
Рассказ продолжался на прерванном месте, но оставалась какая-то неуверенность, словно одна половина его существа продолжала говорить, а другая куда-то отлетала, и после возвращения нужно было несколько мгновений, чтобы они вновь соединились.
Для кого бы он ни играл в этот театр, я воспринимала его, совершенно ни о чем не задумываясь. Зато он вполне осознавал, что дает мне.
Однажды ночью – дело было в конце войны, и я находилась при нем уже три или четыре года – он сказал:
– Дорогая Селеста, я все думаю, что же вы ждете и не начинаете писать дневник?
Я рассмеялась.
– Вы все шутите со мной, сударь!
– Да нет, совершенно серьезно. Ведь никто по-настоящему и не знает меня, кроме вас, тем более – всего, что я вам говорю. После моей смерти у вашего дневника будет куда больший успех, чем у моих книг. Он пойдет, как горячие пирожки, и вы заработаете кучу денег. Больше того – я даже могу сделать к нему примечания.
– Ну вот, сударь! Вы постоянно жалуетесь, что вам не хватает времени для работы, а теперь еще хотите и моим дневником заняться! Это все ваши шуточки!
Вздохнув, он ответил:
– Совсем не так, Селеста, и вы еще пожалеете. Вам и не представить, сколько людей будет приходить и присылать письма, когда я умру, а вы тогда не захотите отвечать им.
К сожалению, все так и случилось. После его смерти ко мне стали ходить целые толпы. Я продолжаю получать письма, но не отвечаю на них. И больше всего жалею, что не вела дневник: ведь если бы он сделал к нему примечания, у меня было бы еще одно, кроме моей памяти, оружие против вольной или невольной лжи о его книгах и о нем самом.
XII
ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ
Восемь лет, день за днем без единого перерыва, – это значительно больше, чем тысяча и одна ночь. И когда в безмолвии старости я вспоминаю всех персонажей, прошедших в его рассказах, стоит мне только закрыть глаза, как у меня кружится голова.
Иногда его описания шли по частям. Он приставлял их одно к другому наподобие кроссворда, хотя ему случалось показывать мне и широкую картину общества. Но всегда чувствовалось, что по-настоящему его интересуют только глубинные отношения между людьми.
Думаю, это было у него от семьи – я имею в виду не только наследственность, но и пример всего домашнего круга в детстве и юности.
Он много рассказывал мне о своих родителях, каждый раз подчеркивая гармонию и близость связей, которые смогла разорвать только смерть.
Помню, как-то ночью разговор вновь зашел об этом, и он вдруг умолк на минуту, потом прочел стихотворение из «Ночей» Мюссе – их он часто вспоминал при мне, и я в конце концов тоже полюбила этого поэта. Потом вспомнил один тогдашний романс, который напел ему Одилон, а он записал слова. Кажется, романс назывался «Время лилий». После упоминания о том, что в этом мире все люди «оплакивают своих друзей и свою любовь», там говорится: «но все-таки мне снятся неразлучные пары».
Это привело меня в восторг, и я воскликнула:
– Сударь, как это прекрасно, пожалуйста, прочтите еще раз!
Ему так понравилась моя увлеченность, что, повторив слова, он отдал мне листок, на котором они были записаны – и до сих пор он сохранился у меня. Потом с блеском в глазах сказал:
– Если подумать, как это верно! Жизнь берет свое, на смену любви приходят всякие дела и хлопоты. И все-таки есть браки, в которых не прерывается ни уважение, ни потребность быть вместе, ни то великое чувство понимания друг друга. И, что бы ни случилось, такие связи нерасторжимы, запомните это, дорогая Селеста.
Глубину понимания, мягкость и доброту, но вместе с тем стальную волю то ужасающее упорство в работе, – все это г-н Пруст, несомненно, унаследовал от тех различных характеров, которыми обладали его отец и мать.
Он говорил мне:
– В нашей семье все были великими тружениками. Отец просто не знал усталости. Он шел от конкурса к конкурсу, и всегда был недоволен своей научной работой, стремясь достичь во всем еще лучшего. На всех экзаменах он занимал первые места или, в крайнем случае, вторые и третьи. Он был отважен и предан своему делу. Ведь отец родился в Босе, а на работе все босероны настоящие звери. Кроме того, нельзя забывать, что сначала он хотел стать священником, это говорит о многом. Ведь священник и врач оба служат делам милосердия.
И с нежной улыбкой г-н Пруст добавил:
– Во всяком случае, в нем изначально было то, чтобы стать тем, кем он стал – человеком выдающимся.
Профессор Адриен Пруст достиг самой вершины – поста Генерального инспектора всех санитарных служб Франции и заморских территорий. И когда г-н Пруст говорил мне, что его отец написал немало выдающихся работ по своей специальности, глаза его блестели от гордости.
– Вы, конечно, не знаете, Селеста, но ведь именно он одолел холеру в Марселе, когда там гибли сотни людей. Отец не только собственными руками осматривал больных и сам при этом заразился, но еще и установил, что возбудителя холеры переносили корабельные крысы. Он даже вызвал дипломатический конфликт с англичанами, заставив их суда отстаиваться в карантине. Это наносило такой вред коммерции, что они от злости готовы были повесить его.
Упоминал он и о другом примере отваги отца.
– Ему приходилось совершать длительные инспекционные поездки в такие места, где был непереносимый климат. Особенно он вспоминал Красное море, где так страдал от жары и морской болезни, что один раз даже умолял выбросить его за борт. Эти поездки настолько беспокоили матушку, что она все-таки настояла на том, чтобы он брал ее с собой. Я это хорошо помню. Она вся была переполнена рассказами о поездках на верблюдах. Но, несмотря ни на что, отец никогда не променял бы возложенную им на себя миссию даже ради всех благ мира. К тому же он еще и не знал, что такое отдых.
Часто г-н Пруст говорил мне:
– Ах, Селеста, если бы я был уверен, что сделал своими книгами столько же, сколько папа для несчастных больных!
Совсем другой была его мать. Обладая таким же преданным характером, она проявляла его совсем по-иному. Как говорил г-н Пруст, величайшее согласие между его родителями во многом основывалось на том, что всеми делами занималась мать, старавшаяся избавить мужа от всего, что не касалось его работы. И в то же время тонкости и дипломатии у нее хватало на них обоих. Если она чувствовала, что профессору Адриену Прусту нужна поддержка, то, не колеблясь, сопровождала его на лекцию в «Отель Дьё». При этом у нее еще был и талант устраивать приемы.
– Она всегда твердо знала, что нужно делать, и была чем-то вроде дипломатического агента в карьере папа.
Смеясь, он говорил:
– Представляете, Селеста, в моей молодости было время, когда мы регулярно, раз в неделю, бывали на завтраках в Елисейском дворце у президента Республики, и какого президента!.. Самого Феликса Фора. Матушка была издавна, лет уже десять или двенадцать, в приятельских отношениях с госпожой Фор, еще с тех пор, когда ее муж подвизался в качестве простого депутата. С их дочерьми, старшей Люси и младшей Антуанеттой, я играл на аллеях Елисейских Полей... Люси была уже почти девушка, а мы с Антуанеттой все еще несозревшие прыщички. Однако Антуанетта со своими серыми глазами вертела мною ничуть не хуже, чем нашими маленькими осликами, которые катали нас. И вот, когда муж г-жи Фор вознесся до Елисейского дворца, матушка почти каждый день прогуливалась по Булонскому лесу вместе с его женой. Их отношения из близких стали совсем доверительными. Г-жа Фор рассказывала матушке о всех своих немалочисленных бедах из-за подруг г-на президента, а это уже говорит о многом. Но они еще и обсуждали всякие планы. Например, чтобы женить меня на сероглазой Антуанетте. И вдруг все это рухнуло после отчаянных криков в апартаментах дворца прелестной г-жи Стейнхель, когда президент испустил дух в ее объятиях. Но я ничуть не жалею об этом.
Кроме того, г-жа Пруст была несравненной хозяйкой дома, что весьма немаловажно, поскольку на улице Малерб и на улице Курсель, куда семья переехала в 1900 году, приходилось содержать открытый дом, неизбежный при стольких светских связях.
– Она успевала следить за всем, от погреба до чердака. Все должно было блестеть и сверкать, находиться на своем месте и в полном порядке. Кроме того, она вела и все денежные дела.
Никола, когда еще служил на бульваре Османн, рассказывал мне про нее в связи с дотошностью самого «г-на Марселя». Проведя у Прустов много лет, он хорошо знал г-жу Пруст. По его рассказам, она была очень требовательна во всех мелочах домашнего хозяйства. «Все должно было быть идеально», – говорил Никола. Мне запомнился один из рассказанных им случаев, который показывает и ее тонкость, и заботу обо всем. Она самолично следила за чистотой и вообще за всеми делами на кухне, особенно за тем, что готовилось на огне. Как-то раз кухарка Фелиция, хитро взглянув на Никола, сняла с крышки горячей кастрюли на плите тряпочку и сказала: «Придет мадам и, конечно, захочет посмотреть, что в кастрюле», иначе говоря, она хотела сказать, что хозяйка обожжется. Приходит г-жа Пруст и, едва взглянув, говорит ей: «Будьте добры, откройте эту кастрюлю». Никола и через много лет смеялся над Фелицией: «Она была вся красная, и не потому, что от плиты шел жар!»
Если и для мужа, и для нее самой все должно было быть совершенным, то для детей еще более того, особенно для ее Марсельчика, – из-за его болезни.
– Вы не представляете себе, Селеста, как она нас баловала и как заботилась .Я бы даже сказал, что она портила Детей. Не существовало таких вещей, которые были бы слишком хороши для Робера и для меня.
Однажды ночью он показал мне старую фотографию:
– Что вы скажете об этом ребенке, Селеста?
– Так это же настоящий маленький принц, сударь. Боже, какой хорошенький, да еще с этой тросточкой. Не будь он весь беленький, я бы сказала, что это вы и есть.
Он улыбнулся.
– Ребенком я был совсем светлым, только потом все почернело.
Но ему явно польстил «маленький принц». Он рассказывал, что мать была очень щепетильна в отношении одежды и они никогда не выходили из дома без предварительного осмотра.
– Она ни о чем не забывала. Зимой, отправляя нас на прогулку по Елисейским Полям, она всегда приказывала Фелиции сварить картофель в мундире. А знаете зачем? Чтобы положить в меховые муфты греть руки.
И еще он говорил:
– Я очень любил папа. Но когда умерла матушка, она взяла с собой и своего Марсельчика.
Только в одном отношении профессор Адриен Пруст и его жена сильно расходились – это касалось искусства и литературы. Профессор слишком много времени отдавал своей службе и науке, чтобы вникать еще во что-то другое. Зато г-жа Пруст обожала все искусства – она много читала и была очень музыкальна. Незаметно, исподволь она сообщала мужу о всех новинках, чтобы на светских вечерах он хотя бы понимал, о чем идет речь. Случалось, даже читала ему вслух,
– ...Как и мне, когда я болел, – вспоминал г-н Пруст и продолжал с нежной улыбкой:
– Бедный папа! Бывали дни, когда это уж совсем его никак не интересовало.
Г-жа Пруст, несомненно, унаследовала свои увлечения от матери, которая тоже была незаурядной личностью. В разговоре они обе, например, на память перекидывались цитатами из мадам де Севинье.
Бабушку г-н Пруст тоже обожал. Он вспоминал ее как в высшей степени умную и образованную женщину.
– Она очень походила на матушку, только говорила всегда так, словно читала по книге. Отношения у них были очень странные, и они все время с увлечением обсуждали только что прочитанные книги. Когда бабушка приходила к нам, а это случалось очень часто, они часами просиживали в гостиной за разговорами. Потом матушка провожала ее, и первая остановка у них была возле дверей для продолжения беседы. Затем, не переставая говорить, они спускались по лестнице. Внизу обе садились на скамеечку – случалось, и на полчаса. Внезапно бабушка вскрикивала: «Боже! Да сколько же это времени! Я поднимусь к тебе еще на минутку и сразу убегаю!» Обе возвращались, и все начиналось снова. Они никак не могли расстаться!
Его мать и бабушка были буквально созданы друг для друга, не говоря уже о приверженности обеих к мадам де Севинье, и когда г-жа Пруст хотела в чем-то упрекнуть своего Марсельчика, она цитировала ему назидания добрейшей маркизы своим шаловливым детям.
Вполне естественно, что бабушка г-на Пруста платила ему взаимным обожанием. Он чуть не плакал, когда говорил мне:
– Еще при ее жизни я иногда задумывался о том, что и она тоже исчезнет, и мне казалось совершенно невозможным перенести это. И что же? Было очень тяжело, но все– таки не так, как я думал.
Он улыбнулся такой очень грустной улыбкой, и я поняла: слезы у него были именно оттого, что хоть мы и не исцеляемся от самых тяжелых наших горестей, но все-таки продолжаем жить.
Такая же ясность взгляда, выражаемая с бесконечной Деликатностью, была у него во всем. Упоминая о потере Родителей, особенно матери, он нередко говорил мне такие вещи:
– Они меня вконец испортили своим наследством, благодаря которому я получил возможность наслаждаться жизнью и ни от кого не зависеть. Но никакая свобода не могла заменить мне их самих. И все-таки, дорогая Селеста, все-таки... Не будучи свободным, я не мог бы делать свое дело. И только одному Богу известно, как матушка исхитрялась во всем ради моей независимости!
Это правда, г-жа Пруст непрестанно старалась делать его жизнь как можно удобнее. Она заботилась не только о его здоровье, но и о его мыслях. Когда он был еще юношей, она поощряла все его привычки к ночным уходам из дома и к ночной работе. На улице Курсель его жизнь была почти такой же, как потом на бульваре Османн, – получив полную свободу, он лишь довел ее до полного соответствия своим вкусам.
Г-жа Пруст строго запрещала прислуге заниматься какими-либо делами по дому, пока он спал или отдыхал. Да и сама она ни за что на свете никогда не решилась бы побеспокоить его. Только подумать, что из-за таких привычек г-на Пруста и расхождения во времени их существований мать и сын вынуждены были общаться в одной и той же квартире при помощи записок!
Притворяясь иногда, будто бранит сына, на самом деле она всегда исполняла любые его желания. Однажды ему взбрело на ум устроить дома большой званый обед, да еще сделать так, чтобы стол представлял собой оранжерею из электрических цветов, по одному перед каждым гостем.
– Но ведь тогда в домах еще не было электричества, Селеста. И представьте себе, матушка ухитрилась устроить целую систему с аккумуляторами и генератором во дворе дома. Если бы вы видели... Восхитительное зрелище!
Особой заботой матери были улаживания его отношений с профессором Адриеном Прустом – ведь, несмотря на всю любовь отца к сыну, между ними возникали серьезные трудности.
Когда г-н Пруст был еще ребенком, и у него только-только открылась астма, он злоупотреблял заботливостью окружающих и не желал спать, пока мать не придет поцеловать его в постели.
– Папа просто выходил из себя, но матушка не поддавалась ему. В таких случаях у нее была почти пугающая нежность.
Отец упрекал сына и за его траты, которые по большей части происходили от душевной щедрости. По этому поводу г-н Пруст рассказывал мне два случая, немало забавлявшие и его самого.
Однажды, еще в молодости, он отправился в фиакре вместе с родителями к брату г-жи Пруст на бульвар Малерб.
– По приезде на место, как воспитанный мальчик, я сошел первым и подал руку родителям, чтобы помочь им выйти из экипажа, а потом, поскольку у меня были деньги – мне регулярно выдавали кругленькую сумму, – заплатил кучеру. Папа следил за моей рукой и спросил, сколько я дал ему на чай. «Пять франков». Как он рассердился!.. «Помяни мое слово, Марсель, с такими замашками ты умрешь на соломе!» Он часто повторял мне это. Бедный папа! Как уже потом говорила матушка, его очень заботило наследство для меня, чтобы осталось побольше денег на безбедную жизнь.
Г-жу Пруст также беспокоили траты сына, и она часто бранила его, но никогда не делала этого при отце. Даже цитировала мадам де Севинье из ее писем к дочери с упреками за слишком роскошную жизнь. Это началось, когда ему было не больше пяти или шести лет. Однажды их с братом отправили на полдник к одной родственнице, госпоже Натан.
Перед тем как отпустить нас, матушка сказала: «Вот вам по пять франков. Когда бонна Мари откроет дверь, сначала пожелайте ей счастливого года, а потом отдайте свои монетки».
По дороге на площади Мадлен я увидел чистильщика сапог, который от холода хлопал руками и стучал ногами.
Я подбежал к нему, и он вычистил мои и так уже сверкавшие ботинки, за что получил от меня эти пять франков. По возвращении матушка спросила: «Ну как, ты хорошо вел себя? Не забыл про пять франков для Мари?» Я рассказал ей о чистильщике, и она очень огорчилась: «Как это пришло тебе в голову?» – «Я увидел, что он ждет на холоде клиента, и подставил свои ботинки». В конце концов матушка расцеловала меня.
Но больше всего отца мучило будущее сына, и здесь г-жа Пруст также сыграла решающую роль. Профессор Адриен Пруст непременно требовал, чтобы он посвятил себя какой-то службе и этим обеспечил свое благополучие. В этом его поддерживали все родственники со стороны жены, особенно отец г-жи Пруст.
– Он волновался больше всех: «Из этого малыша у вас ничего не получится, вы слишком его испортили! Если не одумаетесь, это будет просто бездельник и ничего больше! Не имея в руках профессии, он пропадет!» Папа оборачивался к матушке и говорил: «Слышишь, сколько я тебе твержу, что его нельзя обрекать на светскую жизнь!» Однако матушка всегда пережидала натиск; я и сейчас слышу ее мягкий голос: «Терпение, милый доктор, терпение. Все устроится».
Кажется, лет в двадцать, чтобы угодить отцу, г-н Пруст поступил на службу в библиотеку Мазарини помощником библиотекаря и одновременно занимался еще и изучением права. Хоть ему и не платили жалованья, отец все равно остался доволен – самое главное, что сын теперь при деле.
– Правда, я все время был в отпуске, – смеясь, говорил мне г-н Пруст.
Нечего и говорить, продолжалось это совсем недолго. Он ушел из библиотеки и тогда же написал длинное письмо отцу, в котором объяснял, что это было лишь «потерянное время», так как он чувствует себя созданным только для литературы.
По словам г-на Пруста, между отцом и матерью произошло окончательное объяснение, после которого профессор Адриен Пруст заявил: «Хорошо, пусть будет так, я не буду заниматься им. Делай как хочешь».
– И мой милый папочка сдержал слово. Больше того, я знаю, что незадолго до смерти он говорил друзьям: «Вот увидите, Марсель еще будет в Академии!»
Уже много позднее я как-то спросила г-на Пруста, была ли уже у него в голове книга с ее названием, когда он писал отцу о «потерянном времени». Он улыбнулся, но ничего мне не ответил.
После этого понятно, каким ударом была для него потеря обоих родителей – самого профессора в 1903 году и матери через два года. Оба умирали тяжело, а отец – в жестоких страданиях.
Г-ну Прусту было тридцать два года, когда скончался профессор Адриен Пруст. Младший брат уже стал врачом и женился, его жена ждала тогда ребенка. Смерть профессора и рождение племянницы г-на Пруста почти совпали. У меня до сих пор звучит в ушах его рассказ.
Профессор читал лекции на факультете и однажды сказал госпоже Пруст: «Я пойду сегодня пораньше, чтобы зайти к Роберу: может быть, там есть какие-то новости». Он застал сына и невестку, собравшихся после завтрака на прогулку.
– Робер был так поражен усталым и очень плохим видом папа, что, отведя жену в сторону, сказал ей: «Марта, я беспокоюсь за отца. Сделай милость, зайди к своей матери и погуляй с ней. А я провожу его, ему совсем нехорошо». Придя на факультет вместе с Робером, папа начал читать лекцию, но уже через минуту по просил у студентов извинения за недолгую отлучку. Видя, что он не возвращается, Робер побежал искать его... Это было ужасно. Я даже не Могу говорить об этом. Пришлось взламывать дверь, он лежал на полу. Робер отвез его домой на улицу Курсель. Матушка рыдала: «Я должна была поехать с ним!» Но она сразу же взяла себя в руки и потом великолепно держалась. Робер позвонил жене: «Папа заболел, я отвез его домой и не могу оставить. Пожалуйста, побудь у своей матери, пока я не приеду за тобой».
Дальше было еще ужаснее, ночью жена брата родила маленькую Сюзи, но сама висела между жизнью и смертью из-за родильной горячки. Естественно, от нее скрывали смерть папа: «Ему уже лучше, еще несколько дней, не волнуйся». Самое драматичное произошло в день похорон. У папа были торжественные похороны, и кортеж проезжал под окнами тещи моего брата на авеню де Мессин, где находилась тогда Марта. Теща очень хотела присутствовать на церемонии и солгала дочери: «Я немного пройдусь, а ты побудь пока с горничными, совсем недолго». Но похороны сопровождались таким обилием музыки, что Марта не могла не услышать ее, и спросила горничную: «Что это за музыка?» – «Не знаю, сударыня, может быть, идут войска». – «Да нет же, это похоронный марш. Наверное, умер кто-то очень важный?» – Не знаю, сударыня, я ничего не слышала» . От нее еще долго скрывали правду. Когда матушка приходила навестить ее, то брала с собой светлое платье, чтоб не показываться перед ней, выздоравливающей, в трауре.
О смерти матери г-н Пруст говорил не так охотно – рана была значительно глубже. Он рассказывал мне только, что после кончины отца все так же жил с ней на улице Курсель. Квартира была очень большая, и часть комнат они просто заперли. И, конечно, прекратились все приемы.
– После смерти папа матушка потеряла вкус к жизни, но никак не выдавала этого. Держалась она прекрасно.
Он рассказал мне еще и такую подробность: при прощании с профессором Адриеном Прустом г-жа Пруст вошла как раз в тот момент, когда какая-то незнакомая женщина ничуть не скрывая своего горя, положила умершему букет пармских фиалок.








