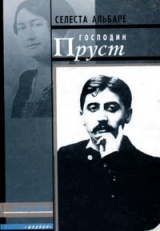
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– Знаете, Селеста, он меня раздражает и наводит смертельную тоску.
Во всяком случае, Эрнест стал одним из главных сюжетов для наших разговоров. Мы о нем только и говорили. Я передразнивала его надутые манеры, г-н Пруст тоже, и это веселило нас.
Непосредственность моей натуры и моих двадцати трех лет брала свое. Я, не задумываясь, отвечала ему и видела по его непринужденному смеху, что это ему приятно. Но и он, наверно, не без удовольствия ощущал мое желание развлечь его и то, как мне нравилось говорить с ним.
Он даже пробовал заинтересовать меня Кабуром с его окрестностями и упрекал за то, что мне совсем не любопытны здешние места и я не люблю ходить на прогулки. Как-то раз он стал расхваливать одно место, где пекли очень вкусные блины, которое было известно ему еще по прежним временам.
– Почему бы вам не побывать там как-нибудь днем? Возьмите экипаж, я заплачу.
– Сударь, у меня нет ни малейшего желания, мне и здесь хорошо, вместе с вами.
Помню, что мы прохаживались по террасе, на нем было светло-серое пальто. Он остановился и улыбнулся, как солнце.
– Спасибо, Селеста.
Здесь же, в Кабуре, он начал понемногу рассказывать мне о своем прошлом, как бывал тут прежде, еще ребенком, с бабушкой. А потом ездил уже из чувства привязанности к своим воспоминаниям, и еще потому, что его отец и другие доктора рекомендовали при астме перемену воздуха. Ну, и, конечно, здесь поблизости летом жили многие из его парижских друзей. Так я узнала имена, которые мало-помалу стали для меня привычными: банкир Орас Финали, г-жа Строе, жена композитора Бизе, автора «Кармен», и многие другие.
Он рассказывал о том золотом времени, когда часто ездил за город в автомобиле и именно тогда познакомился с моим мужем, потому что Жак Бизе, его однокашник по лицею Кондорсе и сын г-жи Строе и композитора, был директором одной из первых компаний по найму автомобилей; зимой эти машины были в Монте-Карло, а летом он перегонял их в Кабур. Естественно, что при своей привычке все перепроверять г-н Пруст просил у него для своих поездок лучших шоферов. Жак Бизе предложил ему троих, из которых два стали фаворитами: Альфред Агостинелли и мой муж.
Я с восторгом юности упивалась всем этим и входила в тот волшебный мир, который он открывал для меня.
Как-то вечером он сказал мне с видом заговорщика:
– Я покажу вам кое-что, вы такого еще не видели. Но сначала посмотрите, нет ли кого-нибудь в коридоре, а то я не одет, и в таком виде нельзя выходить.
По обыкновению, на нем была рубашка, пиджак и домашние туфли.
Я проверила коридор. Никого не было, и он сказал:
– Пошли со мной, – и, взяв меня за руку, как маленькую девочку, увлек в конец коридора к слуховому окну. Оно было залито заходившим солнцем, а внизу в его лучах сверкало и искрилось море. И пока я смотрела, взволнованная не только открывшимся необычным видом, но и его прикосновением, он сказал:
– Ну, как? Посмотрите на эти отражения! Боже, как красиво! Просто прелесть!
Он произнес это с таким восхищением, что оно передалось и мне, всего лишь несмышленому ребенку. Потом мы еще несколько раз приходили к этому окну, но я уже никогда больше не чувствовала такого волнения, как в первый раз.
Помню еще и другой вечер, уже незадолго до нашего отъезда, как раз в равноденствие. Глядя через стекло закрытого окна, он говорил:
– Селеста, подойдите сюда. Нужно чинить эту дамбу, а то все здесь разнесет вдребезги.
Я уже замечала это и пугалась, но, не зная водной стихии, не представляла море разбушевавшимся, бросающим свои брызги чуть ли не в наши окна. И я ответила, что пока я еще не готова к Страшному Суду.
– Вот увидите, как это красиво! И бояться совсем нечего. А что бы вы сказали в Бретани!
И он рассказал мне, как они вместе с его близким другом Рейнальдо Аном ездили специально во время осеннего равноденствия любоваться большими приливами на мысе Раз.
– Это было просто великолепно, Селеста! Как бы я хотел снова побывать там!
И впервые он сказал мне то, что потом часто упоминалось в наших разговорах:
– Может быть, если мне будет получше... И вас я тоже возьму с собой. Вы непременно должны побывать там.
И в его голосе была почти детская грусть о тех картинах, которые он так хотел увидеть еще раз.
Это была чудесная поездка, но слишком недолгая. Дела на войне ухудшались. Для нас же первым неудобством была реквизиция гостиницы под нужды армии и раненых, которым не хватало мест, – тогда шла битва при Марне и другие тяжелые бои. Г-н Пруст очень беспокоился о своем брате Робере, который, как и мой муж, был мобилизован на второй день, но попал в Верден и работал во фронтовых госпиталях.
Почти все постояльцы разъехались. Те, кто пожелали остаться, переселились во флигель. Однако г-ну Прусту сделали особую любезность – ему было разрешено никуда не переезжать, пока не привезут раненых. Но до нашего отъезда ни один из них так и не появился. Потом говорили совсем другое, будто г-н Пруст навещал привезенных солдат и даже почти разорился на сигареты и лакомства для них, отчего ему и пришлось будто бы уехать. Но это вымысел.
Правда, с деньгами действительно были затруднения, потому что в банках возникли непорядки, – как раз тогда в правительстве началась паника; все сбежали в Бордо и даже южнее, чуть ли не до Биаррица, также и многие друзья г-на Пруста. Банковские операции почти прекратились из-за отсутствия сообщений. У г-на Пруста было взято из Парижа сколько-то денег, но когда они кончились, то добыть их было уже неоткуда.
– Мои бумаги уехали вместе с банком в Бордо, – сказал он. – Бедная Селеста, я истратил все свои деньги.
Расходы происходили единственно от нашего образа жизни; хоть он и был совсем простым, но все равно требовались траты со всеми этими комнатами и щедрыми чаевыми, которые он по своей привычке раздавал налево и направо.
К концу сентября мы возвратились в Париж. Немцев остановили, и можно было немного передохнуть. Снова пошли поезда.
Никогда не забуду наше возвращение, оказавшееся воистину драматическим.
Наш поезд быстро катился, как вдруг у г-на Пруста началось страшное удушье; мы были около Мезидона, в Кальвадосе, и между двумя приступами он объяснил мне, что это всегда здесь с ним случалось – и всегда только на обратном пути:
– Каждый раз все начинается совершенно внезапно, именно здесь. Несомненно, тут что-то непереносимое для меня в самом воздухе... может быть, из-за сенокоса... и как только подумаешь об этом...
Я просто с ума сходила, не зная, что делать, и к тому же забыла положить в чемодан его аптечку с окуриванием. Все было в багаже, в сундуке на колесиках, под квитанцией.
На первой же станции я выпрыгнула на перрон и побежала в хвост поезда к багажному вагону. Служащий, которому я объяснила дело, по моему виду понял, что это не комедия; он оказал мне любезность, мы нашли мой сундук, я взяла все необходимое для окуривания, и г-н Пруст сразу же надымил в нашем купе.
Не знаю уж, каким образом нам удалось добраться до бульвара Османн. Но здесь нас ждало нечто другое.
Каждый год, уезжая в Кабур, он оставлял квартиру для генеральной чистки большими пылесосами, которые вытягивали всю пыль с полов, ковров, мебели и стен, прежде всего в его комнате с пробковыми панелями. И случилось так, что мы приехали в самый разгар этой чистки.
О, когда он увидел все это!..
– Пусть они уходят, Селеста, пусть уходят... мне нужно лечь.
Я выпроводила всех этих людей, потом отвела его в комнату и спросила, что нужно сделать.
– Поскорее поставьте мне грелки.
Принесли грелки, я поставила зажженную свечу и рядом положила маленькие бумажки для зажигания порошка. На мой вопрос, что нужно еще, он сказал:
– Оставьте меня и никого не зовите. Мне нужна только постель. И, главное, не входите, пока я не позвоню.
Я ушла, еще раз взглянув на него в последний момент: он задыхался, склонившись в постели над своим порошком. Вне себя от ужаса я ждала на кухне, уже уверенная, что не увижу его живым. Но мало-помалу приступ отошел. Вечером он позвал меня и сказал:
– Милая Селеста, вы сильно испугались. Я понимаю и благодарю вас, ведь вы никогда ничего подобного не видели. Но, знаете, в молодости у меня бывало и похуже.
Потом он стал говорить, как теперь нам устроить жизнь:
– Я не хочу оставлять Эрнеста, и у меня нет ни малейшего желания заниматься поисками, это слишком утомительно. Лучше всего, чтобы все сохранилось, как теперь, по-старому. Вы не против?
И, как будто это было совершенно естественно, я ответила:
– А почему бы и нет, сударь?
У него был довольный вид, он продолжал, чтобы закончить свою мысль:
– Дорогая Селеста, я должен сказать вам одну вещь. Мы съездили в Кабур, но теперь с этим покончено: я уже никуда больше не поеду. Солдаты выполняют свой долг, а раз уж я не могу драться, как они, мое дело писать книгу, заниматься своей работой. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на что-нибудь другое.
И в тот самый сентябрьский вечер 1914 года, когда он по собственной воле превратил свою жизнь на последние восемь лет в отшельничество, я, еще ничего не умевшая, тоже вошла в эту жизнь, несмотря на все неприличие этого, как он сказал, и, никогда не пожалев, осталась в ней до самого конца.
V
Я ВХОЖУ В ЖИЗНЬ ОТШЕЛЬНИКА
На следующий день после приезда разобрали багаж, расставили книги, тетради и рукописи положили на стол в пробковой комнате; летние пальто возвратились в шкаф, откуда они никогда уже и не вышли. Мало-помалу течение жизни возвратилось к прежнему, не считая каких-то мелких происшествий, которые помогли мне еще лучше понять не только характер и доброту г-на Пруста, но и его отношения с людьми, особенно его нежелание затруднять себя этими отношениями.
К тем, кто прежде служил у него, он был неизменно внимателен. Например, старую кухарку Фелицию он не только никогда не забывал, а время от времени регулярно посылал ей немного денег, и каждый раз она благодарила письмом «дорогого г-на Марселя» (она называла его так же, как и Никола). Как-то она не ответила, и г-н Пруст забеспокоился, хотя его письма и не пришли назад. Чаще всего их писала и отправляла я, и однажды он сказал мне: – Дорогая Селеста, а вы не забыли отправить это письмо?.. Да? Уж не померла ли наша Фелиция?
Но этого не случилось, хотя узнала я об этом слишком поздно и уже не могла успокоить его. Просто она стала лениться отвечать, и только узнав о смерти г-на Пруста, прислала соболезнования.
Селина после своей отставки тоже пользовалась его добротой, особенно когда Никола ушел в армию. Г-н Пруст ни в коем случае не хотел допустить, чтобы она нуждалась, и давал ей деньги, а кроме того, разрешал брать из нашего подвала все необходимое – особенно уголь, которого так не хватало во время войны. Она приходила ко мне за ключом, и мы встречались как ни в чем не бывало. Я жалела ее, зная, что значит быть женой солдата, да к тому же по молодости у меня не было на нее зла.
И все-таки не обошлось без неприятностей. Сначала это были консьержи, особенно муж, Антуан, бретонец. Раньше им обоим покровительствовала г-жа Пруст; Антуана она использовала для всяких дел, в том числе и доверительных, и даже устраивала его на вокзал Сен-Лазар, а поселила их в дворницкой на бульваре Османн, 102, после того как получила этот дом по наследству от своего дяди Луи Вейля.
Антуан хотел напугать и спровоцировать меня, говоря, что мне нельзя оставаться взаперти вместе с больным, особенно по вечерам. Сначала я ничего ему не отвечала, избегая всяческих сплетен и зная, как их не любит г-н Пруст. Но когда Антуан зашел уж слишком далеко, пришлось поставить его на место, и я рассказала об этом г-ну Прусту, но он только посмеялся:
– Бедная Селеста, теперь я окажусь во всем виноват. Антуан и его жена будут прятаться, завидев меня, вместо того чтобы вынести стул, пока я жду такси.
И на самом деле некоторое время, видя, что я иду вызывать такси, они прятались у себя в каморке. И лишь после того, как г-н Пруст сам зашел к ним, они снова стали выставлять стул, и все пошло по-старому.
Но в тот вечер, когда я говорила ему про Антуана, он рассказал мне и кое-что другое.
– Бедная Селеста, это ведь все интриги Селины. Она все еще надеется на возвращение и каждый раз, приходя сюда, старается объяснить мне, что я излишне доверяю вам. Она-то и подзудила Антуана и его жену, и они объединились для войны против вас. Самое смешное, что, пока Селина была здесь, они постоянно докучали мне сплетнями друг против друга: Селина жаловалась, что Антуан вскрывает ее письма. Они были буквально на ножах.
Потом этот случай с загадочным письмом от неизвестной, которая будто бы хотела прийти к г-ну Прусту и рассказать о таких вещах, которые нельзя доверять бумаге.
Он показал мне это письмо и объяснил:
– Я не сомневаюсь, это все проделки Селины. Она просто сошла с ума и никак не хочет расстаться с надеждой на возвращение. Может быть, какая-то женщина выманивает у нее деньги, обещая помочь в этом деле. Не знаю и не хочу знать, что эта особа намерена рассказать мне.
Тем более и видеть ее мне совсем ни к чему.
Возьмите бумагу и перо, я продиктую ответ для Селины.
Я написала отказ и бросила письмо в почтовый ящик.
На следующий же день является Селина. Я впустила ее, и она стала кричать прямо в лицо г-ну Прусту:
– Я же говорила, что вы не знаете ее, эту интриганку! Вот, сударь, полюбуйтесь! Это письмо, которое она посмела написать мне!
Г-н Пруст ответил ей:
– Замолчите, Селина. Диктовал его я, и вам не удастся меня переубедить. Вы просто с ума сошли, если думаете, что я стану разговаривать с этой женщиной.
Она ушла вне себя от ярости.
Но на этом дело не кончилось. Однажды вечером приходит она с какой-то дамой в такой час, когда могла рассчитывать на прием, и спрашивает:
– Могу я видеть г-на Пруста?
Я пошла доложить. Перед тем как идти в комнату г-на Пруста, она обернулась и сказала этой женщине:
– Жди меня здесь.
Прошло немного времени, вдруг звонок. Придя, вижу ее в совершенной ярости и очень бледного г-на Пруста, который говорит:
– Селеста, насколько я понимаю, сейчас в кухне кто-то есть, какая-то женщина. Будьте любезны, попросите ее сейчас же выйти, чтобы она подождала Селину на улице... И не забудьте запереть дверь. А потом идите сюда.
При моем возвращении Селина стала уже просто вопить. И вдруг г-н Пруст (это был единственный раз, когда я видела его в таком состоянии) приподнялся на постели и тоже закричал:
– Извольте выйти отсюда! Вы слышите? Я выставляю вас и теперь уже навсегда. Уходите и никогда не возвращайтесь, даже за ключом от подвала. Идите же! По парадной лестнице, так скорее! Хватит уже, кончено!
Его вспышка должна была произвести на Селину впечатление, и она послушно ушла. Мы слышали, как захлопнулась большая дверь, но он хотел все-таки удостовериться, и сказал мне:
– Посмотрите, она действительно ушла?
Успокоившись, г-н Пруст рассказал мне о происшедшем:
– Представляете, Селеста, ей втемяшилось в голову, что вы убеждаете меня уволить консьержей, чтобы больше не пускать ее на порог. Ну, для себя она добилась этого – я не желаю ее больше видеть. Но это еще не все. Знаете, зачем она привела ту женщину? Чтобы вместе с ней побить вас. Едва войдя сюда, она сказала: «Предупреждаю вас, сударь, я пришла еще с одной особой, и мы зададим вашей Селесте хорошую взбучку!» Поэтому я и позвонил, боясь, что она вам что-нибудь сделает. Но будьте спокойны, это уже не повторится.
Я видела, что он потрясен, да и сама была в таком же состоянии, словно свалилась с облака или как несправедливо обиженный ребенок. Ведь я всегда старалась держаться в стороне, никогда никому не сделала какой-нибудь неприятности и не сказала ни одного плохого слова; старалась быть предупредительной и с Селиной тоже, когда она приходила. Всю ночь случившееся не выходило у меня из головы. Я никак не могла понять, почему она так озлобилась, и мне было больно еще и за г-на Пруста. Не успокоившись и на следующий день, я все это высказала ему. Но теперь я уже рассердилась и стала объяснять, что вчера, наверное, от неожиданности даже не стала бы защищаться, но если это повторится и она снова посмеет прийти с той же целью, то я спущу ее с лестницы, как тюк грязного белья. Помню, что никак не могла остановиться в своем негодовании на подобные трюки:
– Я лучше уйду, чтобы не подвергать вас подобным сценам из-за моей персоны. Я сюда не напрашивалась, у меня даже в мыслях не было вести подобный образ жизни. Вся семья моего мужа при деле, и сам он женился, имея в виду приобрести собственное заведение, как только появится возможность. Здесь мне хорошо, я ни на что не жалуюсь и рада услужить вам. Но теперь для меня никак нельзя оставаться. Вы прекрасно знаете, я и не покушалась на место Никола. А раз дело оборачивается таким образом, берите обратно Селину, так будет лучше.
Он дал мне выговориться, потом очень мягко стал возражать, говоря о своем одиночестве и болезни и все время повторяя, что с Селиной дело уже решенное и он не хочет ничего о ней слышать.
Итак, с четой Коттен было покончено. Мы увидели Никола еще только раз. С фронта он писал г-ну Прусту и даже прислал свою фотографию в солдатской форме. Помню, в одном письме он сообщал: «Мне здесь очень хорошо. Я теперь повар генерала Жоффра. Все офицеры в восторге от моей кухни, так что, сами понимаете, мои дела просто прекрасны».
Но г-н Пруст, прочитав это письмо, сказал:
– Ах, Селеста, он погиб! Ведь ему приходится выпивать портвейн и мадеру от всех соусов. Смотрите, как он растолстел.
Однажды Никола даже приехал в отпуск. Но он был тощий, как кукушка, и желтее лимона – я едва узнала его. Ко мне он тоже переменился – верно, Селина насказала ему всяких небылиц. Он даже не поздоровался со мной, а лишь робко спросил, можно ли видеть «г-на Марселя». Г-н Пруст уже проснулся и сразу же принял его. Потом он рассказал мне, что Никола жаловался на болезнь и просил помочь ему вылечиться. Г-н Пруст направил его к большому специалисту по сердцу, доктору Неттеру, с наилучшими рекомендациями. Доктор Неттер ответил, что осмотрел его, но, к сожалению, мало шансов на спасение. В тот день г-н Пруст сказал мне:
– Что вы хотите, Селеста, этому человеку было здесь хорошо, ведь он нуждался в тихой, спокойной жизни и, как и я, терпеть не мог всяческих неурядиц. Но ведь насильно мил не будешь...
Селину мы тоже увидели только раз, когда Никола был в больнице. Она пришла и просила у г-на Пруста одеяло, потому что муж сильно мерзнет. Он велел мне отдать красное стеганое одеяло, которым сам уже много лет не пользовался. Оно было подарком от их горничной в родительском доме, очень красивой девушки. Она сшила его собственными руками. Эта Мари была одной из влюбленностей г-на Пруста в молодые годы.
Селина и Никола навсегда ушли с бульвара Османн; почти сразу после возвращения из Кабура ушел Эрнест, и началась жизнь затворника, когда г-н Пруст замкнулся в своем труде и я вместе с ним. За все восемь лет, до самого конца, уже ничто не тревожило эту жизнь.
Рассказывали, будто он несколько раз собирался куда-то переехать – то ли в Ниццу, то ли в Венецию. Но разве я знаю? Говорили даже, когда аэропланы очень сильно бомбили Париж, я уговаривала г-на Пруста вернуться в Кабур или уехать на Лазурный Берег, к старой подруге его матери, госпоже Катюсс. Все это неправда. Иногда у него появлялось желание, даже потребность сделать перерыв или ненадолго отвлечься на что-нибудь другое – видом города, пейзажа, картины, церкви, – как тогда в Кабуре воспоминаниями о больших приливах в Бретани. Но всегда это кончалось одинаково:
– Вот окончу книгу, и мы поедем... увидите тогда, как это прекрасно...
Закончить книгу – это было самое главное, и, начиная с той осени 1914-го, все его существование сосредоточилось вокруг этого.
Он стал разрывать связи. Еще до Нового года решил отказаться от телефона. Он будто бы всем объяснял, что совсем разорился. Но это была лишь отговорка. Ведь он продолжал тратить деньги на свои фантазии. А на самом-то деле просто не хотел, чтобы его беспокоили, и устраивал по собственному усмотрению и свои, и чужие визиты, да и вообще все отношения.
Оставалась только одна забота – спокойно писать, а для этого было нужно одиночество. Именно поэтому он создал и воспитал меня. Так же, как детей учат ходить, он шаг за шагом учил меня служить ему.
Я и сегодня удивляюсь легкости, с которой приспособилась к такому существованию, хотя ничто не располагало меня к этому. Все мое детство прошло на деревенской свободе, я была окружена любовью матери. Мы ложились с курами и вставали с петухами. И вот, на удивление естественно, я стала, как и он, вести ночную жизнь, словно никогда и не жила по-другому. И это было не просто приспособлением. Можно сказать, что двадцать четыре часа из двадцати четырех и семь дней из семи я существовала только для него. Хоть у меня и нет ничего общего с той женщиной из его книг, которую он назвал Пленницей, но и я вполне заслужила это имя.
Помню один случай из самого первого времени, который так расписали, будто в первое воскресенье нашего отшельничества я оделась, как для мессы. Я каждый день одевалась для мессы, которая для меня происходила здесь, на бульваре Османн. На самом деле это был обычный день и, конечно, как всегда у г-на Пруста, вечером, а не в церковный час. Может быть, он заговорил о моей семье, моем детстве. Помню только, что я сказала ему:
– Видите ли, сударь, вот в чем дело. У вас я совсем никуда не выхожу, кроме как по вашим поручениям. Однако матушка воспитывала меня так, чтобы я ходила к мессе каждое воскресенье. А здесь я не только не хожу – почти и не вспоминаю.
Я говорила это без упрека, по одной только непосредственности, как ребенок. Он спокойно смотрел на меня с постели и ответил совсем тихо:
– Селеста, ведь вы делаете то, что куда достойнее и благороднее, чем ходить к мессе. Вы жертвуете своим временем ради больного. Это бесконечно возвышеннее.
Он был прав. Впрочем, мне кажется, это был единственный случай, когда могло показаться, будто я жалуюсь.
Вспоминая о начале моей службы, когда я уже осталась наедине с ним, я думаю, что главная разница между мною и кем-нибудь другим, например, Никола, была в самом подходе к делу. Он исполнял его чисто автоматически, но я бегала взад и вперед, занималась если не тем, так этим: кофе, уборка, телефонные звонки – или сходить за чем-нибудь, отнести письмо, разложить по местам газеты и бумаги, пока эти кучи не вытеснили самого г-на Пруста из постели, топить камин, наливать ванну для ног – и все это легко, как пение птицы, которая перепрыгивает с ветки на ветку. Бывало, я замертво валилась от усталости, но то ли не осознавала этого, то ли просто не думала, как не вспоминала о мессе, потому что мне ни единой секунды не было скучно. С одной стороны, все шло как по нотам, но с другой – постоянно возникало что-нибудь неожиданное: приветливый жест, или интересный разговор, или его радость от собственной или чьей-то работы. А может быть, я просто не считала это своей профессией, и мне было легко. За все эти восемь лет ни одного раза не возникло и речи, что я останусь насовсем. Когда Одилон вернулся с войны, он сказал мне: «Ну и ну, кто бы мог подумать, что ты окажешься здесь!»
Я уже говорила, что очень быстро вошла в ритм жизни, то есть в то особенное, неповторимое время, внутри которого не жил никто. Там не считали часы. Все зависело от его работы и того, что было для нее необходимо, от явившегося вдруг желания, от удовольствия или неудовольствия проведенных в гостях вечером, от какой-нибудь встречи или приходившего визитера, со всеми последствиями для его болезни. Вначале я продолжала по привычке вставать довольно рано, да и он еще не задерживал меня позднее полуночи или часа. Прежде чем уйти, я делала все, как учил Никола: убирала от постели серебряный поднос и ставила вместо него на ночь лаковый с бутылкой воды «Эвиан», маленькую чашечку и сахарницу, если бы ему захотелось сделать себе питье на электрическом кипятильнике, чего, впрочем, никогда не бывало; за восемь лет мне ни разу не случилось унести хоть одну бутылку «Эвиана», из которой он отпил бы даже каплю.
Зато происходило немало неприятностей с кипятильником, который включался электрической грушей, так же как звонок и прикроватная лампа, – всего их было три. Иногда по рассеянности или увлекшись работой, желая позвонить, он нажимал на грушу кипятильника, который без воды начинал гореть с невыносимым запахом, а ведь он вообще не терпел никаких запахов! Я прибегала и каждый раз – тогда я была способна на это – чинила проволочку или относила в мастерскую Морзе.
Наконец, если ничего не случалось, проверив все, что нужно на ночь, я уходила. Однако даже в то время, пожелав мне спокойной ночи, уже через пять минут, а быть может, через полчаса, он иногда звонил. Я уже лежала в постели, приходилось надевать халат и идти в распущенными волосами. Он говорил:
– Бедная Селеста! Вы уже легли? Простите меня, – хотя прекрасно знал, что я уже легла.
– Ничего, сударь, я всегда рада услужить вам.
И говорила это вполне искренне, не как Никола, который ворчал, услышав звонок: «Все, я ухожу! И чего только ему все время от меня надо?» Но мне это не было неприятно. Возможно, что я завоевала его доверие еще и потому, что, входя к нему в комнату, всегда улыбалась.
Иногда он звал меня без особого повода – например, чтобы удостовериться все ли приготовлено на ночь, но бывало, ему что-то приходило в голову, и он предупреждал меня:
– Дорогая Селеста, может быть, я завтра все-таки поеду, если буду чувствовать себя в силах. Мне хотелось бы кое-кого повидать.
И, объяснив, куда и почему ему нужно, отсылал меня:
– Ладно, мы обсудим все это завтра. Я попрошу позвонить туда и узнать, можно ли мне приехать.
Или даже просил позвонить еще до своего пробуждения, а иногда звал меня потому, что решил изменить время для утреннего кофе:
– Дорогая Селеста, быть может, завтра я попрошу у вас кофе чуть раньше обычного.
И почти всегда это его непременное «быть может». А ночью или же утром при пробуждении он мог решить, что не надо звонить, что он никуда не поедет, или вообще не спрашивал свой кофе до шести или восьми вечера. Но я все время была наготове, одетая, и в ожидании варила заново его кофе.
Для развлечения я занималась вязанием кружев. Однажды он спросил меня, как я провожу свободные часы, и, когда я ответила, воскликнул:
– Но, Селеста, ведь нужно же читать!
Помню, он посоветовал «Трех мушкетеров». Я с увлечением прочла их. Несколько раз, вечерами, мы разговаривали об этой книге. С простодушной наивностью я спрашивала:
– Сударь, но как же этой женщине, этой миледи, всегда удавалось всех дурачить?
С каким-то удивлением он посмеивался и говорил:
– Да, это действительно так, Селеста...
Потом он посоветовал мне романы Бальзака:
– Увидите, как это прекрасно, и мы потом поговорим. Но все-таки по-молодости лет мне больше нравилось вязание. Один только Бог знает, как я теперь жалею об этом. Сколько бы мог он рассказать мне и сколькому научить!
Тем более что мы стали чаще и чаще беседовать друг с другом. Я совершенно сбилась со счета времени и вставала лишь тогда, когда нужно было готовить кофе, обычно не раньше часу или двух пополудни. Когда мы обсуждали, например, что нужно сделать, я, как ни в чем не бывало, могла сказать:
– Сударь, вчера вечером вы говорили мне...
А это «вчера вечером» часто означало восемь или девять часов утра уже давно начавшегося дня.
Вся жизнь была перевернута с ног на голову даже в самых простых вещах. Например, я могла делать уборку в квартире и в его комнате лишь когда он уходил, а поскольку это лишь редко происходило раньше десяти часов вечера, то практически я всегда убиралась по ночам, а уж окна вообще никогда не открывались для дневного света.
В кухне и в своей комнате я еще видела солнце, но во всю остальную квартиру оно никогда не проникало за закрытые шторы. Пробковая комната г-на Пруста защищалась от него еще и ставнями и двойными голубыми занавесями. Благодаря также двойным стеклам внутрь не проникал и шум – даже звуки трамвая с бульвара. У нас всегда была или ночь, или электричество.
Теперь я поняла, что все старания г-на Пруста, все эти великие жертвы ради его труда, – все было направлено на то, чтобы, существуя вне времени, вновь обрести его. Вслед за остановившимся временем воцаряется молчание. И это молчание было нужно ему для того, чтоб раздавались только те голоса, которые он хотел слышать, – голоса из его книг. Но в то время я ни о чем таком и не думала. Зато теперь, в одиночестве бессонных ночей, мне представляется, что я вижу его, остававшегося в одиночестве в созданной им ночи, даже если снаружи и был уже давно день, за своими тетрадями. И подумать только, ведь и я была там же, не догадываясь, что он сам хотел этого одиночества и молчания, хотя и знал, что они убивают его. Уже потом профессор Робер Пруст сказал мне: «Мой брат мог бы прожить и дольше, если бы жил так, как все. Но он жертвовал всем ради своего труда, нам остается только склониться перед ним». И я слышу голос г-на Пруста:
– Я очень устал, дорогая Селеста. Но ничего не поделаешь, так надо...








