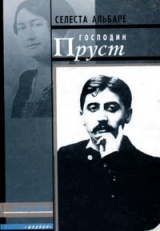
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
XXIII
ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ И СТРАХА
Вспоминаю один странный случай, который так и не разъяснился впоследствии и о котором г-н Пруст сохранял полное молчание. Много лет думая о происшедшем, я пришла к заключению, что это связано с самим духом и содержанием его труда.
Если бы я вела дневник, гак предлагал мне сам г-н Пруст, то, конечно, могла бы установить и точную дату. Во всяком случае, это, несомненно, произошло еще на бульваре Османн, в самом конце войны, скорее всего в 1917 году, потому что жила тогда без Одилона и без сестры Мари.
Я выделяю этот случай особо именно из-за произведенного на меня столь глубокого впечатления, что я волнуюсь всякий раз, вспоминая о нем и думая о его значительности.
Вот что случилось.
Однажды вечером – а не следует забывать, это означает около шести-семи часов утра, потому что он уезжал, а потом «немножко» поболтал со мной, – я ушла, договорившись, как всегда, о часе, когда подавать ему кофе.
Я легла спать и встала, как обычно, около полудня или часа. К нужному времени приготовила кофе и молоко – круассанов тогда уже не было, поставила кофейник на водяную баню и стала ждать звонка.
Проходит час, еще несколько часов. Ничего.
Продолжаю ждать, занимаясь разными делами: бельем, уборкой кухни и своей комнаты – не помню уж что еще.
В общем, всяческие мелочи, от которых не бывает шума. Именно это самое страшное, потому что г-н Пруст слышал буквально все. Как только он ложился отдыхать, до тех пор, пока не было никаких признаков жизни, воцарялась неподвижность.
А с неподвижностью нарастает беспокойство. Невозможно оставаться спокойной, сидя на стуле с вязаньем и стараясь убить время. Тем более что и во всем доме стараются не шуметь, чтобы не помешать г-ну Прусту. Наступает ночь и вместе с нею уже полнейшая тишина. Наверху, на третьем этаже, опустел и заперт кабинет дантиста Вильямса. Под нами доктор Гагэ с женой и кухаркой госпожой Шевалье. Все они ранние птички.
Уже полночь. Беспокойство перерастает в страх. В голове проносятся мысли: почему он не звонит? Что случилось? Боже, неужели приступ болезни... А вдруг он умер? Что же делать?
Потом насочиняли множество басен по этому поводу: будто я чуть не сошла с ума, бегала разбудить г-жу Шевалье, чтобы спросить совета, а она сказала, что надо нарушить запрет г-на Пруста и войти в его комнату. Все это, как и многое другое, не более чем еще одна глава в собрании приписываемых мне всяческих измышлений. Благодарю покорно!..
В конце концов я не выдержала, но все-таки не осмелилась бы переступить самый священный запрет г-на Пруста и перешагнуть порог его комнаты без звонка.
Наступила полночь, и я решилась на самую крайность – выйдя из кухни, пошла обычным путем, стараясь идти на цыпочках, чтобы не было ни малейшего шума.
Подойдя к двери его комнаты, остановилась и, задерживая дыхание, прислушалась. С другой стороны дверь была заглушена еще и портьерой.
Ничего не было слышно, совершенно ничего.
Я пошла обратно по малому коридору, где была туалетная комната и дверь, располагавшаяся почти рядом с его кроватью.
Прислушалась опять. Ничего.
Возвратившись к себе в комнату, легла, но вряд ли много спала. Еще никогда не было, чтобы он так долго не звонил; да и впоследствии это ни разу не повторялось. Я утешала себя лишь тем, что, быть может, он решил дописать до конца главу. И тем не менее впервые г-н Пруст не пил свой кофе. Или он так устал, что все еще спит или отдыхает?
Но когда и на следующий день, да еще к вечеру, он так и не позвонил, я уже перепугалась по-настоящему и совершенно не знала, что делать.
До сих пор не могу понять, как я только удерживалась. Надо было иметь мою тогдашнюю молодую голову, чтобы окончательно не свихнуться.
И только в одиннадцать вечера на второй день он, наконец, позвонил.
Стоит ли говорить, как я бежала, испытывая и беспокойство, и любопытство, и облегчение. Он лежал в постели, бледный и молчаливый, как всегда бывало после окуриваний, и только знаком руки попросил кофе. Я не могла нарушить обычай и заговорить первой, тем более спрашивать его о чем-то. А чтобы он сказал что-нибудь сразу после пробуждения – для этого нужна была какая-то очень важная новость, и случилось это за все мои годы всего один раз, о котором я еще расскажу. Кроме того, при виде моего лица он мог еще ради развлечения нарочно ничего не говорить; на такое поджаривание г-н Пруст был вполне способен.
И только после кофе он заговорил со мной. Ну как, Селеста, что же вы подумали? Совершенно ничего, сударь; но вы сильно напугали меня, и я очень беспокоилась.
– И вправду беспокоились?
– Не то слово, сударь. Естественно, раз вы не желаете, чтобы к вам входили, мне остается лишь повиноваться. Но я никак не могла решить, что мне делать. И это было не очень приятно. Только когда вы позвонили, я успокоилась.
Глядя на меня, он немного помолчал, потом спокойно и с какой-то серьезной улыбкой сказал:
– Дорогая Селеста... я тоже подумал, что, быть может, мы больше не увидимся.
От волнения и из деликатности я так и не спросила его о причине. Потом он сказал:
– Но ведь вы все-таки приходили, правда?
– А вам не показалось это, сударь?
– Да, вы приходили. Я знаю. Я все прекрасно слышал. Сюда и сюда. И он рукой указал на обе двери. Больше не было сказано ни слова, и мы уже никогда не возвращались к этому. Я так ничего и не узнала. Мы могли болтать, шутить, но каждый оставался на своем месте; ни за какие блага я не позволила бы себе задавать вопросы.
Рассказывали, будто бы в конце 1921 года случился еще один подобный инцидент, когда он принял слишком большую дозу веронала и опиума и сильно отравился, и будто бы за этим стояло подсознательное стремление к самоубийству.
Какая глупость! Не говоря уже о том, что г-н Пруст осуждал самоубийство, как, например, в случае с его другом Жаком Бизе, он никогда и не думал укорачивать себе жизнь: своя книга была его божеством, и желание завершить ее не допускало даже такой мысли. Он доказал это, трудясь до самого последнего вздоха. Все эти домыслы и явились одной из причин, побудивших меня заговорить, прежде чем перейти в иной мир.
Вероятно – я не утверждаю, что именно так, ведь сам г-н Пруст ничего не сказал мне, – он почти два дня не звал меня совсем не из-за чего-то с ним случившегося.
У него вообще ничего такого не случалось, кроме одного раза, когда доктор Биз прописал ему какое-то неподходящее лекарство, от которого он сразу же отказался. А этот случай был просто раздут всяческими сплетнями и пересудами.
Я убеждена, г-н Пруст хотел как можно полнее и глубже пережить то, что было нужно для его книги, а именно – опыт умирания, ощущение ускользающего сознания, и, зная его, я уверена, что он тщательно обдумал нужную дозу – может быть, это был веронал, – чтобы сохранить ясность мысли.
Возможно, его интересовало тогда медленное угасание одного из персонажей, писателя Берготта. И хотя г-н Пруст в окончательном виде описал смерть Берготта лишь около 1921 года, незадолго до своей собственной, не следует забывать, что он всегда видел всю свою книгу в целом.
Мне видится в этой истории прежде всего величие человека, его преданность своему делу. И эта великолепная утонченность вместе с нежностью, когда он сказал:
«Я тоже подумал, что, быть может, мы больше не увидимся», – хотя сама я ничего такого про себя не говорила.
XXIV
ОТВЕРГНУТАЯ РУКОПИСЬ
Понимая страсть г-на Пруста к своему труду, о чем свидетельствует не только предыдущий эпизод, но и вся его Жизнь, да еще присовокупив сюда столь свойственную ему непреклонную волю воплощать свои идеи с нетерпением, которое при необходимости умеет быть терпеливым, легко представить, какое значение имел для него тот день, когда он решал, что можно уже отдавать книгу в печать.
Мне было известно об отношениях г-на Пруста с издателями только по его рассказам – когда я появилась на бульваре Османн в качестве «курьера», только что вышла – «В сторону Свана», первая книга его «Поисков утраченного времени», извлеченная из старых клеенчатых тетрадей. Он подписал контракт с Бернаром Грассе в марте 1913 года, я тогда как раз выходила замуж и, конечно, даже не слышала его имени. И навряд ли что-то знала о том, как делаются книги, – мне был двадцать один год, и я совсем недавно приехала из деревни.
Впоследствии стало понятно, что он сделал все необходимое для этой публикации: использовал свои связи среди друзей в посещавшихся им салонах, а также в дирекции «Фигаро», где иногда появлялись его статьи, и прежде всего знакомство с Кальметтом, которого вскоре застрелила жена министра Кайо.
Как и в других делах, здесь он тоже не любил являться никому неизвестной личностью. Поэтому сначала кто-то другой занимался необходимыми приготовлениями. Однако ему были нужны не просто рекомендации. От тех, кто соглашался на это, требовалось понимание ценности не только книги, но и значительности ее автора. Я не сомневаюсь, если бы он сам уже тогда не сознавал этого, то и не стал бы предпринимать никаких демаршей.
Что касается «Сванов», то, во-первых, это была очень большая рукопись – от тысячи до тысячи двухсот страниц (около семисот, отпечатанных на машинке). Во-вторых, она не походила ни на что, появлявшееся в то время. Его хлопоты начались в 1912 году. Г-н Пруст имел ввиду прежде всего два издательства: «Фаскёль», солидную фирму, куда его уже рекомендовали, и «Новое Французское Обозрение», совсем еще молодое, но привлекавшее своей шумной новизной и издававшимся литературным журналом «НРФ» с его поколением молодых авторов, поддерживавших друг друга, о которых тогда много говорили: Андре Жидом, Полем Клоделем, Жаном Шлюмберже, Франсисом Жаммом, Жаком Копо. Последний, правда, занимался больше своим театром «Старая голубятня». Деловой частью заведовал Гастон Галлимар, женатый на дочери влиятельного банкира Лазара, – впрочем, очень красивой и элегантной светской особе, обладавшей тонким вкусом. К «Новому Французскому Обозрению» г-на Пруста подталкивал князь Антуан Бибеско, всегда увлекавшийся последними новшествами. Он же посоветовал ему подписаться и на «НРФ». Со своей стороны, г-н Пруст еще в прежние годы, будучи летом в Кабуре, познакомился с Гастоном Галлимаром. Кажется, он как-то рассказывал, что устраивал там званый обед в «Гранд Отеле» и пригласил г-на Галлимара, который не был тогда еще издателем.
Знал он и Андре Жида по светскому знакомству пятнадцати или двадцатилетней давности.
Короче говоря, г-н Пруст вполне мог и сам представить себя, но это было бы против его правил. И в «Фаскёль», и в «Новом Французском Обозрении» нашлись друзья, чтобы рекомендовать его объемистый манускрипт. Кальметт из «Фигаро» отдал в начале 1912 года первый просмотренный и исправленный экземпляр для «Фаскёль». Хотя через князя Антуана Бибеско г-н Пруст и встречался с Жаком Копо и даже решился написать Гастону Галлимару, князь Антуан все-таки сам взял второй, не вполне исправный, экземпляр и отдал его Андре Жиду, ради чего он даже устроил вместе с братом званый обед. Это было осенью того же 1912 года.
Надо сказать, что оба брата Бибеско, Эммануэль и Антуан, горячо симпатизировали г-ну Прусту и его сочинениям. Прочитав рукопись «В сторону Свана», они сразу полюбили эту книгу.
– Я знал их тонкий вкус, – рассказывал мне потом г-н Пруст, – и поэтому отдал читать роман – во всяком случае, начало. Оба в один голос с их итальянской восторженностью, свойственной румынам, заявили: «Ма-р-р-сель, это непод-р-р-р-ажаемо! Никто не пишет, как вы!»
Итак, рукопись оказалась сразу в двух местах. Но обе стороны хранили молчание. Три месяца никакого ответа от «Фаскёль» и ничего от «Нового Французского Обозрения» ни за две недели, ни за три, ни за месяц.
Князь Антуан приехал к г-ну Прусту:
– Ну, как дела, Марсель, что нового?
– Ничего, никакого ответа.
– Неужели! Никакого ответа? В конце концов князь Антуан отправился к Андре Жиду в «Новое Французское Обозрение», помещавшееся тогда на улице Мадам в квартале Сен-Сюльпис. Жид сказал ему, что рукопись не принята:
– Наше издательство публикует серьезные книги. А о такой вещи не может быть и речи – это литература светских бездельников.
И он вернул рукопись Антуану Бибеско. Кажется, дня за два до Нового Года. Потом пришло письмо Жака Копо, более деликатное, но в том же смысле и с подтверждением отказа.
Тут-то и начинается эта знаменитая история, дошедшая чуть ли не до скандала – правда ли, что Жид был единственным, кто вообще хотя бы видел саму рукопись? Это просто какая-то комедия, разыгравшаяся вокруг завязывавшей пакет бечевки.
Впоследствии Жид признавал свою ошибку, однако объяснял свой отказ одним шокировавшим его смысловым огрехом текста. Г-н Пруст, говоря в самом начале «Свана» о «тетушке Леони» (его собственная тетка Элизабет) и ее «бледном увядшем лице», чтобы подчеркнуть всю ее худобу и осунувшееся лицо, написал о «позвонках, просвечивавших, как острия тернового венца или бусинки четок». Вот эти «позвонки» на лице «тетушки Леони» и встали поперек горла Андре Жиду и погубили в его мнении всю книгу.
Я бы не возражала, если бы это объяснение не возникло много позже, да и кроме того, версия самого г-на Пруста была совершенно другая. Это хотя и мелкий, но все же эпизод истории, о котором он часто говорил мне, причем в самом категорическом тоне:
– Селеста, уверяю вас, в «Новом Французском Обозрении» мой пакет даже не открывали.
И его доказательство всегда представлялось мне убедительным. Но сначала нужно вернуться назад – еще к Никола Коттену, который упаковывал тогда рукопись для князя Бибеско.
(Попутно замечу, что английский критик Пэйнтер среди всех прочих измышлений неизвестно откуда взял в своей книге, будто именно я, Селеста, тогда «невеста Одилона Альбаре», находясь в Париже, сама завязывала пакет. Это сплошной вымысел. В 1912 году, когда все и произошло, я еще даже не обручилась с Одилоном, вообще не выезжала из Оксилака, а тем более в Париж, куда попала уже только после замужества, в следующем, 1913 году. Вот как эти господа обращаются с правдой, если их прельщают всякие выдумки!)
Но возвратимся к Никола... Я уже говорила, что в самом начале меня определили «курьером» носить надписанные книги, а упаковывал их Никола, который делал все очень тщательно, и пакеты получались у него великолепные. Особенно хорошо он завязывал узлы каким-то совершенно необыкновенным способом. Вот это и служило для г-на Пруста неопровержимым доказательством того, что его рукопись вообще не открывали ни Андре Жид, ни кто-нибудь другой в «Новом Французском Обозрении».
– Я видел пакет и до, и после и абсолютно уверен, что он возвратился ко мне нетронутым. Как ни старайся, самый искусный умелец никогда не сможет повторить, да еще на том же самом месте, завязанный Никола узел. Практически это просто невозможно.
Да и сам Никола был уверен, что узел никто не трогал.
Г-на Пруста очень забавляла вся эта история, и он всегда смеялся, когда о ней заходила речь.
Его убеждение оставалось до конца неизменным. Он считал, что отказ был основан только на предубеждении Андре Жида против парижских салонов, где бывал Пруст и где о нем много говорили. Он заранее, даже не читая, отверг книгу «светского бездельника».
– Он судил обо мне по моему образу жизни и светским знакомствам. Моя камелия в бутоньерке, возможно, внушала ему и его друзьям мнение о моей никчемности, – с иронией говорил мне г-н Пруст.
Но никогда, даже при его первых откровенных разговорах со мной, не было ни малейшего следа язвительности, желчи или обиды, хотя тогда память об этой истории оставалась еще совсем свежей. Он даже и не упоминал, что ведь и сам Жид бывал в салонах, и его тоже можно было назвать «бездельником».
А когда я говорила, что нельзя же было не рассердиться и не огорчиться при подобной несправедливости, г-н Пруст с улыбкой только качал головой. По-видимому, он уже слишком хорошо знал людей и воспринимал все это с великодушием и благородством лишь как ничтожную мелочь. Его замечания всегда были снисходительными и мягкими.
И все же конец 1912 года принес ему двойное разочарование: через два или три дня после возвращения рукописи из «Нового Французского Обозрения» он получил еще и отказ от «Фаскёль» – правда, изящно изложенный и, надо сказать, основанный на внимательном прочтении романа.
Тем не менее его разочарование было все-таки вознаграждено, и, зная г-на Пруста, я вполне уверена, что он никогда не сомневался в этом.
Не вдаваясь в подробности издания его книг, я хочу лишь напомнить, что после этой двойной неудачи он сговорился с молодым издателем Бернаром Грассе благодаря своему другу Рене Блюму, брату социалиста Леона, которому мать г-на Пруста говорила: «Дорогой Леон, объясните мне, каким образом, проповедуя столь радикальные идеи, вы еще не раздали свое состояние?»
По контракту, подписанному в начале 1913 года, г-н Пруст оплачивал издание из своих средств, что он предвидел с самого начала, понимая все трудности, связанные с новизной его труда. Но когда он чего-то хотел, деньги уже не существовали для него, тем более что он никогда не писал ради денег.
Почти сразу же после выхода «Сванов» о них стали говорить, и директор «НРФ» Жак Ривьер страшно обозлился на Андре Жида за его отказ. А в начале 1914 года Галлимар и некоторые другие издательства уже предлагали г-ну Прусту гонорары, лишь бы заполучить его роман.
Вот здесь и пришел его черед смеяться, чему я сама была свидетельницей на протяжении целых двух лет: в феврале 1914 года сам г-н Жид, бия себя в грудь, явился в свою Каноссу на бульваре Османн, о чем речь еще впереди.
Думаю, именно тогда г-н Пруст забавлялся больше всего и со своей постели руководил всеми действиями. С одной стороны, в глубине души ему хотелось издаваться у «Галлимара», чего он нисколько от меня не скрывал:
– Мне нужно хорошее издательство. И не то что я недоволен «Грассе», совсем нет. Но теперь из-за войны их деятельность парализована; моя вторая книга отложена до греческих календ. Кроме того, я чувствую, что в «Новом Французском Обозрении» есть люди, такие, как Жак Ривьер, которые привержены к новым ценностям, и это мне нравится.
С другой стороны, из щепетильности в отношении Бернара Грассе и лукавства к Жиду, Копо и Галлимару, которые ошиблись и которых он хотел немного помучить за их легкомысленное предубеждение, г-н Пруст, обыкновенно столь нетерпеливый, теперь совсем не спешил.
– Ах вот как, значит, светский бездельник их все-таки интересует. А мы пока повременим, верно, Селеста? Сами явятся, ведь теперь все в моих руках. Да, повременим.
Эта игра безумно забавляла его.
Помню, что в первые два года войны Гастон Галлимар и Жак Копо отправились с официальной миссией в Соединенные Штаты, и даже оттуда они продолжали докучать г-ну Прусту. В «Новом Французском Обозрении» связь с ним была поручена некой госпоже Лемарье. Боже мой, сколько раз она приходила к нам на бульвар Османн с письмами для г-на Пруста! Но он никогда не принимал ее. Бедная г-жа Лемарье, до сих пор слышу ее голос:
– Г-н Галлимар написал мне, что г-н Пруст должен, наконец, решиться на что-то, вы понимаете, со всеми этими военными трудностями в издательстве... Но г-н Галлимар очень хочет, чтобы это дело устроилось, и г-ну Прусту нужно принять решение...
Это были настоящие мольбы. Когда я говорила ему о ее визитах, он отвечал:
– Пусть ходит, у нас есть время, Селеста. Этот г-н Галлимар порхает, как бабочка, теперь он увидел цветок и хочет на него сесть. Ничего, пусть еще покружится.
Тем не менее я почти уверена, что для него это дело было уже решено: несмотря на симпатию к Грассе, свою вторую книгу, «Под сенью девушек в цвету», он отдаст Галлимару и его друзьям.
И все же совесть беспокоила г-на Пруста. Об этом он часто и подолгу говорил мне уже когда сговорился с Галлимаром в 1916 году после множества его писем и всяческих происков.
– С одной стороны, я доволен изданием в «Новом французском Обозрении», но в то же время очень неприятно разрывать контракт с Бернаром Грассе. Конечно, я совершенно свободен, потому что «Сван» вышел за мой счет, и я ничего ему не должен. Но мне уж очень тяжело уходить от него. Он порядочный человек и доказал это во всех наших отношениях; с его умом и способностями он, несомненно, будет выдающимся издателем. Кроме того, этот человек не лишен и душевных качеств. Да, Селеста, со мной он вел себя безупречно. Но все-таки его дела парализованы войной, и он долго не сможет издавать мои книги. А меня торопит время – из-за болезни я никак не могу ждать. Остается только надеяться, что он поймет это.
Как ни тяжело, но придется писать ему.
Произошел обмен письмами, и Бернар Грассе очень деликатно, с достоинством и сожалением возвратил г-ну Прусту свободу.
– Он поразил меня, Селеста, я просто счастлив, что мы расстались по-хорошему. Как я и говорил, это благородный человек!..
Г-н Пруст навсегда сохранил признательность и уважение к Бернару Грассе.
Но совершенно другие отношения сложились у него с Гастоном Галлимаром. Раз уж я обещала не грешить против истины ради памяти о г-не Прусте, то должна сказать, что он никогда не симпатизировал этому издателю. Но г-н Пруст был слишком воспитанным и вежливым человеком, чтобы показывать это. Хотя, к примеру, он принял его всего один раз – да и то не без затруднений – и при обстоятельствах, о которых речь еще впереди. Это произошло уже после переезда на улицу Гамелен. Я не припомню, чтобы он говорил о каких-нибудь других встречах с ним. Кажется, в самом конце, всего за несколько недель до смерти г-на Пруста, Гастон Галлимар просил у него об интервью, но, если не ошибаюсь, мне не приходилось даже открывать ему дверь, и последним, кого г-н Пруст видел из «Нового Французского Обозрения», был Жак Ривьер, с которым он тогда долго разговаривал.
По сути дела, между ними не было обычных человеческих отношений, как, впрочем, и с другими сотрудниками издательства за двумя исключениями, в том числе и Жака Ривьера, но я еще вернусь к этому.
Оставались только чисто деловые связи, относившиеся к процессу издания. Г-н Пруст посылал меня или с записками, или звонить по телефону, чтобы не было никаких упущений из-за его вставок и исправлений текста. Помню, как однажды при всей своей вежливости он все-таки рассердился – дело касалось «Девушек в цвету», которых вследствие большого объема набирали мелким шрифтом, чтобы ради экономии втиснуть в один том.
– Посмотрите, Селеста, ведь это невозможно читать! Кто же будет покупать такую книгу? Какой-то абсурд! Пусть делают все заново и, если потребуется, издают в двух томах.
Часто в связи с такого рода делами мне приходилось поздно вечером бывать у г-жи Лемарье на улице Льеж.
Ну, а что касается денежных отношений... За все время его сотрудничества с «Новым Французским Обозрением» я припоминаю только два гонорара – десять тысяч франков в самом начале и уже незадолго до смерти еще тридцать тысяч. Если бы были какие-то другие, я, конечно, знала бы о них.
Для г-на Пруста самым главным оставалось издание его книг, всем остальным он охотно жертвовал. С какой иронией он говорил о своих денежных интересах:
– Когда я спрашивал у Гастона Галлимара, нет ли у него чего-нибудь и для меня, он всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы я немного подождал, что еще слишком рано или еще не сведены все счета...
Однажды я по наивности сказала:
– И все-таки, сударь, пусть бы г-н Галлимар убедил вас, что у него нет денег, несмотря на весь банк Лазар!
– Дорогая Селеста, как вы не понимаете! Ведь это еще одна причина!
Когда он получил второй гонорар, уже в самом конце – тридцать тысяч франков, все та же ирония: – Тридцать тысяч... Что ж, Селеста, дело пошло! Вот видите, теперь деньги станут прибывать и прибывать...
Как я уже говорила, в «Новом Французском Обозрении» он выделял и даже любил двух совершенно разных людей, с которыми охотно встречался: уже упоминавшегося Жака Ривьера, генерального директора «НРФ», создавшего репутацию этого журнала, и коммерческого директора Тронша. Г-н Пруст абсолютно доверял Жаку Ривьеру, считал его очень умным, обходительным и мягким.
– Это просто ребенок, – говорил он о нем, – и достоин за свою безупречную чистоту всеобщей любви.
И еще одно обстоятельство привлекало к нему симпатии г-на Пруста: несмотря на плохое здоровье, Жак Ривьер тоже был фантастическим тружеником.
Ривьера настолько восхищали романы г-на Пруста, что он даже смущался в его присутствии.
– Он стесняется разговаривать со мной, Селеста, но мне все равно приятно быть с ним и слушать его.
Что касается Тронша, то это был совсем другой случай.
– Он порядочный и славный человек. Боюсь, что в издательстве его не очень-то и любят.
Г-н Пруст, несомненно, вполне доверял ему, как и Ривьеру, и даже выслушивал его мнения о своих книгах. Припоминаю, что именно он подсказал ему название будущей «Пленницы», которую г-н Пруст сначала хотел назвать «Содом и Гоморра III» и «IV». Как опытный коммерсант, Тронш понял, что при сохранении прежнего названия, многие из уже купивших «Содом и Гоморру I» и «II» не обратят внимания на нумерацию.
При всей обходительности Тронш не стеснялся в выражениях, что немало забавляло г-на Пруста. Помню, как он восхищался после одного из его визитов – кажется, в году, – когда уже начиналась слава г-на Пруста и его книги стали продаваться:
– Представляете, Селеста, он сказал, что теперь Галлимар и его люди торжествуют победу, уверенные, что наконец-то заполучили меня. Понятно, если доволен Ривьер, ведь он первым сказал Андре Жиду после отсылки рукописи: «Как только вы могли сделать это? Даже не читая!» Ну, а другие?.. Конечно, у них есть причина быть довольными; знаете, что сказал мне Тронш? «Уверяю вас, именно вы спасли издательство, ведь мы были в ужасном положении».
Думаю, и Жак Ривьер подтвердил это г-ну Прусту.
Кроме того, у Тронша и Ривьера были общие взгляды и их связывала неразлучная дружба. Это также привлекало г-на Пруста.
– Как порядочные люди, они держатся друг за друга, – говорил он.
Г-на Пруста уже не было среди нас, когда скончался Жак Ривьер; и он, несомненно, оплакивал бы его. Тронша ничто не могло утешить. Он отдавал свою кровь Ривьеру, который умирал от лейкемии. Потом я встречалась с ним, и он объяснил, как происходило переливание: «Я лег рядом с ним, и мне вкололи шприц. Но ничего не помогло».
Вполне понятна привязанность г-на Пруста к этим двум людям, я тоже их любила. Они занимались своим делом с вдохновением, но не были глухи и ко многому другому. Именно поэтому он и выделял Ривьера и Тронша среди всех прочих.
Что касается Гастона Галлимара, то я не знала его, и не мне судить о нем. В 1971 году на столетнем юбилее г-на Пруста в парижской ратуше после прекрасной речи Жака де Лакретеля меня познакомили с Клодом Галлимаром, его сыном. Он не произвел на меня особого впечатления. А у его отца мне запомнилось только его пристрастие к галстукам-бабочкам – возможно, по ассоциации со словами г-на Пруста.








