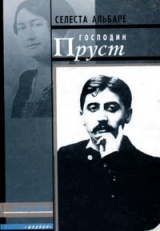
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
XVI
ДРУГИЕ ВЛЮБЛЕННОСТИ
Я уже говорила, что, на мой взгляд, г-н Пруст никогда и никого по-настоящему не любил. Это вовсе не означает неспособности к любви. Просто, как мне кажется, с самой ранней молодости у него были слишком большие амбиции в литературе, чтобы он мог привязываться к людям как-то иначе, чем ради того, что сам впоследствии называл своими «поисками». Уже тогда он понял, насколько связанные с этим требования, да еще и плохое здоровье, затрудняют общение. Несомненно, его привязанность ко мне объясняется только тем, что он видел, как меня очаровывает и привлекает все исходящее от него.
И, конечно, было много разговоров о том, что из-за постоянных любовных разочарований в молодости он отвернулся от женщин ради других отношений.
Здесь я еще раз хочу со всей определенностью заявить, что дала себе клятву рассказывать доподлинно мне известное или же недвусмысленно вытекающее из его намеков, когда я достаточно уверена в правильности своего понимания.
И если я говорю, что г-н Пруст никогда не давал мне ни малейшего повода представить его в известном свете, из этого отнюдь не следует, что я претендую на знание абсолютной истины или хочу нарисовать идеальный портрет одними только светлыми красками. Да и зачем бы это было нужно? Его очарование от этого ничуть бы не возросло.
Самое главное, чтобы все поняли – именно таким, каким он был, без всяких изъятий, я любила и терпела его и наслаждалась им. И какой был бы для него толк, если бы я изобразила его этаким ангелочком?
Две весьма существенные вещи я могу несомненно подтвердить. Во-первых, повторяю еще раз, он рассказывал мне обо всем и не думаю, будто в этом особенном отношении его могло останавливать само по себе то, что я женщина. Во-вторых, в квартиру на бульваре Османн никто никогда не входил и не выходил без моего ведома – открывала двери только я, а ключей у г-на Пруста и вообще не бывало, он даже не знал, где они лежат. Кроме того, я непрерывно прислушивалась к звонкам, и ни малейшее движение не могло ускользнуть от меня даже во сне – во мне развилось на это как бы шестое чувство. При малейшем шорохе я просыпалась и вскакивала.
Остаются только его выходы из дома. Конечно, я не следовала за ним по пятам, но если возил его Одилон, он всегда обо всем мне рассказывал – правда, без особых подробностей, всего лишь: «Я отвез его туда-то и ждал». Одилон был человек долга и понимал, что дела клиентов его совершенно не касаются. Зато я знала все, потому что г-н Пруст сам мне обо всем рассказывал.
Если взять, например, тех молодых людей, которые могли бы к нам приходить, почти все они были литераторы и его почитатели, и никого из них нельзя было ни в чем таком заподозрить. Не говоря даже об их малом числе, приходили они, уж, конечно, не для галантностей! Помню критика Рамона Фернандеса: г-н Пруст говорил мне про него, что он ухаживал за одной девицей из аристократии, мадемуазель Хиннисдэль. По его мнению, от этого страдала репутация всего семейства. При всем том он превозносил качества ума, присущие Фернандесу. Был еще Эммануэль Берль, который сам рассказывал – впрочем, его я, кажется, и не видела, – что приходил к г-ну Прусту объясняться по поводу своих сердечных дел одновременно с тремя женщинами.
Один, правда, был совсем другим – молодой англичанин, приятель некоего г-на Гольдсмита или Гольдшмита, денежного мешка, который преследовал г-на Пруста своими приглашениями на обеды. Г-н Пруст не любил бывать там, он говорил, что этот чудак убийственно скучен. При всем том он не скрывал от меня принадлежности сего г-на к «племени содомитов» – лишнее доказательство откровенности в разговорах со мной. Сам г-н Пруст никогда не приглашал к себе этого англичанина:
– Не мог же я принимать его лежа. Он такой чопорный, что с ним нужен смокинг или хотя бы фрак.
Но все-таки г-на Пруста привлекала манера одеваться этого молодого англичанина; кажется, его звали Чарли, и особенно нравились его жилеты. Только лишь поэтому он раз или два согласился встретиться с ним у себя дома – чтобы как следует рассмотреть, во что тот одет, и, конечно, единственно ради своей книги. А потом г-н Пруст уже ни разу не виделся ни с молодым, ни со стариком.
Много говорили о его секретарях, будто бы он предпочитал здесь мужчин. Но у меня нет никаких сомнений, что это объясняется лишь его огромным уважением к женщинам и стыдливостью больного, прикованного к постели. Даже со мной во всем касающемся женщин он был очень сдержан в выражениях. Когда речь заходила о каких-то любовных связях, он умел весьма изящно избегать прямых высказываний, хотя при этом все очень легко угадывалось. Однажды он рассказал мне, что как-то раз, еще во времена «камелии», гуляя с герцогом д'Альбуферой, спросил его:
– Скажи, Луи, а ты проделываешь это со своей женой?
– Что ты, Марсель, разве так обращаются с женами! Г-на Пруста очень позабавило то, насколько был шокирован герцог, но он так и не объяснил мне, о чем все-таки у них шла речь.
Привычка к секретарям-мужчинам не помешала ему, как только возникло чувство доверия и даже, осмелюсь сказать, семейственность, попросить мою племянницу Ивонну переехать к нам на улицу Гамелен, чтобы перепечатать рукопись « Пленницы».
Я знала у него только одного домашнего секретаря, по имени Анри Роша. Он нашел этого человека в «Рице», где тот служил, кажется, для поручений при директоре ресторана Оливье Дабеска; г-н Пруст взял его по своей доброте, тронутый стремлением молодого человека добиться успеха в жизни.
Это был хмурый и молчаливый юноша, швейцарец, вообразивший себя художником. Если он и играл ту роль, которую ему приписывали, то г-н Пруст очень хорошо все это скрыл; но как? – спрашиваю я. Тогда мы жили уже на улице Гамелен, где расположение комнат было почти такое же, как и на бульваре Османн. Г-н Пруст занимал комнату в одном конце, а Роша в другом. Между ними была гостиная и еще будуар. Моя комната находилась возле входных дверей и представляла собой настоящий наблюдательный пост, с которого прослушивалась и просматривалась вся квартира, и ничто не могло ускользнуть от моего внимания.
У Роша было только одно достоинство – красивый почерк. В остальном, как говорил г-н Пруст:
– Он думает, будто занимается живописью.
Но и красивый почерк вскоре надоел г-ну Прусту. Вначале, иногда после кофе, в самом конце дня или вечером, он еще просил меня позвать его для работы и, бывало, диктовал ему, но по прошествии некоторого времени это совсем прекратилось. Роша сидел в своей комнате и подмалевывал какие-то картинки или куда-то уходил. Его почти и видно-то не было. Г-н Пруст говорил:
– Вместо помощи он лишь утомляет меня.
Желание помочь человеку свелось в конце концов к обыкновенной жалости.
Г-н Пруст продержал его у себя немногим больше двух лет, колеблясь между желанием расстаться с ним и все же не решаясь выставить молодого человека на улицу. Наконец он обратился к своему другу детства банкиру Орасу Финали, и устроилось так, что Роша куда-то уехал, чего хотел и он сам, – ему было найдено место в банке Буэнос-Айреса, а не Нью-Йорка, как потом рассказывали.
Роша был почти помолвлен с одной девицей, которая приходила к нему на улицу Гамелен, но, уезжая, он бросил ее в Париже. Г-н Пруст даже ходил к ней с утешениями. А по отношению к Роша у него не было никаких сожалений. Он только сказал:
– Наконец-то у нас опять все спокойно.
Но нельзя не сказать про обязательность г-на Пруста в отношении к тем, кто служил у него. Больше всего пролилось чернил по поводу Агостинелли, который до войны был, как и мой муж, одним из его шоферов. Оба они служили в знаменитой компании таксомоторов Жака Бизе. Мне кажется, у этого человека был неуравновешенный характер и он тоже стремился, как и Анри Роша, улучшить свое социальное положение. Сама я была мало знакома с ним, но Одилон хорошо знал его: они вместе работали на такси почти с самого начала, в Монако и Кабуре. Он говорил о нем:
– Это хороший парень, у меня всегда было с ним все в порядке.
Но его снедала жажда подняться выше, он стал проситься к г-ну Прусту на место секретаря. Это было в то время, когда он ушел из такси, чтобы возвратиться к себе на родину в Монако, где познакомился со своей подругой Анной и где нашел для себя работу, которую, правда, очень скоро потерял. Из любезности и опять же по своей доброте г-н Пруст согласился взять его. Он стал жить на бульваре Османн вместе с Анной, и, действительно, в рукописях того времени встречается и его почерк.
Это было в 1913 году, когда я выходила замуж. Прекрасно помню, как в одно воскресенье Агостинелли пригласил нас провести целый день в Фонтенбло, и мы даже взяли с собой завтраки. Но эта прогулка навела на меня ужасную скуку. Мужчины были счастливы своими воспоминания о работе в такси, а мне оставалась только женщина, настолько непривлекательная, что мой муж называл ее «летучей тлей». Я до сих пор помню ее черные прямые волосы и голос Агостинелли: «Где же ты, Нана?»
Но о самом Агостинелли у меня сохранились лишь смутные воспоминания, и я не могу утверждать что-то определенное. От Одилона мне было известно о его безумной страсти к механике, которую он перенес с автомобилей на аэропланы, и так надоедал этим г-ну Прусту, что тот в конце концов по своей доброте разрешил ему поступить на курсы летчиков при аэродроме в Бюке под Версалем. Поскольку у Агостинелли уже не было машины, возил его туда Одилон. За курсы платил, конечно, г-н Пруст по своей всегдашней щедрости. А когда Агостинелли потерял работу в Монако и просил снова взять его на место шофера, г-н Пруст без обиняков ответил ему, что уже поздно, и он не может просто так отставить Одилона, который стал его постоянным шофером и доверенным человеком.
Я знала от Одилона и то, что Агостинелли вполне серьезно считал себя способным быть секретарем. Судя по этому, он весьма высоко ценил свою персону. Г-н Пруст купил для него пишущую машинку, которую тот потом продал директору ресторана «Ларю» – как-то, придя за едой, я видела ее рядом с кассой.
Но вдруг в один прекрасный день Агостинелли уехал обратно на Лазурный берег. Думаю, здесь было немалое влияние его жены.
Дело в том, что ей не нравился Париж. Он писал из Антиба, где продолжалась его летная учеба, и надо сказать, что Агостинелли был льстецом. Как я поняла уже потом, он хотел убедить г-на Пруста помочь ему в покупке аэроплана, который он уже назвал «Сваном», по имени главного персонажа в романе. Но он еще был отчаянно смелым, просто до безумия. Едва получив свою лицензию летчика, он уже во втором полете, нарушив все правила, полетел над морем и пропал. Его тело вытащили из воды только через неделю, и глаза уже были обкусаны рыбами.
Агостинелли погиб 30 мая 1914 года. К этой трагедии присоединилось еще и то, что сразу после получения лицензии он на радостях написал г-ну Прусту длинное письмо, но оно пришло уже после известия о его смерти. Это, естественно, страшно поразило г-на Пруста. Потом он читал мне это письмо. Оно было очень милое, со множеством благодарностей и в то же время исполнено нескрываемого самодовольства. После гибели Агостинелли обрушился целый поток просьб его семьи, умолявшей г-на Пруста дать денег на поиски тела, – и это было сделано. А когда 7 июня его нашли, он послал цветы на могилу и через год сделал то же самое. Кроме того, он помог Анне и его брату. Говорили даже, будто этот брат приехал в Париж и был какое-то время секретарем г-на Пруста. Странно, но я ничего такого не помню, хоть и должна была бы знать об этом, поскольку уже тогда появилась на бульваре Османн. Единственным секретарем на моей памяти, кроме Анри Роша и моей племянницы Ивонны, был Агостинелли еще до его «бегства» в Антиб. Я бегала в то время «курьером» и раза два видела их вместе с Анной на кухне.
По поводу горя г-на Пруста от смерти Агостинелли насочиняли целые романы. Нашлись умники, которые обнаружили, что в его книге он хотя бы отчасти превратился в Альбертину, предмет влюбленности «Рассказчика». Но это уже просто смешно. Во-первых, Альбертина появилась в голове и тетрадях г-на Пруста намного раньше Агостинелли. Во-вторых, я не сомневаюсь, судя по его манере говорить о нем, что он относился к Агостинелли так же, как и к Анри Роша. Будучи шофером, он заинтересовал г-на Пруста как приятный собеседник – об этом не раз говорил мне и Одилон – и еще тем, что стремился пробиться в жизни; он был далеко не глуп, это показывают его прекрасно написанные письма. И по своей природной отзывчивости г-н Пруст хотел помочь ему. Если он и сердился на него, то лишь за «бегство» в Антиб, которое посчитал неблагодарностью после того, как приютил его на бульваре Османн и заплатил за учение в Бюке. Кроме того, при своей проницательности, зная безрассудную храбрость Агостинелли, он боялся, что тот наделает глупостей. При его даре проникать в души я не удивилась бы, узнав, что он предвидел трагедию.
Но думать, что г-н Пруст хотел держать возле себя Агостинелли как «пленника» собственных влечений, подобно «пленнице» Альбертине, это еще большая глупость.
То же самое можно тогда сказать и про Одилона, да, в конце концов, и про меня! Ведь все, кто служили у г-на Пруста, были в некотором смысле его пленниками.
Из других связей, которые хотели объяснить его наклонностями, удалявшими его женщин, было знакомство с Альбером Ле Кюзиа, изображенного в романе под именем Жюпьена, содержателя дурного дома. Здесь я могу говорить уже со знанием дела и самого этого человека, Кроме того, что г-н Пруст много рассказывал мне о нем, мне и самой приходилось видеть его. Откровенно говоря, он совсем мне не нравился, и я не скрывала этого от г-на Пруста. Но он и сам разделял мое мнение, так что моя неприязненность отнюдь не вытекает из предвзятости.
Это был высокий, как жердь, светловолосый бретонец, не заботившийся о своей внешности, и его холодные, как у рыбы, голубые глаза выдавали беспокойство, присущее подобной профессии, – нечто от преследуемого зверя, да оно и не удивительно, ведь к нему постоянно наведывалась полиция, и сам он то и дело попадал в тюрьму.
Начав с должности в знатных русских домах – у графа Орлова, князя Радзивилла и других, он чего только там не навидался. Князь Радзивилл-отец был известен своими специфическими наклонностями. А про графа Орлова он рассказывал, что тот даже во время званого обеда мог потребовать себе судно и опорожнялся в присутствии гостей. «Это похуже, чем кресло с дыркой времен Старого Режима», – говорил мне г-н Пруст.
Насколько я помню, он познакомился с ним у Радзивиллов – один из их сыновей бывал в кружке на улице Ройяль. Потом Альбер открыл собственное дело и стал хозяином гостиницы неподалеку от Биржи – это было в 1913 году, как раз при моем дебюте на бульваре Османн – а потом у него появились бани на улице Годо-де-Моруа, в квартале Мадлен. У этих мест такая репутация, что туда ходят только с вполне определенной целью. И, наконец, в 1915 или 1916 году он открыл нечто вроде дома свиданий для мужчин на улице Аркад.
Все сводится к тому, что, как говорят, г-н Пруст будто бы помогал ему для обустройства деньгами и мебелью и, кроме того, еще и сам бывал в его заведении.
Однако это не более чем светские сплетни – раз об этом все знают, почему бы и не поговорить?
Но прежде всего рассмотрим факты.
Действительно, г-н Пруст подарил ему кое-какую мебель, но это было задолго до пресловутого дома на Аркадах, еще когда Альбер обзавелся банями на улице Годо-де-Моруа. Так говорил мне сам г-н Пруст. По наследству от родителей и деда Луи у него скопилось столько мебели, что столовая в квартире была вся загромождена почти до потолка, и я протискивалась через нее, как в дремучем лесу. Кроме того, многое хранилось еще и в подвале, во дворе дома 102 на бульваре Османн. И когда Ле Кюзиа сказал, что у него не хватает денег на покупку мебели для его собственной комнаты в новом заведении, г-н Пруст позволил ему взять кое-что из подвала. В конце концов все свелось к зеленой полу-кушетке, паре кресел и нескольким занавесям.
Что касается денег, то, действительно, г-н Пруст субсидировал его, но на вполне определенных условиях, о которых я скажу позднее, и, уж конечно, не для устройств этих заведений. Во-первых, он вообще не раздавал деньги просто так; во-вторых, у Альбера были куда более богатые покровители, чем г-н Пруст. Рассказывали, будто в то время, когда мы жили на улице Гамелен, он хотел продать ковры и мебель, чтобы выручить Альбера. Все это неправда. Тогда у него уже не было никаких отношений с Ле Кюзиа, а помочь он хотел госпоже Шейкевич, но она с достоинством отказалась от его предложения.
Теперь по существу дела... На основании того, что говорил мне сам г-н Пруст, я уверена, он отдал эту мебель точно так же, как раздавал целыми пригоршнями чаевые. В качестве доказательства скажу здесь о том глухом негодовании, с которым он говорил мне про то, как Ле Кюзиа использовал его мебель на улице Аркад.
– Представляете, Селеста, ведь этот жулик выпросил у меня мебель, чтобы обставить собственную комнату на Аркадах, а употребил для своих омерзительных делишек. Никак уж не ожидал от него чего-либо подобного. Боже, какую глупость я сделал!
Это сохранилось в моей памяти тем более отчетливо, что все было сказано по горячим следам, сразу после визита Альбера. И я поняла – он уже никогда не простит ему.
Наконец, последнее. Если г-н Пруст и давал какие-то деньги, то, во всяком случае, не столь уж большие.
Он платил как бы чаевые за те сведения, которые Альбер доставлял ему, но г-ну Прусту случалось и самому бывать у него, конечно, только ради своей книги. Достаточно было только одного взгляда на Ле Кюзиа, чтобы понять: этот человек задаром не ударит и пальцем о палец. Хоть он и стал хозяином заведения, душа-то у него так и осталась лакейской. Но г-н Пруст платил еще и Оливье Добеска, директору ресторана в отеле «Риц», чтобы тот держал его в курсе всех событий: кто с кем сегодня обедал или какое платье было на госпоже такой-то.
Конечно, все эти истории, исходившие от Ле Кюзиа, были просто какой-то несъедобной стряпней. Ведь г-н Пруст никогда ничего от меня не скрывал, в том числе и весьма специфические наклонности самого Альбера. Он даже называл мне имена тех людей, которые постоянно бывали на Аркадах, – в том числе политиков и даже министров; Альбер снабжал его подробностями их пороков, это развлекало г-на Пруста, но чаще всего у него была скорее печальная нотка, и он говорил мне, что не понимает, как можно дойти до всего этого.
Когда ему нужно было узнать о чем-нибудь от Альбера, он призывал его на бульвар Османн, обычно после кофе, уже в конце дня. Ле Кюзиа сидел очень недолго, он всегда торопился обратно к себе на Аркады. Говорили, будто бы после войны за ним ездил Одилон. На самом же деле с запиской посылали меня, но я никогда не входила внутрь. Помню, что в этом доме было два выхода. Г-н Пруст всегда говорил мне:
– И не забудьте, Селеста, сначала спросить, здесь ли он, а потом уже отдайте письмо в собственные руки. Самое главное, в любом случае он должен вернуть его вам.
И когда впоследствии стали говорить, что у Ле Кюзиа есть много писем г-на Пруста, я никак не могу понять, откуда же они у него взялись.
А передавать письма в собственные руки нужно было лишь потому, что Альбер мог в любое время угодить в тюрьму. Несколько раз именно по этой причине я заставала вместо него щупленького молодого человека – кажется, его звали Андре, – который присматривал за домом в отсутствие хозяина.
Г-н Пруст объяснил мне:
– Когда я хожу туда, то стараюсь долго не задерживаться из-за всех этих полицейских проверок, чтобы не попасть завтра на первые страницы газет.
Я даже не буду останавливаться на всех глупостях, выдуманных в одной книге в связи с этим заведением: истории с проткнутыми булавками крысами, на мучения которых он якобы ходил смотреть, или как показывал там всяким подонкам фотографии своей матери ради удовольствия слушать их оскорбления. И как только могут печатать подобный бред? Г-н Пруст всегда безумно боялся крыс, даже не переносил одного их вида. А фотографии матери никогда не покидали ящиков комода – они только изредка вынимались, чтобы взглянуть на них с волнением и любовью. Наконец, он никогда ничего не выносил из дома и вообще, кроме еды, предметов туалета, одежды, тетрадей и ручек, ни к чему не притрагивался. И уж совершенно невероятно чтобы он, всегда просивший подать ему самую малейшую вещь, вдруг сам выдвинул бы тяжелый ящик, вынул оттуда фотографии и, вложив в конверт, спрятал в кармане а потом, возвратившись, проделал все это в обратном порядке. Единственная вещь, которую он за все время взял с собой из дома, – это пакетик с сахаром для моей золовки, г-жи Ларивьер, во время войны.
Во всяком случае, я могу утверждать, что он никогда не жил на улице Аркад и не бывал там чаще, чем я могла знать об этом, то ли по носимым мною письмам, то ли со слов Одилона, или же от него самого. Не думаю, чтобы он туда ходил больше пяти-шести раз за четыре-пять лет. А потом, когда ему уже не нужны были никакие сведения, он и совсем перестал видеться с Ле Кюзиа.
Поразительно, но всякий раз, когда г-н Пруст возвращался оттуда, об этом говорилось точно таким же тоном, как будто он побывал у графа де Бомона или графини Греффюль. Его интересовала только сама картина происходящего и ничего более. А когда я со своей откровенностью говорила, что не понимаю, как он может принимать Альбера и тем более ходить на Аркады, он отвечал:
– Да, конечно, Селеста. Вы даже не представляете, насколько это отупляет меня и как мне самому противно. Но ведь я могу писать только о том, что есть на самом деле, и мне нужно это видеть.
Не могу забыть одну ночь, когда г-н Пруст возвратился после того самого зрелища, которое описал в своей книге. Он увлек меня к себе в комнату и, сидя на краешке кровати, стал рассказывать:
– Дорогая Селеста, то, что я увидел, просто невообразимо. Вы знаете, сегодня я ездил к Ле Кюзиа. Он предупредил, что у него будет человек, который хочет быть выпоротым. И я наблюдал эту сцену из соседней комнаты через отверстие в стене. Это нечто невероятное! Прежде у меня были какие-то сомнения, и хотелось убедиться самому. Этот человек – богатый промышленник, специально приехал сюда с севера. Представьте себе, его прицепили кандалами к стене, и какой-то грязный подонок стегал его кнутом до крови. Только так этот несчастный и мог получать удовольствие...
– Сударь, это невозможно, так не бывает!
– Нет, Селеста, я ничего не выдумал.
– Но как же вы могли смотреть?
– Только ради того, чего никогда сам не придумаешь. А когда я сказала ему, что Ле Кюзиа – просто чудовище, он ответил:
– Ах, Селеста, поверьте, я тоже не в восторге от него. Вы правы, его не назовешь добрым малым. Больше того, он мне противен. Зато сегодня я узнал кое-что новое.
– И вы много заплатили за это?
– Да, Селеста, но так нужно.
– Ах, сударь, когда вы говорите, что этот кошмарный тип попал в тюрьму, я думаю, хоть бы он там сгнил!
Г-н Пруст засмеялся.
– Дорогая Селеста, а ведь он совсем недавно с восторгом спрашивал меня, не вы ли так хорошо начищаете мой серебряный поднос. Он просто захлебывался от похвал вам.
– Мне совсем не нужны комплименты такого чудовища!
– Ладно, но стоит сказать еще об одной невероятной вещи про это, как вы говорите, чудовище. Он обожал свою мать и делал все, чтобы скрасить ее жизнь. Когда я узнал, что она умерла, то послал ему обыкновенное соболезнование. И, знаете, Селеста, в ответ он прислал мне длинное письмо, в котором говорил о ней самыми трогательными словами. Может быть, это лучшее из писем, какие только я читал в связи со смертью матери. Как видите, у него все-таки есть сердце даже при его мерзкой профессии. А если подумать, он все-таки несчастный человек.
Мы несколько часов говорили об этой кошмарной сцене я, совершенно раздавленная, и он, повторяя все, словно бы для того, чтобы ничего не забыть и по своей обычной манере уже обдумывая, как все это напишется.








