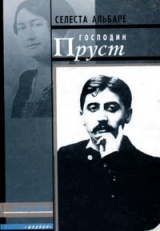
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
XXX
ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ
Г-н Пруст чувствовал приближение смерти, а я все еще была убеждена, что он доживет до глубокой старости. Но даже близкие к нему люди не могли поверить в его раннюю кончину, ведь все уже привыкли, что он так давно болел. И прежде всего я сама, которая все время жила рядом с ним и собственными глазами видела, как он, все превозмогая, играет со смертью. Быть может, у нас с ним было то общее в характерах, что мы начинали понимать безвыходность положения, только стукнувшись лбом в тупик.
Но с того дня, когда болезнь в этом несчастном изнуренном теле стала резко ухудшаться, я уже не смыкала глаз. Мне говорили, что я семь недель не ложилась в постель, но сама этого ничего не помнила: он страдал, и меня обуревало только одно чувство – сделать все, что хотя бы немного облегчило его мучения.
Он уже совсем не спал. Если его не сотрясали приступы кашля или астмы, г-н Пруст работал, преследуемый страхом задержать корректуры «Пленницы» для «Нового Французского Обозрения». Он постоянно звонил, просил то горячую «бутылку», то рубашку или еще что-нибудь – книгу, тетрадь, листки для подклейки, и я сновала взад-вперед. А потом надо было звонить доктору Бизу и профессору Роберу Прусту (как брату, а не врачу); приходилось бегать по лестнице то вверх, то вниз. Я согревала молоко и готовила кофе. Ему хотелось компота, и нельзя было заставлять его ждать ни минуты. Потом он просил холодного пива, и я посылала Одилона. Но что значила моя усталость рядом с его страданиями?
Эти последние недели были как длинный туннель без дня и ночи – лишь один полумрак со слабым светом зеленой лампы, среди которого уже столь явственно проступали все черты неизбежного конца.
Вокруг всего этого насочиняли множество басен и просто глупостей, приписывая мне искаженные или вовсе не произносившиеся слова. До сих пор я еще ничего не говорила обо всех этих делах, ведь г-н Пруст, как и при жизни, видел меня, знал мои истинные мысли и не сомневался в том, что я не предам его.
Но сегодня, уже на пороге иного мира, одна мысль об остающихся сомнениях и неправде для меня непереносима и я должна раз и навсегда подтвердить: то, что написано на последующих страницах, – доподлинная истина, которую я многократно перепроверяла, чтобы убедиться в ее абсолютном соответствии действительно бывшему. Это даже не свидетельство, это мое завещание.
Как я говорила, все началось с легкого гриппа, который усугубился еще и простудой, подхваченной при его возвращении с приема у графа и графини Бомон. Но еще раньше необыкновенная сопротивляемость его организма стала ослабляться: я с трудом уговорила г-на Пруста поехать на день рождения племянницы Сюзи, убеждая в том, что иначе он обидит и брата, и еще больше саму Сюзи, так ждавшую его. Потом, когда ему стало хуже, я вызвала профессора Робера Пруста, который нашел брата явно отечным.
Но теперь я понимаю, что его здоровье ухудшалось уже в течение года, и самым показательным была голландская выставка 1921 года, когда ему стало нехорошо перед картинами Вермеера, хотя потом он и пытался представить все так, будто в этом виновата только музейная лестница.
Заболев гриппом, он сказал:
– Пожалуй, мне стоит показаться доктору Бизу. Как вы думаете, Селеста?
Поскольку грипп никак не проходил, я ответила, что он совершенно прав и ему обязательно нужно подлечиться, да и работать надо бы все-таки поменьше. Он позвал доктора Биза, но не внял моим словам о работе.
Доктор Биз приходил несколько раз. Сначала он прописал лекарства, которые г-н Пруст не стал принимать. Из-за того, что грипп наложился на астму, ему было трудно дышать, и его мучили страшные приступы кашля. Тогда доктор Биз рекомендовал уколы камфарного масла для очищения легких. Но г-н Пруст отказался и от этого.
Сегодня мне уже понятно, сколь роковым оказалось его нежелание лечиться в эти последние недели. Доктор Биз говорил мне: вначале это был обыкновенный грипп. Если бы он согласился на уколы, воспаление в легких и бронхах прекратилось бы, и тогда при полном покое и в тепле он, несомненно, поправился бы. Но для г-на Пруста лишь он сам был для себя единственным авторитетом. Никто не мог принудить его к тому, чего он не хотел. Я думаю, с того дня, когда он сказал мне, что его труд теперь может выйти в свет, поддерживающая его прежде воля к преодолению недугов уже исчерпала себя, хотя, несомненно, он не собирался умирать. Но когда г-н Пруст написал слово «конец», пружина ослабла.
Помню, как прописывая камфару, доктор Биз сказал:
– Мэтр, уверяю вас, этот грипп – совершеннейший пустяк. Если вы послушаетесь меня, через неделю все будет в порядке.
И мягкий, хоть и затрудненный голос г-на Пруста:
– Милый доктор, я должен отправить эти корректуры, их ждет Галлимар.
– Но сначала все-таки вылечитесь, а потом занимайтесь корректурами.
Доктор Биз оставил нам свои назначения. Как всегда, г-н Пруст велел мне купить все лекарства. У нас это было правилом – все предписанное, даже если он не намеревался употреблять его, покупалось, а потом выбрасывалось. Но ампулы с камфарным маслом я все-таки не взяла – г-н Пруст в принципе не терпел уколы.
Видя упрямство больного и дальнейшее ухудшение бронхита с кашлем и прерывающимся дыханием, доктор Биз решился пойти к своему другу и однокашнику по университету профессору Роберу Прусту и сказал ему:
– Ваш брат не хочет лечиться. Он продолжает работать в ледяной комнате, которую нельзя топить из-за его астмы. Только вы можете повлиять на него. Любой ценой нужно хоть что-то сделать, иначе болезнь может развиться до такой степени, когда будет уже поздно. Но моего авторитета здесь не хватает.
В тот же вечер профессор Робер Пруст приехал на улицу Гамелен. Произошла тягостная сцена. Сначала меня удивил этот визит: доктор Биз ни полусловом ни о чем не намекнул мне. Уже потом он сказал: «Это был мой долг. Я боялся воспаления легких».
Профессор пытался убедить брата. Г-н Пруст рассказывал мне об их разговоре:
– Милый Марсельчик, ты просто обязан лечиться. Я врач и твой брат, и то, что я говорю, только на благо тебе и твоей работе тоже.
Но, ничего не добившись, он закончил такими словами:
– Значит, тебя надо лечить без твоего согласия. Это очень не понравилось г-ну Прусту:
– Как? Ты хочешь заставить меня?
– Я ни к чему не хочу принуждать тебя, милый Марсельчик. Я хочу только, чтобы ты переселился из этого ледника. Здесь, совсем рядом, есть великолепная клиника Пиччини, теплая, с прекрасными врачами. У тебя будет сестра для всего необходимого. И ты моментально вылечишься.
– Мне не нужны твои сестры. Меня понимает только Селеста, и никто ее не заменит.
– Но тебе оставят и Селесту. Для нее рядом будет комната.
На это г-н Пруст не стал «орать», как потом рассказывали, но очень рассердился:
– Уходи, я не желаю тебя видеть. И не возвращайся, если ты хочешь принуждать меня.
Профессор Робер Пруст ушел. Он не показал мне виду, но, думаю, был потрясен. Все-таки он просил предупредить его, если брату станет хуже.
Сразу после его ухода г-н Пруст позвал меня. Еще до того, как рассказать об их разговоре, он объявил:
– Дорогая Селеста, не впускайте больше ни моего брата, ни доктора Биза и вообще никого. Мне нужны только вы.
Затем пересказал случившееся. Я возразила:
– Сударь, но ваш брат не собирается ни к чему вас принуждать. Все, что он говорит, это лишь для вашего блага.
– А я говорю, что хочу поступать так, как хочу, до самого конца.
– Неужели, сударь, вы действительно так думаете? Если придет ваш брат, я не смогу не впустить его.
– Делайте, как вам сказано, Селеста.
И он повторил еще раз:
– Мне нужны только вы, и я запрещаю вызывать доктора Биза.
Было видно, как сильно он взволнован. Войдя, я застала его сидящим на постели.
В тот же день, успокоившись – а совсем не в самые последние дни, как говорили, – он еще раз сказал мне то, что говорил совсем давно по поводу уколов:
– Это просто ужасно. Как только врачи могут так мучить больных этими впрыскиваниями... и ради чего? Чтобы продлить жизнь? Еще десять минут, еще полдня жалкого существования?
И он еще раз повторил:
– Селеста, обещайте, что никогда не позволите колоть меня.
– Ах, сударь, но кто я такая? Никто. Вы прекрасно знаете, что врач придет только по вашему желанию. Вы все решаете сами, и никто насильно не станет делать вам уколы. Я обещаю это.
Мне всегда говорили, что я сделала для него все, насколько это было в моих силах, и мне не в чем упрекнуть себя. Но у меня остается какое-то раскаяние за то, что в последний день все-таки нарушила данное слово – без ведома г-на Пруста вызвала доктора Биза и позволила сделать ему укол.
Весь его конец был для меня сплошным кошмаром. Поль Моран писал обо мне госпоже де Шамбрен, дочери Пьера Лаваля: «Остается лишь удивляться, как она только держалась на ногах». А что тогда говорить об этом несчастном теле под одеялом, сотрясавшемся от кашля и удушья и в то же время истязавшем себя неумолимым стремлением закончить свою работу.
Болезнь его мучила больше месяца, сильнее всего – сухим кашлем. Он говорил мне:
– Я больше не могу, Селеста. У меня совсем нет сил. Я задыхаюсь.
Но кашель и удушье становились все хуже и хуже. Иногда он отрывался от корректуры и обращал на меня свой прекрасный глубокий взгляд:
– Если бы вы знали, как мне плохо, Селеста...
Это была не жалоба, а какое-то мягко отвлеченное подтверждение факта. Я умоляла:
– Сударь, ну отдохните же!
– Нет, нет, я еще не кончил. И тут же с сияющей улыбкой:
– Но вот увидите, сами увидите, дорогая Селеста... я лучший врач, чем все эти доктора...
Он не только уже давно ничего не ел, но иногда даже не пил свой кофе. Я пыталась уговорить его выпить горячего молока, чтобы хоть как-то сопротивляться холоду в комнате. Но чаще всего он не соглашался даже на это. У него не было никаких других желаний, кроме желания работать. Попросив настойки, он только смачивал губы и тут же отдавал мне стакан. То же и с компотами, которые он иногда спрашивал, но лишь еле-еле притрагивался. Конечно, из-за жара ему ничего не хотелось, кроме холодного пива, что при его состоянии и температуре в комнате было чистым безумием. Но для него ничего не могло быть хуже возражений. Он их просто не переносил, и один его укоряющий взгляд мог заставить хоть кого пролезть в игольное ушко. Одилон бесчисленное количество раз ездил по ночам на опустевшую кухню «Рица» за холодным пивом.
Дойдя до последней степени истощения, г-н Пруст почти перестал говорить. Я ловила знаки и взгляды, чтобы понять его желания. Или он писал маленькие бумажки. Я уже настолько привыкла к этому, что успевала прочитывать их, пока он выводил буквы; я хорошо понимала его не очень-то разборчивый почерк.
Сколько я выбросила этих листочков – за годы их набралось бы на целую книгу! Часто он выражал нетерпение, когда что-то, по его мнению, задерживалось. Например: «...иначе я совсем рассержусь», – но при этом все-таки смотрел на меня с улыбкой.
Ужасно, что до самой последней минуты г-н Пруст сохранял полную ясность сознания. Он как бы со стороны видел собственное умирание, и тем не менее у него находились силы улыбаться. Басни о том, что он записывал предсмертные ощущения для описания смерти своих персонажей, в частности писателя Берготта, конечно, не более чем литературные украшения. Но вообще г-н Пруст был способен и на это.
Приходил доктор Биз, хотя он ничего и не мог сделать. Теперь шла только борьба самого организма с болезнью.
Вернулся и профессор Робер Пруст. Уже назавтра после описанной сцены все было забыто, и через несколько дней г-н Пруст послал меня позвонить брату. Профессор понял, что тут ничем уже не поможешь, и, прекратив все свои попытки, мог приходить в любое время, так же как и другие близкие люди, например, Рейнальдо Ан. Вместо врача оставался только любящий брат, осужденный на то, чтобы наблюдать за развитием болезни.
На смену октябрю пришел ноябрь. Не знаю уж, откуда взяли, будто г-н Пруст сказал мне, что ноябрь – роковой месяц, унесший его отца. Подобная неуклюжая аллюзия была совсем не в его духе. И в эти дни он ни разу не упомянул о смерти профессора Адриена Пруста. Точно так же, как ничего не говорил и о матери, кроме одного раза, когда сказал мне, что в детстве она была великолепной сиделкой, если ему случалось заболеть.
17-го, накануне смерти, часов в восемь или девять вечера пришел профессор Робер Пруст. Незадолго до этого больной сказал:
– Селеста, сегодня мне, кажется, лучше. Раз уж вы все так хотите, чтобы я что-нибудь съел... ладно, приготовьте мне тогда соля.
Я занялась солем, и в это время пришел его брат.
– Можно войти к нему?
– Да, сударь, он уже проснулся.
– Как он сегодня?
– Кажется, получше. Попросил соля, я уже приготовила.,
– Подождите немного. Сначала я посмотрю его.
Они долго разговаривали, но г-н Пруст прервался, чтобы позвать меня, и сказал:
– Селеста, я все-таки воздержусь от этого соля.
Уходя, профессор объяснил мне в прихожей:
– Я отсоветовал ему есть рыбу, у него не совсем хорошо с сердцем. Но, слава Богу, он обещал мне оставить вас при себе на всю ночь.
Профессор Пруст ушел, не дав никаких других рекомендаций.
Это было в пятницу.
И в тот же день, 17 ноября, случился тягостный инцидент, не помню уж, до или после ухода его брата. Г-н Пруст позвонил мне, и пока я была в комнате, попросил отвернуться и не смотреть.
– Я хочу подняться и сесть на кровати, – объяснил он, – но уже через несколько мгновений сказал: – Можете обернуться, Селеста, уже все.
Я увидела, что он опять лежит на подушках под одеялами. Взглянув на меня, г-н Пруст устало и очень грустно проговорил:
– Бедная моя Селеста, что же со мной будет, если я не справляюсь сам с собой!
– Это пустяки, сударь. Всего лишь небольшая слабость.
Он ничего не ответил, а только закрыл глаза.
Может быть, он позвал меня, опасаясь головокружения. Зная его щепетильность и изящество буквально во всем, тяжело представить себе, чего ему все это стоило.
Несомненно, что пневмония, которой столь боялись доктор Биз и профессор Робер Пруст, уже произвела свое разрушительное действие, хотя вполне явственно она проявилась позднее – в самые последние дни, а отнюдь не на первой неделе ноября.
Пожалуй, только я одна и сохраняла тщетную надежду на его выздоровление. И не то чтобы совсем не могла поверить в смерть – у меня почему-то не возникало такой мысли. Я мучилась, видя, как он слабеет и отказывается от всего, но все-таки сохраняла уверенность в благополучном исходе.
Однако некоторые признаки и жесты должны были поразить меня. В предпоследнюю неделю он поручил мне послать букет цветов доктору Бизу. Как говорили, будто бы «в знак раскаяния». Но в чем ему было раскаиваться? Что он не исполнил его предписаний? Нет, я полагаю, что это была лишь благодарность за заботу и внимание в течение стольких лет. С другим букетом он отправил меня к Леону Доде, который только что написал о нем большую статью. Помню, это было в воскресенье. Г-н Пруст ждал моего возвращения и отчета. Я рассказывала, что видела самого Леона, он долго разговаривал со мной и проводил меня на лестницу: «Я так люблю Пруста, что готов ради него на все, и не встречал еще никого, кто мог бы сравниться с ним по уму, восприимчивости и сердцу. Мадам, я прекрасно понимаю, что вы значите для него. Прошу вас, если я только понадоблюсь, не стесняйтесь, я приеду в любое время дня и ночи». И он чуть не плакал, говоря это. Г-н Пруст выслушал меня и был явно взволнован. Он сказал только:
– Что ж, и еще одно дело сделано.
Но я как-то не воспринимала все это, несмотря на слезы Леона Доде. Для меня были столь привычны знаки внимания к нему, когда я передавала письма, а уж цветов я отвозила превеликое множество, и каких красивых...
В ту ночь, с 17 на 18 ноября, около полуночи г-н Пруст позвал меня, чтобы я побыла возле него, как он сказал своему брату. Его голос звучал почти радостно:
– Дорогая Селеста, устраивайтесь на этом кресле, и мы с вами как следует поработаем. Если ночь пройдет благополучно, я докажу докторам, что все-таки сильнее их. Но ее надо пережить. Как вы думаете, мне это удастся?
Естественно, я уверила его, и вполне искренне, что ничуть в этом не сомневаюсь. Меня беспокоило только, как бы он еще больше не переутомился.
Усевшись, я так и оставалась несколько часов в кресле, за исключением каких-то своих коротких отвлечений. Сначала мы немного поговорили, потом он занялся корректурой и добавлениями и диктовал мне часов до двух ночи. Я стала уже уставать, в комнате был страшный холод, и я ужасно замерзла.
– Кажется, мне труднее диктовать, чем писать. Это все из-за дыхания.
Он взял перо и больше часа продолжал писать сам.
В моей памяти врезались стрелки часов, показывавшие время, когда перестало двигаться перо, – ровно три с половиной часа ночи. Он сказал мне:
– Я слишком устал. Достаточно, Селеста. Больше нет сил. Но все-таки останьтесь.
Впоследствии профессор Робер Пруст объяснил мне, что, возможно, именно в этот момент прорвался абсцесс на легком и началась интоксикация. Г-н Пруст еще сказал:
– Не забудьте подклеить эти листки на свои места. Обязательно подклейте... это очень важно.
И он все подробно объяснил, что именно нужно делать. Потом повторил:
– Вы сделаете все как надо, верно, Селеста? Не забудете?
– Ни в коем случае, сударь, не беспокойтесь. А теперь вам нужно отдохнуть. Может быть, съедите что-нибудь горячее?
Он отказался и, нежно глядя на меня, произнес:
– Спасибо, дорогая моя Селеста... Я знал, что вы очень милы, но сегодня как-то особенно...
В ту ночь он повторил эти слова раз двадцать.
Г-н Пруст просил меня тщательно разложить его тетради и бумаги; потом стал говорить о том, что хотел бы сделать для меня. Впоследствии я узнала, как, уже больной гриппом, он нашел в себе силы и время съездить по этому делу к своему приятелю, банкиру Орасу Финали, который сам мне это рассказывал. В то воскресенье, когда я носила цветы Леону Доде, г-н Пруст сказал мне:
– Селеста, я напишу письмо на ваше имя и положу в китайский столик. Обещайте мне, что откроете его только после моей смерти.
Я никогда в жизни не открывала без его ведома ни единого ящика, но решила поддразнить его:
– Ах, сударь, женщины любопытны. Неужели вы думаете, что я могу устоять? Конечно же, я прочту это письмо!
– Так вы прочтете? Тогда ничего не буду писать!
– И совершенно правильно, сударь. У вас найдутся дела поважнее, лучше просто скажите мне.
Рано утром 18-го он упомянул о проданных им ценных бумагах – кажется, это были акции сахара Сэй – и про чек на мое имя.
– Ну, а если кому-то вздумается опротестовать этот чек? Ведь должны же признать подпись умирающего?
– Сударь, не говорите так, вы меня расстраиваете.
– Боже мой, Селеста, как жаль... как жаль!
– Прошу вас, сударь, не утомляйте себя разговором. Думайте только о выздоровлении.
Я чувствовала, что ему плохо, и со своего кресла видела, как он вдруг переменился к худшему: веки часто моргали, дыхание стало очень тяжелым. Немного погодя, заметив, что он открыл глаза, я спросила:
– Вам не получше, сударь? Он взглянул на меня и ответил:
– Уже хорошо, что вам это показалось, дорогая Селеста. Около семи утра ему захотелось кофе:
– Чтобы угодить вам и моему брату, я выпью его горячим, но несите поскорее.
Помню, что я встала, как лунатик, ноги совершенно не слушались, и я сказала сестре Мари:
– Я кончилась, не могу даже стоять.
Все-таки мне удалось принести кофе и молоко. Он был совсем слабым, и я предложила:
– Сударь, позвольте мне помочь вам, я подержу блюдце.
– Нет, Селеста, спасибо.
Он взял чашку, поднес ее к губам и, взглянув на меня, повторил:
– Чтобы угодить вам...
Отпив немного, г-н Пруст велел не уносить поднос с чашкой и сказал:
– Полежу пока спокойно, – и сделал знак, что хочет остаться один.
Я вышла. Меня сильно поразила происшедшая в нем перемена, и я ужасно забеспокоилась.
Вместо того чтобы возвратиться на кухню или к себе в комнату, я пошла обратно по коридору между его комнатой и ванной, стараясь не производить ни малейшего шума, и, задерживая дыхание, остановилась не у внутренней портьеры, как рассказывали – чего бы я себе никогда не позволила, а за дверью, которая находилась возле самой постели.
Было, наверно, около восьми часов утра. Я уже довольно долго простояла, неподвижная и окоченевшая, когда г-н Пруст, наконец, позвонил. Неслышно возвратившись назад, чтобы не возбуждать его подозрений, я вошла через дверь будуара. Он встретил меня испытующим взглядом.
– Что вы делали за дверью, Селеста?
– Сударь, я не стояла за дверью.
– Ах, Селеста, зачем обманывать?
– Да, сударь, я была там, чтобы сразу прибежать, если вам что-нибудь понадобится.
Он ничего не ответил на это и сказал:
– Только не тушите мою лампу.
– Сударь, вы же знаете, я сама никогда не стану зажигать или тушить лампу. Распоряжаетесь только вы.
– Не тушите, Селеста... в комнате какая-то огромная женщина, огромная, в черном, страшная... Я хочу видеть...
– Сейчас, сударь, не волнуйтесь; я сейчас прогоню эту мерзавку! Она напугала вас?
– Да, немного. Только не дотрагивайтесь до нее...
За все эти годы он часто говорил мне о смерти, но никогда не представлял ее в виде отвратительной черной женщины, которая, как говорили, будто бы являлась ему в годовщину кончины матери, – еще один выдуманный роман! Всякий раз, когда заходил разговор о смерти, г-н Пруст говорил, что не боится ее.
Когда он сказал об ужасной женщине, я подумала, что у него бред или просто кошмарный сон. Немного погодя, видя, что он успокоился, я вышла из комнаты. И тут я ослушалась г-на Пруста, запретившего мне звать кого-нибудь, – Одилон был немедленно послан к доктору Бизу. Я тем временем спустилась в булочную, чтобы позвонить профессору Роберу Прусту.
И еще одно обеспокоило меня: говоря о черной женщине, он старался как будто натянуть на себя одеяло и одновременно стал доставать с пола упавшие газеты, которые обычно запрещалось трогать из боязни поднять пыль. Я никогда не видела агонии, но еще в деревне слышала разговоры о том, будто «умирающие всегда что-то собирают». И движения его пальцев напугали меня.
Каким бы это ни показалось невероятным, но много лет спустя, когда умирал мой дорогой Одилон, он говорил те же слова, что и г-н Пруст. Однажды в больничной палате я заметила его взгляд, устремленный на угол комнаты, и спросила, куда он смотрит. «Я вижу смерть». – «Нет, ты не умрешь!» – «Я уже умираю». – «Тебе страшно?» – и так же, как и г-н Пруст, он ответил: «Да, немного».
Была суббота 18 ноября, часов десять утра, когда приехал доктор Биз. Перед этим г-н Пруст попросил холодного пива, за которым, как всегда, отправился Одилон.
Несмотря ни на что, я все еще была уверена, будто у г-на Пруста всего лишь крайнее истощение сил, и поэтому велела мужу, чтобы он попросил доктора Биза взять какое-нибудь стимулирующее средство. Но, с другой стороны, я уже впадала в отчаяние и чувствовала необходимость вызвать всю семью. Когда я говорила по телефону из булочной, невестка г-на Пруста сказала:
– Значит, все-таки случилось то, чего мы так боялись.
Потом она объяснила, что мужа нет дома – у него лекции в больнице Тенон.
Но она незамедлительно все ему сообщит.
Открыв дверь доктору Бизу, я сказала (и это было мое второе ослушание):
– Доктор, умоляю, спасите его. Он еще больше ослабел. Сделайте ему укол.
– Но вы же знаете, он не хочет.
– Доктор... у него уже нет сил сопротивляться. Вы просто должны любым способом поддержать его.
Мы прошли в комнату, и я солгала, сказав г-ну Прусту, что доктор Биз, проходя мимо, зашел узнать, как дела.
– Я подумала, вам это будет приятно.
Г-н Пруст ничего не ответил, а только взглянул на меня, показывая, что его невозможно обмануть.
Тем временем приехал Одилон, а буквально за несколько минут до этого г-н Пруст спрашивал меня, не привез ли он пиво, на что я ответила: «Пока еще нет, сударь». – «Значит, и с пивом то же самое, все слишком поздно...»
Доктор Биз подошел к нему:
– Добрый день, мэтр.
Но г-н Пруст смотрел поверх него на вошедшего с пивом Одилона. И его голос, как бы проходя сквозь доктора Биза и ничего ему не отвечая, устремился к Одилону:
– Здравствуйте, дорогой Одилон, как я рад вас видеть.
Но пиво он уже не стал пить.
Доктор Биз приготовил укол. Я видела, как он волнуется и шепчет сам себе:
«Как же быть?..» На мой вопрос, куда нужно колоть, он ответил:
– В бедро.
– Доктор, я приподниму одеяло.
Мы оба подошли к постели, я осторожно подняла одеяло, стараясь не оскорбить деликатные чувства г-на Пруста.
Он лежал с самого края. Его рука, слегка распухшая, свисала вниз. Я подняла ее и держала одеяло. Доктор склонился над ним.
То, что произошло дальше, навсегда врезалось в мою память. Г-н Пруст вынул вторую руку из-под одеяла и, защипнув мое запястье, стал крутить кожу. Как бы мне ни хотелось, но я никогда не смогу забыть его крик:
– Ах, Селеста... ах, Селеста!
Это было хуже любых упреков и обвинений в предательстве обещаний не пользоваться его беспомощным положением для уколов.
И у меня тем больше причин для раскаяния, что в том его состоянии укол был уже бесполезен – раствор все равно не пошел в кровь.
Доктор Биз уехал, и почти сразу появился брат г-на Пруста. Я была так ошеломлена, что тут же стала говорить ему о своем раскаянии. Он утешал меня:
– Вам не о чем жалеть, Селеста. Вы поступили так, как надо.
И добавил еще:
– Как только мне сообщили, я сразу же поехал и был здесь раньше доктора Биза, но подумал, что лучше пропустить его первым, и поэтому остался ждать в авто. Мне не хотелось, чтобы брат подумал, будто я хочу принуждать его.
Он оставался с г-ном Прустом очень недолго. Было, кажется, часов одиннадцать или около полудня, но через час профессор Робер Пруст вернулся. Он, конечно, понимал, что все уже бесполезно, хотя ничего не сказал мне, а только попросил моего мужа привезти банки, а мне велел достать перину. Я вынула из стенного шкафа ту самую знаменитую перину от «Либерти», которой г-н Пруст ни за что не хотел пользоваться, боясь за свою астму. Одилон возвратился с банками. Профессор велел подложить подушки, а сам очень осторожно приподнял г-на Пруста.
– Я утомляю тебя, Марсельчик...
– Да, мой милый Робер... Было уже около половины первого пополудни. Банки не сработали – они просто не присасывались. Больному становилось все труднее и труднее дышать, и профессор попросил Одилона поехать за кислородными подушками.
Он дал ему немного кислорода и, склонившись над братом, спросил:
– Так лучше, Марсельчик?
– Да, Робер. Через некоторое время профессор послал за доктором Бизом, явившимся к половине третьего. Они посоветовались и решили пригласить профессора Бабинского, одну из величайших знаменитостей тех лет. Уже во время болезни сам г-н Пруст говорил мне: «Я послал бы вас за доктором Бабинским. Но я ведь не видел его после смерти матушки, и как теперь я выглядел бы в его глазах?»
Приехал доктор Бабинский. Было, наверно, часа четыре. Все трое советовались тут же в комнате, и г-н Пруст все слышал. Я тоже была здесь. Его брат предложил внутривенный укол камфары, но профессор Бабинский остановил его:
– Нет, дорогой Робер, не нужно его мучить, это уже не поможет.
Затем доктор Биз уехал, а вскоре и профессор Бабинский. Я провожала его до дверей, но, прежде чем открыть, повернулась к нему и в отчаянии спросила:
– Г-н профессор, ведь вы спасете его?
Он казался очень взволнованным и, взяв обе мои руки, ответил:
– Мадам, я знаю, сколько вы сделали для него. Мужайтесь. Все кончено.
Я вернулась в комнату и остановилась возле профессора Робера Пруста. Никого другого больше не было.
Г-н Пруст все время смотрел на нас, и это было мучительно больно. Так прошло минут пять. Потом профессор подошел к постели, склонился над братом и закрыл ему глаза, все еще обращенные к нам.
– Он умер?
– Да, Селеста, это конец.
Была половина пятого.
Меня шатало от изнурения и горя, хотя я никак не могла поверить в случившееся, – он отошел с таким благородством и достоинством, без судорог, свет души и жизни погас в его глазах, неотрывно смотревших на нас до последнего мгновения. Последние его слова были обращены к брату. Он не говорил: «Мама!» – как рассказывали (конечно же, в угоду литературным красотам). Вместе с профессором мы привели в порядок постель, стараясь не шуметь, как будто боялись разбудить его. У меня было какое-то странное ощущение – я впервые убирала лежавшие на постели предметы в его присутствии – газеты, бумаги, номер «НРФ» с какой-то записью на обложке.
Потом профессор Робер Пруст сказал:
– Теперь остается последнее. Надо привести его в порядок.
Я принесла белье. Профессор одел на него чистую рубашку, и мы сменили подушки и одеяла. Я хотела соединить ему ладони, как делали у нас в деревне с умершими. В тот момент я была настолько потрясена, что даже забыла о его желании перевить пальцы четками, привезенными Люси Фор из Иерусалима. Профессор ничего не знал об этом и сказал мне:
– Нет, Селеста, он умер за работой, пусть руки и остаются вытянутыми.
Так он их и положил.
Мы потушили маленькую лампу и зажгли свет в середине комнаты. Профессор спросил у меня, говорил ли что-нибудь г-н Пруст о своих похоронах, и я ответила, что об этом у нас никогда не было речи.
– Хорошо, сделаем все так, как мы устраивали для родителей.
Я только упомянула о желании г-на Пруста, чтобы аббат Мюнье читал над ним заупокойные молитвы. Но, как я говорила, аббат был прикован к постели и не смог приехать.
Профессор еще попросил меня срезать с волос несколько прядей для себя и для него.
Потом, позднее, пришел Рейнальдо Ан и занялся телефонными звонками к знакомым. Он пробыл у нас всю ночь, сначала вместе со мной возле г-на Пруста, а потом в соседней комнате, где пробовал сочинять музыку. Время от времени, стараясь сосредоточиться и собраться с мыслями, он подходил к постели умершего.
На следующий день первым пришел Леон Доде. Он много плакал, и профессор Робер Пруст сказал ему:
– Спасибо вам, Леон, за ваши чувства к Марселю.
– Не благодарите меня, он опередил нас всех на сто лет. После него нам уже нечего делать.
Г-н Пруст скончался в субботу. Профессор Робер сказал – это были его слова, – что он в «таком хорошем виде», лучше поэтому задержать похороны, чтобы все могли попрощаться с ним. Во вторник его положили в гроб, а похоронили в среду 22 ноября. В эти три дня приходило очень много людей. Не буду перечислять все имена. Помню поэтессу графиню де Ноайль, она с рыданиями обнимала меня:








