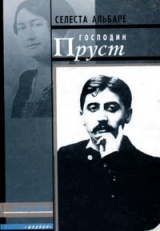
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
XVII
ОН ГОВОРИЛ СО МНОЙ О ПОЛИТИКЕ
Очарование разговоров было не только по ночам. Все начиналось уже после того, как он окончательно просыпался и выпивал свой кофе, мало-помалу входя в жизнь.
Раздавался первый звонок, и я несла ему вместе с круассаном, молоком и кофе почту, таков был устоявшийся ритуал. Он смотрел ее только после завтрака и разбирал конверты этими смешными, очень осторожными движениями, почти что кончиками пальцев, как и со всеми другими предметами, к которым прикасался. Рассматривая конверт, он словно старался угадать содержимое и открывал всегда сам, без ножа, а просто надрывал сбоку. Иногда, прежде чем читать письмо, откладывал его в сторону и брался за другие. Но все-таки он еще не вполне приходил в себя, и все происходило в полном молчании – без его сигнала говорить не полагалось. Однако по мере чтения он начинал оживляться.
Г-ну Прусту нравилось разбирать почту вместе со мной; он читал мне не все, но объяснял содержимое и останавливался на тех местах, которые забавляли его или казались наиболее интересными. Впрочем, случалось, он читал мне все послание от первой до последней строки – например, письма графа Робера де Монтескье; в них почти всегда была какая-нибудь фальшь, и он выделял ее голосом. Чтение сопровождалось и комментариями по отношению к самим авторам.
Я очень быстро научилась угадывать его реакцию уже по одной только манере чтения, еще до того, как он делал какое-нибудь замечание, и уже знала, идет ли речь, например, о приглашении, или же ему придется отвечать на чью-либо просьбу. Сам тон речи показывал ход мысли, позволяя понять, насколько интересно полученное письмо. Если дело касалось человека, даже хорошо знакомого, но которого он не хотел сейчас или даже вообще никогда видеть, я сразу же понимала, что писавший попал в черный список. И ни разу не ошиблась. Такой человек как бы испарялся из его памяти – не попадал уже в перечень телефонных звонков, ему не носили больше записок, и его имя не значилось на отправляемых по почте конвертах.
Потом он говорил мне о своих ответах, и это вполне подтверждало мои догадки.
– Я написал такому-то, что нам нужно встретиться.
Но он редко сразу же назначал день и час. Ему нужно было созреть – обдумать, увидятся ли они только вдвоем или будет еще кто-нибудь. В этом отношении г-н Пруст отличался большой осторожностью. Часто он спрашивал у меня:
– Дорогая Селеста, я хочу пригласить графиню де Ноайль вместе с Таким-то и Такой-то. Как вы думаете, это удобно? Ведь есть некоторые обстоятельства...
И он объяснял, как у них складываются отношения.
Читал он мне и отрывки из своих ответов, а иногда даже и все целиком – обычно это относилось к переписке с де Монтескье.
Г-н Пруст никогда не отвечал экспромтом, по непосредственному чувству или ради простого удовольствия. У него всегда была какая-нибудь цель: получить сведения, относящиеся к его разысканиям; повидать кого-то в связи со своими персонажами; встретиться с людьми, заинтересовавшимися его книгой, а может быть, даже и пробудить в ком-то интерес к ней.
Во всяком случае, и получение, и отправление почты всегда доставляло ему удовольствие. Надо было видеть, с каким наслаждением читал он мне письма де Монтескье и свои ответы!
– Слушайте внимательно, Селеста, я прочту вам одно важное место. За каждым словом вы почувствуете злобное дыхание нашего добряка. Он просто великолепен! – И г-н Пруст смеялся чуть ли не до слез.
Иногда, нетерпеливо перекладывая письма на постели, он обескуражено говорил: «Только подумать, я должен отвечать на все это, когда мне не хватает времени для книги!» Но на самом деле он обожал посылать письма. При этом говорилось:
– Все-таки на это мне придется ответить...
Одной из драм его конца было беспокойство и угрызения совести, связанные сослишком обширной корреспонденцией. Он часто вспоминал об этом, словно его преследовала какая-то навязчивая мысль:
– Вот увидите, Селеста, как только я умру, все начнут печатать мои письма. К сожалению, я слишком много написал, слишком много. Ведь при моей болезни не было другого средства общения. Но мне никак не следовало делать это. Впрочем, я приму свои меры. Да, надо добиться, чтобы никто не имел права публиковать мою корреспонденцию.
Г-н Пруст все время мучился этим. Однажды он возвратился очень подавленный после вечера, проведенного с драматургом Анри Бернстейном. У них зашла речь об этом деле, и Бернстейн сказал ему, что здесь уже ничего не поделаешь. Советовался он и со своим другом, банкиром Орасом Финали, который не слишком обнадежил его. Наконец, г-н Пруст обратился к приятелю-адвокату и пришел от него совершенно уничтоженный
– Дорогая Селеста, этот человек сказал мне: «Бедный Марсель, ты понапрасну тратишь время, пытаясь воспрепятствовать подобным публикациям. Каждая написанная тобой буква есть собственность адресата. Он может делать с ней все что угодно». Какая неосторожность! А те, кто не станут печатать письма, просто продадут их. Я сам вложил в руки всех этих людей стрелы против себя!
Это было настоящей катастрофой, омрачившей его последние месяцы. И все же он продолжал писать и отвечать. Ведь на самом деле г-н Пруст видел все меньше и меньше людей, и почта оставалась для него едва ли не единственным средством общения. К концу жизни он как-то особенно боялся микробов в письмах, а принимая таких посетителей, в здоровье которых у него были сомнения, он, даже лежа в постели, надевал перчатки, чтобы не заразиться от рукопожатия. По чьему-то совету была куплена специальная машинка в виде длинной коробки, куда закладывались полученные письма. Он объяснял мне ее пользу и то, как она работает.
– Понимаете, Селеста, в моем состоянии достаточно письма от человека, болевшего скарлатиной, корью или какой-то другой заразой, чтобы я вмиг подхватил микробы. Уж лучше пусть все письма проходят через формоль.
После смерти г-на Пруста его брат очень удивлялся этой машинке, подтвердил ее пользу и забрал ее к себе.
Кроме писем, каждое утро он читал газеты. Нам приносили их из киоска напротив дома. Чтение газет входило в повседневный ритуал, он внимательно их просматривал. Как ни странно для столь чувствительного к запахам человека, свежая типографская краска как будто не беспокоила его. Правда, он иногда убирал или даже сбрасывал газеты с постели, но потом просил дать их снова. Возможно, причиной был не только запах, но, может быть, усталость.
Больше всего г-н Пруст читал «Фигаро», «Журналь де Деба», «Тан» и финансовую прессу, а также журналы: «Меркюр де Франс», «Ревю де Пари», «Нувель Ревю Франсез», «Иллюстрасьон» и еще немало других.
Он всегда был в курсе событий и знал все новости. Здесь, как и во всем другом, от него ничего не ускользало. Когда Жак Бизе покончил с собой, его мать, г-жа Строе, сразу же прислала ко мне одного из своих слуг, чтобы я спрятала «фигаро», где было сообщение о смерти; г-н Пруст, как она считала, не должен был узнать об этом из газет. Я объяснила, что это невозможно – если бы «Фигаро» не оказалось, он все равно сразу же потребовал бы его.
Г-н Пруст следил буквально за всем: политикой, биржей, искусствами, литературой. Критическая статья о какой-нибудь книге могла вызвать у него желание познакомиться с автором, и тогда ради этого начинались всяческие эволюции.
Почти каждый день он рассказывал мне о главных событиях – «для вашего образования». Например, в «Фигаро» появились иллюстрации Форена, которые ему очень нравились, и он показывал и объяснял их, потому что я, конечно, не понимала содержавшихся там намеков. Точно так же было и с политическими статьями.
Помню, как во время войны он однажды сказал мне:
– Со всей этой цензурой осталась только одна приличная газета: «Журналь де Женев», да и то лишь потому, что она из нейтральной страны.
Г-н Пруст не любил крайностей. Например, читал монархическую «Аксьон Франсез» больше за ее превосходные литературные статьи Леона Доде, ставшего одним из вождей роялистов, и Шарля Морраса, которого очень уважал, но он отнюдь не разделял их политических взглядов, а про Леона Доде говорил:
– В его статьях какой-то бешеный талант. Жаль, что он во всем так сумасброден и всегда перехлестывает через край. Удивляюсь, как правительство пропускает его статьи. Знаете, после того, как милейший Леон женился на своей Жанне, которая происходит прямо от Виктора Гюго, у «Аксьон Франсез» были большие неприятности с Ватиканом, и тогда он стал яростным антиклерикалистом. Семья невесты требовала церковного брака, и ему взбрело в голову просить мэра, чтобы тот переоделся священником!
Однажды я отправилась с запиской г-на Пруста к Леону Доде и, когда мне сказали, что его еще нет, решила подождать перед домом на улице. Он приехал на автомобиле, но, завидев меня, остановился не у подъезда, а значительно дальше; потом они развернулись и на большой скорости, чуть ли не прижимаясь к стенам, возвратились назад. Я вошла после него и, наконец, была принята с извинениями, что он не узнал меня: «Знаете, сейчас такое беспокойное время...»
– Бедная Селеста, вы показались ему подозрительной личностью, ведь он убежден, что его хотят убрать, – сказал мне после этого г-н Пруст.
Но, по его же словам, недавно была убита женщина из «Аксьон Франсез».
Не меньше восхищался он умом и добротой другого приятеля своей молодости – Леона Блюма, одного из столпов социалистической партии, хотя о его статьях никогда не было сказано ни слова. И его просто потрясло убийство Жана Жореса:
– Это был великий и отважный человек... Только он мог бы не допустить этой идиотской войны.
Г-н Пруст совсем не одобрял войну 1914 года, хотя, конечно, и желал нашей победы. Он часто говорил мне о том, как сожалеет, что Франция и Германия дошли до этого. По его мнению, для обеих стран было бы естественнее сближение друг с другом.
– Если бы Франция и Германия договориться, Европе был бы обеспечен мир на столетия.
Он ненавидел Вильгельма II, но говорил, что и мы сами тоже хотели этого. Как-то раз он сравнил Францию и Германию по их отношению к выдающимся людям.
– Видите ли, Селеста, у нас не заботятся ни об ученых, ни о художниках, только что не дают им умереть от голода. Зато если Вильгельму говорят о талантливом ученом или писателе, у него хватает ума создать ему пристойные условия. Посмотрите на нашего несчастного Бранли, а ведь это настоящий гений... Он бьется в нищете, не получая ни одного су для своей лаборатории. Не знаю уж, и почему я сам не напишу обращение, чтобы собрали для него средства!
И еще об отношениях Франции и Германии. Ему очень нравилась фраза, которую он вычитал из «Мергаор де Франс» и часто повторял: «От Франции мне нужны не любезности, а крепкое пожатие руки» – кажется, это сказал Вильгельм II.
– Вот увидите, Селеста, это еще придет.
Из французских государственных деятелей он ценил Жор жа Клемансо за энергию, Аристида Бриана за красноречие и Жозефа Кайо за компетентность. Когда г-жа Кайо застрелила из револьвера директора «Фигаро» Кальметта после того, как он хотел опубликовать письма ее мужа к другой женщине, г-н Пруст сказал мне:
– Уж не знаю, почему она сделала это, из любви или по собственным амбициям, но добилась лишь его ухода, а это настоящая катастрофа.
После таких разговоров я иногда говорила ему:
– Как жаль, сударь, при вашей остроте и тонкости из вас получился бы несравненный посланник или министр! Уж вы-то сумели бы распорядиться своим портфелем!
Мои похвалы всегда доставляли ему явное удовольствие, но в ответ он только посмеивался...
И он очень проявился в деле Дрейфуса. Кто бы мог подумать, что этот казавшийся боязливым и отстраненным человек бросится в самый водоворот борьбы и будет ходить на все заседания суда. Он превозносил до небес отвагу Эмиля Золя и всех защитников Дрейфуса.
Как всегда, он сразу же все понял и больше всего возмущался ложью и несправедливостью обвинения и приговора.
– Это было ужасно, вся Франция разделилась надвое. С одной стороны огромное большинство тех, кто хотел поверить лжи, с другой – кучка боровшихся за него. Г-жа Строе, например, тоже была на стороне Дрейфуса. Я перессорился с не которыми из приятелей. Даже папа был антидрейфусаром, и я чуть ли не целую не делю не разговаривал с ним.
Но г-н Пруст никогда не говорил мне, как к этому относилась его мать, ведь она была еврейка. Впрочем, я не думаю, что в деле Дрейфуса заговорила его еврейская кровь. Все было лишь в столь присущей любви к справедливости.
Да и сам он без особой нежности говорил о некоторого рода евреях:
– Приходилось ли вам бывать в Марэ, в квартале еврейских торговцев?
– Нет, сударь.
– Тем лучше для вас, Селеста, вы избежали безобразного зрелища человеческой низости, хотя, с другой стороны, это было бы хорошим уроком. К счастью, они не все такие; ведь не только у евреев процветают подобные пороки. Но эти торговцы!.. Не удивительно, что Христос прогнал их из храма!
Мне кажется, оказавшись между двух религий, он не захотел выбирать одну из них. Однако в детстве его сильно поразило, что дед с материнской стороны, биржевой маклер Натан Вейль, каждый год посещал великопостные проповеди в соборе Парижской Богоматери.
– И знаете, что он мне говорил, Селеста?.. «Они намного выше нас». Это произносилось за столом в присутствии папа, матушки и всех других.
Мы редко и мало говорили о религии. Мне не приходилось слышать, чтобы он выступал против какой-нибудь веры. Только один раз сказал, что абсолютно осуждает отделение церкви от государства и даже написал в 1904 году статью для «Фигаро» по этому поводу: «Смерть соборов». Его больше всего возмущало то, что гибнет красота церквей Франции, осужденных на медленное умирание.
И все-таки, верил ли он в Бога? Г-н Пруст никогда не посвящал меня в это, оставив только два вопросительных знака, ответ на которые унес с собой в могилу.
Не буду даже упоминать о ежегодных мессах, которые он заказывал для тех или других – в память об умерших, об Агостинелли или даже моих родных. Это были, конечно, всего лишь знаки внимания, он просто пользовался общепринятыми обычаями. Но стоит упомянуть его неоднократное и еще задолго до смерти выраженное желание, чтобы заупокойные молитвы для него читал аббат Мюнье, хотя это так и не осуществилось, как я уже рассказывала. Во-вторых, история с четками Люси Фор, младшей дочери президента Феликса Фора, на которой его когда-то хотели женить.
Он так и оставался с ней в дружеских отношениях и после того, как она вышла за Баррера, посланника при Святом Престоле. Она была очень набожна и привезла ему после своего паломничества в Иерусалим четки. Однажды, вспоминая прошлое, он велел достать из комода сувениры, перебирал их, а потом сказал:
– Посмотрите, на кресте гравировка: «Иерусалим». Как бы я хотел туда поехать! Но все-таки у меня есть эти прелестные четки. И знаете что, Селеста? Когда-нибудь вам придется закрыть мне глаза... Да, да, вашими милыми ручками. И я хочу, чтобы вы обвязали мои пальцы вот этими четками. Обещайте мне!
Вопреки всем рассказам, это было задолго до конца, еще во время войны 1914 года, а потом повторялось множество раз за все наши восемь лет. И не то чтобы ему хотелось взять с собой в могилу память о Люси Фор – он всегда говорил, что не любил ее. Так что же тогда?
Я хорошо знала г-на Пруста – если он ничего не говорил, значит, считал, что дело касается только его одного. Единственным намеком может служить, пожалуй, уже упоминавшаяся мною фраза о встрече в долине Иосафата, когда я спросила его: «А вы, сударь, верите в это?»
– Не знаю, Селеста.
И не мое дело пытаться выводить отсюда какие-то заключения.
XVIII
НЕДОВЕРЧИВЫЙ ТИРАН
В конце концов, не так уж и многое в нем осталось для меня непонятным, что я так и не узнала от него самого. Постоянно наблюдая за ним и слушая его, я подсознательно переняла от г-на Пруста и проницательность, и способность здраво судить обо всем. У нас установилось своего рода взаимопонимание, благодаря которому я предугадывала его желания и даже мысли. Иногда он удивлялся:
– Дорогая Селеста, как вы угадали, что я хотел попросить у вас рубашку?
Я как бы читала малейшие изменения его лица и едва уловимые жесты. Может быть, именно потому, что нисколько не держалась за место и никогда не считала свою жизнь при нем службой или зависимостью. Да и он относился ко мне совсем не как к прислуге. Возможно, он почти сразу понял, насколько я была очарована им, и между нами установилось удивительное согласие.
Ведь кто бы остался у него только ради денег или спокойной жизни? Фелиция ушла, Селина рано или поздно сделала бы то же самое, даже Никола, самый преданный, не стал бы заниматься некоторыми вещами. Правда, г-н Пруст этого от них и не требовал. А мне даже говорить было не надо, и уж во всяком случае он знал, что все его желания будут с готовностью исполнены. Когда я по ночам ожидала его, прислушиваясь к двери лифта, то совсем не по обязанности, а единственно ради удовольствия встретить его и слушать его рассказы. Он благодарил меня, но, думаю, нисколько не удивлялся, поскольку прекрасно понимал мое отношение к нему.
Однажды, уже после смерти г-на Пруста, его племянница Сюзи, ставшая госпожой Мант, спросила меня:
– Наверно, жить с ним было не так-то легко?
– Для меня очень легко. Каким бы тираном он ни был, в конце концов, привлекало даже это, особенно после того, как становились понятны все причины.
Но и в своем тиранстве он был очень мил. Казалось почти невозможным всегда угождать ему. Он требовал все тут же и немедленно. Даже с Одилоном, которого он не подчинил себе так, как меня. Если г-н Пруст заказывал такси, муж должен был подъехать еще до того, как он спускался, а потом уже не отпускал его; возвратившись домой, просил подождать еще некоторое время на случай, если ему захочется выйти еще раз. Или вдруг в два часа ночи у него возникало желание выпить холодного пива, за которым надо было ехать в уже закрывшийся «Риц». Как только я запирала за ним дверь, он уже не возвращался взять что-либо забытое – все было заранее предусмотрено до последней мелочи. После его ухода для меня раздавался сигнал боевой тревоги – я должна была убрать квартиру и все приготовить к тому моменту, когда он возвратится. Если я уходила часов в восемь или девять утра, то редко без целого списка поручений, которые требовалось исполнить еще до его вечернего выхода – отнести письма, позвонить по телефону, заказать столик или кабинет в «Рице»... А как только он начинал входить в день, начиналась, кроме кофе и приготовления одежды, обычная серия мельчайших скрупулезностей. Одевшись, он звал меня, все еще обтирал лицо салфетками:
– А сколько уже времени, Селеста? Вы помните, что нужно позвонить? И еще отнести записки, сразу же как только я уйду? Не представляю, когда вернусь; надеюсь, все будет сделано? И, конечно, уберите мою комнату, не забудьте только проветрить.
Или:
– Ну что ж, Селеста, вот какое дело... Я не хотел выходить, но мне кажется, было бы неплохо повидаться с княгиней Сузо. Нужно позвонить и узнать, могу ли я приехать. Как вы думаете? Но все-таки я очень устал.
– Сударь, если вы хотите, я иду звонить.
– Да, конечно, но побыстрее, пожалуйста. Вы успеете нагреть белье и вызвать парикмахера? Надо еще заказать такси, часам к... подождите, я сейчас соображу...
Он высчитывал время для ножной ванны, согревания белья, одеванья, бритья и потом точно называл мне час. И я бежала во весь опор.
Даже как будто доверяя, он не переставал во всем сомневаться и наблюдать, а время от времени устраивал настоящие проверки.
Но это недоверие относилось лишь к тому, что ему было интересно. Деньги, например, совершенно не волновали его. Из наследства родителей и двоюродного деда Луи г-н Пруст получил вполне достаточно, чтобы не стеснять себя в своих желаниях. Тем не менее, он весьма скрупулезно относился к ведению денежных дел – по его словам, это было у него от матери.
Каждое утро он читал в газетах те страницы, где писали о финансах, а вечером только ради этого покупались «Ле Деба», «Ле Тан» и биржевые бюллетени. После возвращения Одилона с войны г-н Пруст часто задерживал его допоздна, чтобы поговорить о курсе акций. Он очень ценил здравомыслие моего мужа и даже давал ему советы, а одно время настойчиво рекомендовал покупать акции «Шелл», предсказывая их повышение, что и оправдалось на самом деле. У него был счет в «Креди Индустриель», и он пользовался услугами финансового советника, Лионеля Озера, жившего в районе Обсерватории. Но он никогда с ним не встречался, а только писал письма. Даже если и правда, что он многим говорил о своем «разорении», тем не менее я никогда не видела, чтобы ему не хватало денег, кроме как в Кабуре, когда банки бежали в Бордо. Думаю, что все его жалобы были лишь еще одной уловкой для оправдания своего уединения и отдаления от светской жизни. Только один раз он потерял большую по тем временам сумму – тысячу восемьсот франков, – играя на бирже. Это случилось еще до войны, и было отчего разволноваться. Именно по этому поводу он вспоминал:
– Папа предсказывал, что я умру на соломе; кажется, он был прав.
Все-таки г-н Пруст лишь подсмеивался над этими словами, а мне никогда не говорил, что «разорился». Но он был очень зол на того банкира, который втравил его в эту биржевую аферу:
– Просто поразительный кретин, я так и сказал ему.
Но, полагаю, это было сказано в письме. Точно так же, если он за три года до смерти и продал часть мебели, то отнюдь не из-за стесненных обстоятельств, а просто не знал, что делать со всеми этими вещами, когда мы уезжали с бульвара Османн. Более того, он даже хотел отдать вырученные деньги своей старинной приятельнице госпоже Шейкевич, чтобы помочь ей в трудную минуту.
Но, конечно, г-н Пруст заботился о состоянии своих финансов, не желая оказаться в один прекрасный день без средств, не более того. Однако как именно тратились деньги, его совершенно не интересовало. Одилон, к примеру, записывал все поездки у себя в книжечке, но никогда сам не предъявлял ее – просто г-н Пруст время от времени спрашивал его о накопившейся сумме, чтобы рассчитаться с ним, не задавая лишних вопросов.
Мне он иногда не платил по три-четыре месяца мои сто франков – тысячу с чем-то на нынешние деньги. Из них я еще оплачивала расходы по дому, которые, конечно, возмещались при представлении счетов. Впрочем, сам счета он никогда не проверял, а сантимы всегда округлял до франков.
Только один раз он заметил:
– Вы не находите, Селеста, что кофе с молоком – это дорогое удовольствие?
Поскольку я ставила в счета скорее меньше истраченного, чем больше, то и ответила ему:
– Вы хотите сказать, сударь, что я записывала то, чего не покупала?
– Ну-ну, Селеста, это просто шутка.
Очевидно, его интересовала моя реакция. Но больше ничего подобного не повторялось.
В самом начале, когда я только обучалась – а ведь он постепенно, мало-помалу, приучал меня к своим вкусам и потребностям, – устраивалось нечто вроде внезапных проверок.
Однажды – редкий случай – он входит в кухню, а я как раз кончала мыть кофейную посуду и уже вытирала чашку великолепной кухонной салфеткой. Видя это, он говорит:
– Дорогая Селеста, зачем вам эта салфетка? Ведь вода из крана чище.
– Сударь, салфетка чистейшая, прямо от прачки. А что, по-вашему, я должна делать? Подавать вам мокрую чашку?
– Хорошо, хорошо.
И он повернулся, не сказав больше ни слова.
В другой раз, собирая посуду на поднос, я взяла стакан, захватив его пальцами изнутри.
– Селеста, нельзя так брать даже грязные стаканы.
Я вся покраснела и извинилась. Слышали бы вы, как строго он это сказал! Но зато потом, всякий раз видя у кого-нибудь такой жест, я испытывала неприятное чувство.
Теперь о простынях. Он никогда не спал на одних и тех же по два раза. В самом начале он наставлял меня:
– Когда я ухожу, пожалуйста, не забывайте открывать окна для проветривания.
В зависимости от погоды и сезона для этого всегда оговаривалась продолжительность. Возвратившись, он спрашивал:
– Все сделано, Селеста?
– Да, сударь, я открывала окна, как вы мне сказали.
– Знаю, я проезжал мимо и видел, что они уже закрыты. Значит, он специально приезжал на такси для проверки.
Как-то раз я ему сказала:
– Сударь, насколько я понимаю, доверие прекрасно сочетается с надзором. Он улыбнулся и ничего не ответил. Если г-н Пруст хотел досадить или обидеть, это было ужасно. Он не тратил много слов, но каждое уязвляло и обижало. Помню, ему что-то немедленно понадобилось, и я ответила:
– Сударь, это невозможно.
– Дорогая Селеста, такого слова просто не существует.
– И тем не менее меня учили ему, сударь.
– Это неправильно, вы должны усвоить, что «невозможно» – не французское выражение.
Однажды, совершив оплошность, я воскликнула:
– Ах, черт побери! Он строго посмотрел на меня:
– Селеста, вы забываетесь. И это уже больше не повторялось.
В другой раз у меня оказался слишком большой список Дел, и я забыла об одном поручении. Поскольку он следил буквально за всем, то сразу же сделал мне замечание. Рассердившись, я сказала ему:
– Сударь, я просто в отчаянии, простите меня, но у меня не такая память, как у вас, я забыла.
– Дорогая Селеста, вы постоянно твердите, будто делаете все, чтобы угодить мне. Так вот, если делают с желанием, тогда ничего не забывают. Поймите, память, как и все остальное, можно развивать.
Меня так обидел его тон, что за всю последующую жизнь у него я ничего не забывала. И он так быстро приучил меня ко всему, что уже не приходилось делать мне упреки. Это стало гордостью моей жизни.
Но больше всего тиранство и недоверие касались телефона и записок; при его занятиях в этом заключалась вся жизнь, потому что от них зависели его выходы, необходимые для его работы, и вообще вся связь с внешним миром.
Когда я появилась на бульваре Османн, то не имела ни малейшего представления ни о телефоне, ни о том, как с ним обращаться. В квартире было несколько устройств с маленькими рычажками для переключения разговоров в ту или другую комнату и даже ответвление к консьержу, которое позволяло ему в течение дня принимать сообщения, а потом, когда просыпался г-н Пруст, передавать их наверх. Он научил меня пользоваться всем этим: сначала звонить самой, а потом и выслушивать звонки. Однажды вечером, уже проснувшись, он велел переключить рычажок в его комнате, дал мне нужный номер и сказал:
– Пожалуйста, возьмите аппарат и говорите.
Он стоял за моей спиной, а я дрожала как лист. Мое «Алло!» было столь невнятным, что г-н Пруст выхватил у меня трубку и стал говорить сам. Закончив, он повернулся ко мне:
– Вам нечего бояться, Селеста. Это очень просто. Вообразите, что разговариваете с кем-нибудь. Поняли? Теперь делайте, как я.
После этого он прочитал мне целый курс лекций о том, что нужно говорить: «Я имею честь разговаривать с г-ном графом де... г-ном X.? Или с госпожой Y.? И, конечно, при соответственных титулах, которые мне были указаны заранее. Мало-помалу и довольно быстро я освоилась со всем этим, несмотря на сохранявшийся еще страх. И скоро уже наизусть знала имена и номера телефонов всех близких знакомых г-на Пруста. Для этого я старалась тренировать свою память, как на то мне было указано в столь резкой форме. Кроме того, я вырезала небольшую картонку и записала всех друзей, чтобы проверять себя на случай сомнений. Когда надо было идти звонить в кафе на угол улиц Пепиньер и Анжу, я для большей уверенности справлялась по списку, чтобы не случилось каких-либо задержек. Г-н Пруст совершенно не переносил ожидания, да и сама я любила делать все быстро.
Поначалу он заставлял меня повторять сообщения, но скоро это стало ненужным. Я превратилась чуть ли не в магнитофон, и люди обманывались: «Алло! Это вы, Марсель? Как приятно!» Одна из его приятельниц даже упрекала его за то, что он позволял мне подделываться под его голос. Но, конечно, это происходило совершенно бессознательно. В некотором смысле этот голос всегда звучал внутри меня. Он передавал мне, что говорили его знакомые по этому поводу, и смеялся, как удачной шутке. Некоторые сердились, им не нравилось разговаривать не лично с ним самим: «Селеста, всегда эта Селеста! Каждый раз надо договариваться через эту вашу Селесту!» Для них он ссылался на свою болезнь, но от меня не скрывал, что это его забавляет. Впрочем, в большинстве случаев со мной разговаривали очень любезно, как и при разноске писем. Почти все обожали г-на Пруста, и даже одно слово от него казалось манной небесной, пусть хоть и через кого-то другого.
Удостоверившись, что на меня можно положиться и в телефонных звонках, он как бы невзначай все-таки не переставал устраивать проверки. Сидим как-то в его комнате и болтаем о том, о сем. Он увлечен беседой, но вдруг замолкает, словно погружаясь в глубокое раздумье; потом столь же неожиданное пробуждение, за которым следует вопрос:
– Послушайте, Селеста, пока я еще не занялся делами, вы можете повторить ответ на мою записку?
Или:
– Дорогая Селеста, недавно мы говорили об одном предмете...
– О чем именно, сударь?
– Помните, я просил вас позвонить в «Галлимар», кажется, госпоже Лемарье... или г-ну Троншу?..
– Это была г-жа Лемарье, сударь.
– Ах, да, действительно так. Но сейчас я как-то не припомню, что вы должны были сказать ей. Вам не трудно повторить ее ответ?
При этом он не смотрел на меня – в разговоре редкий для него случай. Когда я ответила, г-н Пруст повернулся ко мне и сказал с милой улыбкой:
– Благодарю вас, именно так. И простите эту просьбу, я устал и ничего не мог толком вспомнить.
Но я точно знала, в чем дело. При всем доверии ко мне у него возникло подозрение. И он не успокоился до тех пор, пока я не повторила ему свой выученный урок.
Даже сегодня меня удивляет то, как непринужденно я с ним разговаривала, даже сама не осознавая этого, и, полностью подчиняясь ему, делала это по собственной воле, даже ради удовольствия. Поэтому и держалась совершенно естественно, ведь я слишком любила его, чтобы по-настоящему бояться.
На экземпляре «Пародий» он написал мне: «Королеве пародии... меньше властности, больше величия и мягкости...» Зато на подаренной фотографии наоборот: «Селесте от ненавистного тирана» или еще: «Селесте с любовью от старого Марселя».
Я говорила только то, что думала, больше ничего, и всегда знала свое место. В разговоре меня иногда увлекало негодование – как, например, по отношению к Ле Кюзиа. Он видел, что меня понесло, и говорил, имея в виду дом моих родителей:








