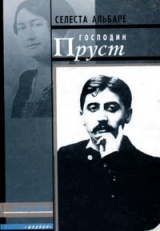
Текст книги "Господин Пруст"
Автор книги: Селеста Альбаре
Соавторы: Жорж Бельмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
VII
ГУРМАН СВОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
Самое удивительное заключалось в том, что, невзирая на болезнь, он сопротивлялся и работал, не имея для этого даже тени какого-либо подкрепления. Вернее, его поддерживали только тени прошлого.
Однажды у меня случился приступ синусита, и он настоял на вызове доктора Биза. Осмотрев меня, доктор Биз прошел к г-ну Прусту и, воспользовавшись случаем, сказал мне в его присутствии:
– Кроме того, надо питаться, Селеста. Вы слишком мало едите. Не берите пример с г-на Пруста.
И, повернувшись к нему, добавил:
– Это действительно так, мэтр. Вы работаете как поденщик и при этом морите себя голодом!
Когда он ушел, г-н Пруст сказал мне:
– Слышали, Селеста? «Как поденщик...»
И, широко улыбнувшись, с довольным блеском в глазах:
– Это делает мне честь...
Доктор Биз был прав.
Я все спрашиваю и спрашиваю себя, где он брал силы, чтобы жить такой жизнью, не давая себе ни малейшей передышки. Я так никогда и не узнала, сколько он спал и спал ли вообще. Это была тайна, заключенная в четырех стенах его комнаты. Да, конечно, он отдыхал. Закрывал глаза, умолкал и уходил от всего. В такие моменты его неподвижность просто пугала меня – он едва дышал. Под светом этой зеленой лампы, с руками, вытянутыми поверх белой простыни, его можно было принять за покойника. Он мог уходить в себя и при посторонних, никто не осмеливался тревожить его, словно завороженного принца.
Но если только подумать о другой стороне, как он растрачивал себя в своей работе, и когда выходил из дома, и в те долгие часы разговоров со мной, что уже никак нельзя считать экономией сил, если он полдня оставался в постели. И где же он брал тогда энергию для всего остального?
То, что он ничего не ел, это ничуть не преувеличение. Я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-нибудь годами жил, питаясь всего двумя круассанами и двумя чашками кофе. Да и два круассана он съедал далеко не каждый день!
Но даже эта единственная еда (если можно так сказать) стала постепенно уменьшаться. Уже во время войны 1914 года он отставил круассаны и никогда с тех пор не употреблял их. Взамен я пыталась приохотить его к песочному печенью, тоже очень легкому. Мне посоветовали одного повара из богатого дома, у которого оно получалось просто восхитительным. Я принесла это печенье на подносе, и г-н Пруст, попробовав, спросил, откуда оно, а потом сказал:
– Поблагодарите этого человека за труды, и вас я благодарю за заботу, дорогая Селеста.
Но оно не понравилось ему и было отставлено, как и все прочее.
Почему единственное его питание состояло из кофе? Об этом я никогда у него не спрашивала. Я вообще опасалась задавать лишние вопросы. Надо сказать, он был очень чувствителен к качеству его приготовления. Правда, раз научившись делать все, как он хотел, больше уже не возникало особенных трудностей, и почти не было риска испортить напиток, хоть иногда он и вздыхал жалобно:
– Селеста, как вы это делали? Кофе совсем испорчен. Может быть, он уже старый? Вы уверены, что взяли такой, как надо?
– Не знаю, сударь, это все тот же.
Не могла же я сказать, что, быть может, сегодня у него не тот вкус.
Несомненно, кофе был нужен как стимулирующее средство. Он пил его очень крепким, хотя и разбавлял молоком.
Фактически такое кофейное питание задумывалось как диета, но самым главным было молоко. Он пил его чуть ли не по литру за день. И за все мое пребывание не выпил ни одной чашки черного кофе.
У меня все так и стоит перед глазами: серебряный кофейник с его инициалами, фарфоровый молочник под крышечкой, чтобы сохранять горячее молоко, и большая чашка с золотым ободком и фамильным вензелем; рядом на блюдечке круассан, покупавшийся в булочной на улице Пепиньер.
Для еды он всегда оставался один, делал мне знак рукой, и я уходила. Не могу сказать, например, много ли он сахарил свой кофе. Из двух чашек, входивших в кофейник, он выпивал за первый приблизительно полторы. Потом доливал свою полулитровую чашку кипящим молоком. Если пил вторую, то почти сразу вслед за первой и кофе наливал уже подостывшим, но молоко должно было быть кипящим, и его приходилось менять на новое, которое я приносила вместе со вторым круассаном.
Все было предусмотрено до мелочей. Я никогда не видела, чтобы он выпивал больше двух чашек. Хотя и редко, но случалось, что перед выходом из дома для подкрепления он выпивал кофе, но со свежим кипящим молоком.
Многие думают, что он пил кофе в больших количествах. Совсем нет, если в чем и были излишества, так это в лишении себя пищи и в перегрузке работой. Но для работы главный стимул находился внутри, в голове.
Естественно, я говорю о том времени, когда жили у него в доме. Возвращение из Кабура и война были крутым поворотом во всем укладе его жизни.
До войны время от времени он еще съедал что-нибудь, просил Никола приготовить ему рыбу или заказать в ресторане какое-нибудь лакомство. И вообще, за редкими исключениями во избежание запахов все приносилось в дом уже готовым из соседнего ресторана «Людовик XVI», тут же на бульваре Османн, даже для Никола и Селины. А сам г-н Пруст прежде часто обедал и ужинал вместе с друзьями в ресторане «Ларю», очень модном, на углу улицы Рояль и площади Мадлен. И, наконец, уже когда шла война недолгое время он бывал в ресторане «Риц».
Если г-н Пруст заказывал что-нибудь Никола, то после кофе, часа в два или три. Никола подвала кушанье ровно в пять или в шесть. Но уже тогда это было редкостью – никак не чаще одного раза в две недели или даже в месяц, иногда ради того, чтобы подкрепиться перед выходом из дома. И он не требовал, чтобы я занималась кухней. Еще при Никола это было сведено к самой малости, тем более, как он сразу понял и сам сказал мне об этом, я ничего не умела, разве что разжечь плиту, чему научила меня сестра мужа, да еще готовить для Одилона диетическую еду.
Но пришел день, когда не стало ресторана «Людовик XVI», – весь квартал этих домов был снесен под строительство Индокитайского банка. И г-н Пруст позволил мне готовить для себя, а иногда и для него или ожидавшегося гостя. Мне это было не слишком трудно – у меня есть наблюдательность и любопытство; как и с приготовлением кофе, я могла поучиться всему еще у Никола. Да и требования г-на Пруста были не слишком велики. Как и во всем другом, здесь он тоже отличался простотой. Но когда-то он был тонким гурманом, и я замечала, что желания у него возникали под наплывом воспоминаний.
Он прошел хорошую школу у своей матушки и кухарки Фелиции. Я уже говорила, как он вспоминал телятину этой Фелиции:
– Ах, Селеста! Больше всего я любил ее холодной, с желе и ломтиками моркови.
При этом глаза его блестели от удовольствия.
Однако все мясное было не для него. В крайнем случае, да и то лишь изредка, немного цыпленка.
Зато иногда ему хотелось рыбы, и он говорил мне:
– Дорогая Селеста, пожалуй, я охотно поел бы жареного соля. Когда бы это могло быть, если вы не возражаете?
– Да сейчас же, сударь.
– Как вы добры, Селеста!
Совсем рядом, на площади Сент-Опостен, была прекрасная рыбная лавка. Я бежала туда, приносила соля, жарила его и спешила подать на большом фарфоровом блюде с половинками лимона по всем четырем углам, как это делал Никола.
Почти только солей он и ел до самого конца жизни. Для всего остального аппетит пропадал у него, как только перед ним ставилось блюдо. Поковырявшись в тарелке, он звал меня, и я уносила ее, иногда совсем нетронутую.
И если говорить о настоящей еде, то, кроме цыпленка и соля, за все восемь лет я видела только, как один раз он пробовал барабульку, два раза корюшку, несколько раз русский салат, два раза яйца. Но, например, я никогда не видывала, чтобы он взял в рот хотя бы кусочек хлеба.
Русский салат я не рискнула бы и делать, да оно и невозможно: нарезанные овощи, майонез – никак не поспеешь, когда еда нужна сразу, моментально. Поэтому его брали от «Ларю».
Все остальное я готовила сама.
Барабулька покупалась только марсельская и только в одном месте – у Прюнье, возле Мадлен. Как он говорил, нигде во всем Париже она не была столь свежей, крупной и сочной. У него сохранилось в памяти, как отец водил их в ресторан Прюнье.
Что до корюшки, помню, как в первый раз он спросил меня с этой своей хитроватой мягкостью:
– Я поел бы жареной корюшки, Селеста. Но ведь вы, наверно, не умеете?
Это задело меня, и я возразила, что, конечно, умею. Но когда увидела в лавке этих рыбешек, показавшихся мне маленькими змейками, то встала в тупик: чистить ли их и вообще что с ними делать? Пришлось обратиться к соседям на первом этаже – кухарка доктора Гагэ была единственной моей знакомой во всем доме. Она не только превосходно готовила, но всегда старалась еще и всячески услужить мне. У нее-то я и попросила совета и в конце концов заслужила комплименты г-на Пруста. Он ел корюшку и второй раз, а на третий сказал:
– Если не окажется корюшки, возьмите пескарей, но только очень свежих.
Представьте, по свойственному для него волшебству г-н Пруст угадал: корюшки и вправду не было. Я приготовила пескарей, но он не стал их есть – после корюшки они показались ему слишком большими.
Совсем другая история с яйцами. Как-то раз он говорит мне:
– Селеста, а, может быть, вы умеете делать и взбитую яичницу?
– А почему нет, сударь?
– Тогда я съел бы, из пары яиц.
– Хорошо, сударь, одну минуту. Я иду на кухню, вполне уверенная в себе, готовлю яйца и подаю ему на блюде и подносе, гордая своими талантами.
Он смотрит на яичницу, потом на меня:
– Дорогая Селеста, вот это и есть взбитая яичница?
– Конечно, сударь, – говорю я, уже чувствуя какое-то беспокойство.
– Вы уверены?
Но я вообще ни в чем не была уверена.
– Сударь, мне казалось, это именно то, что вам нужно.
– В этом-то я не сомневаюсь, но, по-моему, то, что вы принесли мне, называется глазуньей. В следующий раз буду говорить яснее.
Только из-за моего удрученного вида он оставил яичницу и чуть-чуть притронулся к ней. Я была совершенно вне себя и кинулась к своей приятельнице-кухарке, которая от души посмеялась надо мной и показала мне все, как надо делать. После этого я объявила г-ну Прусту, что теперь я уже научилась. Он ничего на это не ответил, однако по прошествии времени был уже вполне доволен моей взбитой яичницей.
Наверное, хватило бы десяти пальцев, чтобы сосчитать, когда он ел у меня жареный картофель. Обычно это случалось уже поздно вечером, если он никуда не уходил, или пару раз для какого-нибудь гостя. Картофель я подсушивала, и он ел с большим удовольствием.
Теперь я думаю, что его внезапные желания возникали в те моменты, когда он старался уловить уже исчезнувшее для него время – его потерянный рай. Все это относилось или к молодости, или к той эпохе, когда он жил у родителей, но прежде всего было связано, конечно, с матерью, очень заботившейся и о столе, и вообще о содержании дома.
Иногда ему в голову приходили какие-нибудь капризы. Например, птифуры надо было покупать непременно у Ребатте, потому что матушка считала их самыми лучшими в Париже. Он рассказывал:
– Однажды ко мне пришел мой приятель композитор Рейнальдо Ан, и, когда мы с матушкой пили чай, он в шутку сказал ей: «Сударыня, держу пари, если я при несу вам птифуры Потан, вы не отличите их от ваших хваленых Ребатте!» Матушка ответила ему: «Хорошо, Рейнальдик, сделай себе удовольствие, а там посмотрим».
Или, например, как-то вечером г-н Пруст вдруг говорит мне:
– Кажется, я охотно съел бы бриошь от Бурбонне... Но вы поняли меня, Селеста? От Бурбонне.
И я отправилась на улицу Ром. Бриошь была подана на блюдце и подносе. Он отщипнул крошку и съел. Остальное поехало обратно.
Бывало и так:
– Селеста, мне хочется чего-нибудь шоколадного.
– Чего именно, сударь?
– Выбирайте сами.
Иногда я выслушивала подобные просьбы в десять, а то и в одиннадцать часов вечера и бежала на улицу Боэти в «Латинвилль», который, к счастью, не закрывался допоздна. Или вдруг ему хотелось варенья, сиропа, мороженого или каких-нибудь фруктов.
Фрукты я брала у Оже, на бульваре Османн, где летом и зимой всегда были самые лучшие. Обычно он просил грушу или виноград. Но с годами у него пропал вкус к свежим фруктам. Он ел иногда слабо подслащенный компот, который я должна была варить в точности столько минут, как он говорил. Чаще всего компот оставался нетронутым, а он говорил мне, словно скрывая свое разочарование:
– Дорогая Селеста, не знаю, что уж вы с ним сделали, но компот испорчен.
Мороженого ему хотелось обычно очень поздно вечером. После войны за ним всегда ездил в «Риц» Одилон, часто посреди ночи, когда г-н Пруст возвращался из гостей.
Один или два раза, не больше, он просил варенья и сироп.
– Покупайте у Танарда, на улице Сэз, за Мадлен. Матушка всегда брала только там.
Отведав чуть-чуть, он уже больше к нему не притрагивался. Как-то ему захотелось смородинного сока. Но стакан так и остался почти непригубленным. Я спросила:
– Вам понравилось, сударь?
Он поднял на меня глаза и сказал, вздохнув, с грустной, какой-то детской улыбкой:
– Не очень. Странное дело, Селеста. Раньше он казался мне вкуснее.
Питье было упрощено до предела. Каждый вечер я приносила на ночь бутылку эвианской воды. Раз откупоренная, она уже больше не употреблялась. Кроме своего кофе, он ничего не пил, особенно вина, ни капли, но иногда по внезапному капризу – немного пива. Молодой тогда писатель Рамон Фернандес соблазнил его свежайшим пивом в пивной «Липп» на бульваре Сен-Жермен. Во время войны я посылала туда на такси мою сестру, помогавшую мне тогда по хозяйству. Когда возвратился Одилон, он ездил за пивом в «Риц» уже с холодным графином. Это почти всегда было посреди ночи, и у Одилона на этот счет была договоренность с Оливье Дабеска, директором ресторана, который ради такого хорошего клиента разрешил Одилону входить на кухню, когда там уже никого не было, и самому брать пиво и лед.
В одной книге рассказывается, будто г-н Пруст за ужином в ресторане «Риц» пил шампанское и «проглотил жаркое из баранины». Это полнейший абсурд. Конечно, я не жила у него, когда он обедал и ужинал в городе, но не сомневаюсь, что и там он притрагивался к кушаньям и питью ничуть не больше, чем у себя дома. Возвратившись, он обычно перечислял мне содержание меню, но без вожделения, скорее как забаву и для удовлетворения своей постоянной потребности в узнавании вещей. И очень часто или сам, или отвечая на мой вопрос, говорил, что ничего не ел. Да и с чего бы ему есть там больше, чем, например, принимая у себя гостей?
А принимал он лишь изредка, да и то по одному человеку. Это меня вполне устраивало, ведь я совсем не сходила с ума по кухне – она скорее надоедала мне.
Когда приходил гость, г-н Пруст так и оставался в постели. Я освобождала маленький столик и раскладывала салфетку с прибором для одного человека. Меню всегда оставалось неизменным – наверное, он приспосабливал его к моим возможностям: рыбное филе и цыпленок в сопровождении мороженого от «Пуар-Бланш». Иногда был только цыпленок и мороженое с фруктами.
Единственная более или менее настоящая трапеза была устроена для его брата Робера по случаю награждения орденом Почетного Легиона. Мне было велено приготовить дыню, цыпленка, сласти и фрукты.
Рассказывают, будто он часто просил меня среди ночи поджарить картофель и подать с сидром для приведенного гостя. Такое действительно случалось раз или два, но сидр бывал редко.
Для этих обедов я покупала хорошие вина, белые и красные, под рыбу и мясо, а в остальном употреблялось шампанское – только «Вёв Клико» – или портвейн с птифурами от Ребатте.
Я прежде всего хотела, чтобы остался доволен сам г-н Пруст, а гости уже во вторую очередь. Нужно было видеть, как он радовался, когда они хвалили моего цыпленка.
Теперь я понимаю, что, с одной стороны, и здесь им руководило стремление к совершенству, но такому, как его понимали в его прошлом – именно отсюда приверженность к одним и тем же привычным магазинам и фирмам. Это тем более поразительно, если вспомнить, как далеко он видел в своих книгах, где пророчески показал конец и этого мира, и этого общества.
С другой стороны, было стремление к работе, ради которой он жертвовал своим здоровьем. Часто, видя его утомленным, я огорчалась, замечая нетронутое блюдо, и спрашивала:
– Сударь, почему вы не едите? Разве можно выносить такой режим?
– Рассудите сами, Селеста: после хорошего обеда тяжелеешь, и голова уже не свободна, понимаете? А мне нужна ясная голова.
Однажды я рассказала ему:
– Когда моя мать ходила в школу, там была сестра-послушница, которая все время боялась, что дети слишком много едят, и приговаривала: «Хватит, дети, хватит, не ешьте столько, и у вас будет ясная голова и крепкое здоровье». Так и вы, сударь, как и эта послушница!
Он много смеялся моему рассказу, хотя и сам прекрасно знал, что так оно и есть на самом деле.
И, возможно, обе стороны соединялись – требования творчества и вкус к прошлому. Борясь с потоком времени, чтобы завершить свой труд как можно быстрее, он уже предчувствовал конец стольких вещей, некогда любимых, а теперь, когда за ним гналась по пятам смерть, ставших лишь тенями воспоминаний.
VIII
ЕГО ЧРЕЗМЕРНАЯ СТЫДЛИВОСТЬ
То совершенство, к которому он всегда стремился, относилось и к его манере держать себя, в том числе к одежде и другим привычкам. Здесь тоже проявлялась его привязанность к прошлому. В последние годы кое-кто, особенно из узнавших его уже знаменитым, говорили, что он похож на человека из прошлого века. После войны мода сильно переменилась, а он носил платье старого покроя, с этими высокими и твердыми воротничками. Но только глупцы могли называть его смешным, не понимая той естественной элегантности, благодаря которой все ему шло, и все было на своем месте. Я не сомневаюсь, что для большинства знавших его он до конца так и оставался тем настоящим аристократом, каким я увидела его в ту первую встречу.
И прежде всего эта его манера держаться. Как я уже говорила, он был скорее высокого роста, худощав и при этом имел обыкновение как бы откидываться назад, что еще больше удлиняло его. Это вообще свойственно астматикам, они словно бы стараются освободить свое дыхание.
В нем не было ни малейшей скованности. Даже удивительно, что человек, который половину жизни проводил лежа, обладал такой гибкостью и грациозностью движений и жестов. Даже в постели, слегка склонив голову и подперев рукой щеку, он поражал впервые приходивших к нему своим шармом. А для меня это было непрерывное наслаждение, никогда не надоедавшее.
Помню, кажется, в 1919 году, уже после войны, г-н Пруст согласился принять г-на и г-жу Сидней Шифф, его больших почитателей из Англии, и снял для этого отдельный кабинет в «Рице». Потом он рассказывал, что, когда вошел одетый в смокинг, г-жа Шифф едва сдержала возглас восхищения.
– И, знаете, что она сказала мне?.. «Я думала увидеть седого старца, а передо мной стоял молодой человек!»
Тогда ему было уже сорок восемь лет.
Стоит сказать, что еще одной поразительной чертой этого великого больного был цвет его кожи. Конечно, в постели он иногда походил на мертвеца. Но если воодушевлялся, или перед гостями, или придя домой, пусть даже утомленным, у него всегда был великолепный цвет лица, еще более оттенявшийся черными волосами, черными усами и блестящими черными глазами, не говоря уже о зубах невероятной белизны, которую он сохранил, несмотря на болезнь и почти полное отсутствие питания. Я не помню у него зубной боли и ни одного испорченного зуба. Самое забавное, что прямо над нами, на бульваре Османн, квартировал великолепный дантист, американец г-н Вильяме, у которого лечилась одна из близких приятельниц г-на Пруста, г-жа Строе. Пару раз, выйдя от него, она заходила навестить «дорогого Марселя» и настаивала, чтобы он показался этому американцу: «Пользуйтесь случаем, Марсель, даже если у вас ничего не болит. Он ведь прекрасный дантист! Лучший во всем Париже!» Хоть он и обещал ей, но, конечно, никуда не ходил.
В рассказах о его кокетстве доходили и до париков, и до того, что он подкрашивал себе глаза и лицо. Но темнота под глазами была у него от бессонной работы и болезни, а с кожей он вообще ничего не делал, ее красота и тонкость были совершенно естественны, в точности как на портрете Жака Эмиля Бланша. Для его черных усов и волос не требовалась никакая краска.
Форму усов он менял один раз, когда сбрил бороду, перед тем как я познакомилась с ним. Он носил их довольно длинными, но потом, уже после войны, единственный раз уступив моде (то ли по совету парикмахера, то ли его уговорили друзья из « Рица»), подстриг их под Шарло, но при этом спрашивал у меня:
– Представляете, Селеста? Мне советуют носить усы, как у Шарло, и говорят еще: «Ведь вы так молодо выглядите».
Сделав это, он не переставал сомневаться:
– Дорогая Селеста, вам не кажется, что у меня смешной вид с этой щеткой под носом?
Совсем нет, сударь, напротив, это и вправду молодит вас.
Он радовался, да я и не лгала – такие усы действительно делали его моложе.
Нельзя сказать, чтобы у него было кокетство в костюме, тем более при таком простом и строгом гардеробе. И он почти не обновлял его, во всяком случае на моей памяти. Впрочем, для этого и не было особой надобности: лежа в постели, он ничего не изнашивал. Кроме кабурского вигоневого пальто, оставалось еще только то, которое лежало на постели для внутреннего употребления, да еще норковая шуба и черное пальто. Из костюмов при мне было сшито два или три, вот и все.
Он всегда одевался к венецианскому карнавалу на бульварах, и для этого в квартире делалась примерка. Ему очень нравился один пожилой английский закройщик, которого я прекрасно помню, – два или три раза я должна была сказать ему, когда он приходил, что г-н Пруст никак не может принять его, то ли из-за астмы, то ли ему был нужен отдых после работы. Этот добряк уже привык к такому приему и, ответив со своим английским акцентом: «Когда г-ну Прусту будет удобно», – уходил.
Кроме фрака и смокинга, имелись еще несколько визиток, которые он носил с брюками в полоску. Иногда он надевал черный пиджак. Все, конечно, сшитое по мерке.
У него была целая коллекция жилетов, дорогих, но однотонных. Помню, что он заказал себе особенно красивый жилет из красного шелка на белой шелковой подкладке. Он примерил его и показал мне, поворачиваясь перед зеркалом. Потом сказал:
– Нет, конечно же, нет. Это хорошо для такого денди, как Вони де Кастеллян. А я не хочу быть посмешищем.
Жилет был отправлен в шкаф, и он никогда его не надевал.
То же самое и с игрой в галстуки. Кроме бабочек (черных для смокинга и белых для фрака), все остальные были строго сдержанные и только один яркий, который надевался очень редко. Одно время он носил банты от «Либерти», но они ему надоели, я видела их только в коробке.
Что касается обуви, то это всегда были ботинки на пуговицах, кроме одной пары – за восемь лет, – которую он поручил мне купить.
Было велено взять такие же, как всегда, – черные лаковые ботинки в магазине «Старая Англия», на углу бульвара Капуцинов и улицы Скриб. Я толком не поняла адрес и зашла в маленький шикарный магазинчик, тоже на бульваре Капуцинов, и купила там лаковые туфли с бежевым верхом. Я взяла их на пробу, потому что они не были совершенно черными. Когда г-н Пруст увидел их, они почему-то понравились ему, и он сказал:
– Посмотрим, надо попробовать.
Найдя эти туфли весьма элегантными, он потом всегда надевал их, но, конечно же, не к черному фраку.
Обувь он изнашивал ничуть не больше, чем одежду, потому что ездил только в такси, а ходил по коврам или по паркету. И, конечно, как человек привычек, во всем ненавидел какие-либо перемены. Ему было хорошо с уже давно носившимися вещами. Кроме того, выбирать, примерять, покупать – все это требовало времени и усилий. Тем более и выходил-то он только в те часы, когда магазины были закрыты, поэтому сам ничего не покупал, а только заказывал.
Заниматься туалетом – это была уже целая история, которая сильно утомляла его, здесь он признавал помощь парикмахера и никого более.
Часто я видела, как он в постели занимался ногтями, и с какой тщательностью! Но зато сам он никогда не брился, а если не выходил из дома и никого не ждал, так и оставался небритым. Но когда ему нужно было куда-нибудь идти, я быстро бежала к г-ну Франсуа, неподалеку, на бульваре Малерб. Он, наверное, ходил еще к отцу г-на Пруста. Г-н Франсуа сразу же являлся, это было всегда вечером; весь набор его инструментов – ножницы, кисточки, щетки и бритвы, – так и лежал у нас на бульваре Османн. Но все остальное в туалете г-на Пруста оставалось тайной. Когда он лежал в постели, даже не могло быть и речи, чтобы положить ему грелку или, например, поправить рубашку на спине. В интимной сфере он отличался крайней стыдливостью. И, думаю, совсем не потому, что я была женщиной; по моим наблюдениям, точно так же дело обстояло и при Никола.
Никогда, абсолютно никогда, ни один человек не входил в туалетную комнату, когда он был там.
Меня всегда смешило мнение тех людей, которые принимали за реальность то, что г-н Пруст приписывал «Рассказчику» в своей книге, и думали, будто это происходит с ним самим. Он, например, пишет, как служанка Франсуаза входит без предупреждения и застает «Рассказчика» с голой Альбертиной. А раз уж г-н Пруст взял Фелицию, Селину и меня, чтобы вывести эту служанку, они думают, будто и я входила таким же манером и видела всяческие сцены. Здесь можно сказать только одно – они совершенно не знали г-на Пруста. У нас было строжайше запрещено входить в комнату без вызова! А что касается всяческих сцен, то это сама по себе целая история, к ней я еще вернусь в своем месте. И вообще думать, будто его книги списаны с жизни самого г-на Пруста, значит по меньшей мере, принижать его воображение.
Еще до того, как г-н Пруст в конце 1914 года отказался от телефона, я часто звонила по его делам, а поскольку он всегда прислушивался к звонкам, двери и в его комнату, где был аппарат, и в туалетную комнату оставались открытыми. Поэтому иногда мне случалось видеть некоторые подробности его туалета.
Но не более того, что он до бесконечности чистил зубы и никогда не пользовался мылом, а только прикладывал к лицу смоченные салфетки из-за чрезвычайной нежности его кожи, которая не переносила трения. При этом весь остальной туалет был уже почти закончен, брюки и верхняя рубашка надеты, оставалось только лицо.
Он всегда соблюдал скрупулезную чистоту, ведь его отец был не только знаменитым врачом, но еще и специалистом по гигиене. От него г-н Пруст перенял страх перед микробами, что уже само по себе побуждало его к маниакальной чистоте.
Да и не он один отказался от мыла. Мне рассказывали, что таким же был и великий английский писатель Бернард Шоу, который считал мыло противоестественным и вредным и мылся только чистой холодной водой.
Правда, г-н Пруст не доходил до этого. Ему была нужна горячая вода, даже очень горячая. И если он не пользовался никакими туалетными средствами, ни одеколоном, ни кремами из-за запаха, то зато все время употреблял патентованный дезинфектант, которым полоскал не только рот, но и горло при малейших неприятных ощущениях.
Вспоминаю про один редчайший случай, когда у него на носу появился нарывчик и он протер его своим дезинфектантом, после чего нарыв сильно воспалился, и тут я увидела, как г-н Пруст забеспокоился, что случалось с ним довольно редко.
– Он растет. Придется, пожалуй, вызвать доктора Биза.
Доктор Биз не заставил себя ждать и, выслушав г-на Пруста, разволновался:
– Какая неосторожность! Вы могли внести себе сильную инфекцию. Бывали случаи, когда они распространялись даже на мозг.
Когда все прошло, г-н Пруст много смеялся над этим, передразнивая волнение доброго доктора.
Но все-таки он так и употреблял везде свой дезинфектант – даже в воде для мытья рук, что, впрочем, меня совсем не удивляло.
Конечно же, туалет, как и все прочее, представлял собой раз и навсегда заведенный ритуал. Сначала баня для ног, потом два кувшина горячей воды с кухонной плиты. В то время на бульваре Османн еще не провели водопровод, кроме крана в кухне.
У него был красивый, с золотым узором эмалированный таз для ног, единственное украшение туалетной комнаты, если не считать еще большую щеточницу черного дерева с его серебряным вензелем.
Сначала я просто пугалась горячей воды, которой он мылся, где-то около 50 градусов, но потом убедилась, что это тоже рассчитано, – пока начиналось мытье, вода остывала до нужной температуры.
Что касается нательного белья, то, перед тем как выходить из дома, он полностью менял его. Носил он только шерстяное от фирмы «Расюрель». Однажды я купила ему другое, показавшееся мне хорошим и красивым, но он так и не надевал его.
Рубашки, как и вода, тоже нагревались, и на кухне все время жарко топилась большая печь. Я заранее клала белье в духовку, чтобы оно успело прогреться, а когда он просил его, выкладывала на стул.
Еще до того, как он начинал заниматься своим туалетом, все должно было быть приготовлено – вода, одежда, салфетки – и разложено по своим местам на столике и стульях. После этого я уходила, а он вставал, одетый в пижаму и шерстяную рубашку; если было холодно, сверху надевалось черное пальто на клетчатой подкладке. На ногах были или шлепанцы или большие суконные туфли с застежками, которые он обычно носил дома.
Следует отдельно сказать о церемонии с салфетками. Всякий раз я готовила целую стопку, штук двадцать; он промокал себя каждой всего по одному разу, а потом таким же манером сушил кожу. Этих тонких нитяных салфеток был громадный запас, и все они отправлялись для стирки в заведение Лавинь, потому что в квартире ничего не стирали.
Впоследствии, уже после его смерти, я служила в отеле на улице Канетт, и там на пятьдесят комнат в стирку шло не больше белья, чем у г-на Пруста. Иногда, глядя на эти кучи, я говорила ему:
– Сударь, только подумать, сколько вы тратите понапрасну денег!
– Каких денег, Селеста?
– Все эти салфетки совершенно чистые, а вы кидаете их!
– Дорогая Селеста, вы просто не понимаете, от слишком мокрых салфеток у меня трескается кожа.
Чистка зубов также обходилась в целое состояние. Он пользовался всегда одним и тем же мельчайшим порошком, приготовленным по рецепту его отца в аптеке Леклерка. Зубы он тер щеткой, беря порошок раз пятьдесят, и в результате все покрывалось им, зеркало, столик и он сам, и уже перед самым выходом, случалось, я говорила ему:








