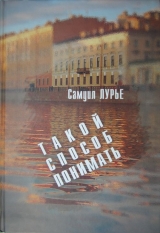
Текст книги "Такой способ понимать"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК СЭРА ТОМАСА
Необитаемый остров – самое подходящее место, чтобы перечитать роман, сочиненный в тюрьме. В пятый раз перечитаю, в шестой – пока не расплету, как сеть из конского волоса, этот многолюдный, многобашенный сюжет, эту необозримую сказку, называемую «Смерть Артура», – нелепую, но с восхитительными разговорами.
Сэр Томас Мэлори, заключенный рыцарь, придумывал диалоги как никто. Темница, ясное дело, располагает к раздвоению голоса, но литературный дар сэра Томаса, вдруг раскрывшийся в плачевных обстоятельствах на шестом десятке лет, был, по-видимому, не что иное, как образ мыслей. Сэр Томас оказался мастером прямой речи, потому что чувствовал обмен словами как взаимодействие воль, из которого и состоит материя жизни.
Фраза требует вздоха, замаха и падает, как удар.
Балин убил на поединке ирландского рыцаря; откуда ни возьмись какая-то девица на прекрасной лошади: падает на труп ирландца и, рыдая, пронзает себя мечом. Балин, озадаченный и расстроенный, углубляется в лес – вдруг видит: навстречу ему скачет рыцарь – судя по доспехам, его брат Балан, – а Балин как раз и странствует в поисках этого брата, – они целуются, плачут от радости, наспех обсуждают создавшееся положение и намечают дальнейший маршрут, уже совместный, – трогаются в путь, – тут на поляну въезжает галопом конный карлик и, завидев мертвые тела, начинает стенать и плакать и от горя рвать волосы на голове. Чепуха, сами видите, несусветная, уличный театр кукол.
Но вот карлик обращается к Балану и Балину.
– Который из двух рыцарей совершил это?
В другой книге, скорей всего, ему сказали бы: а тебе что за дело?
– А ты почему спрашиваешь? – сказал Балам.
Ответный ход карлика исчерпывающей простотой доставляет мне неизъяснимую отраду.
– Потому что хочу знать, – ответил карлик.
И только теперь, как если бы предъявлен неотразимо убедительный резон:
– Это я, – сказал Балин, – зарубил рыцаря, защищая мою жизнь; ибо он преследовал меня и нагнал, и либо мне было его убить, либо ему меня. А девица закололась сама из-за своей любви, и я о том сожалею…
Ну, и так далее; остановиться, передавая подобные речи, не так-то легко: герои романа изъясняются между собой на каком-то идеальном языке, словами единственно возможными, – вероятно, таков синтаксис неразведенной правды (губительный, увы, но веселящий огонь!) – как будто французскую фабулу пересказывают под английской присягой.
Впрочем, о правде – потом, а пока – всего лишь об искусстве: закройте ладонью вопрос рыцаря и ответ карлика – якобы ненужный вопрос, якобы бессмысленный ответ – видите? – что-то обрушилось; какая-то таинственная значительность происходящего как бы изникла; да и происходящее перестало происходить, превратилось в произносимое; вот я и говорю, что сэр Томас умел придавать длительности разговора – объем, подобный музыкальному.
* * *
Зато не видел пейзажа. В его книге никогда не идет дождь, никогда не падает снег; сплошь трава и тень; солнце замечают лишь когда оно мешает замахнуться; время стоит, и дамы не стареют, и настоящая ночь наступает лишь однажды, под самый конец.
Это первый и последний раз, когда раздается в романе шум моря, и разливается лунный свет, и взгляду не препятствуют деревья, – короче, только перед смертью горстка уцелевших героев попадает в пространство реальности – причем исторической, так что мало в мировой литературе страниц черней; Лев Толстой, например, на такую не решился:
«Вдруг слышат они крики на поле.
– Пойди, сэр Лукан, – сказал король, – и узнай мне, что означает этот крик на паче.
Сэр Лукан с ними простился, ибо был он тяжко изранен, и отправился на паче, и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и лихие воры и грабят и обирают благородных рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты и добрые кольца и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают, ради богатых доспехов и украшений».
Это, стало быть, народ так деятельно безмолвствует, откуда ни возьмись. А до сих пор обладатели пряжек и браслетов носились друг за другом по романной чащобе и на опушках и прогалинах истребляли друг друга без помех и без посторонних – как полоумные, как во сне:
«– Сэр рыцарь, готовься к поединку, ибо тебе придется со мною сразиться, тут уж ничего не поделаешь, ведь таков уж обычай странствующих рыцарей, чтобы каждого рыцаря заставлять сражаться, хочет он того или нет».
Исключительно ради спортивного интереса: выполнить норму мастера, а глядишь – и пробиться в чемпионы.
И роман переполнен репортажами о турнирах и матчах, совершенно стереотипными: первым делом копья разлетаются в щепу, потом сверкают мечи; трава обрызгана кровью, и все такое, и проходят час и два, пока счастливый победитель не распутает у поверженного противника завязки шлема, чтобы отрубить ему голову.
При этом обнаруживает иной раз – довольно часто – что ни за что ни про что шинковал столько времени родного брата или единственного друга: не узнал под железным намордником, – и начинаются прежалостные сцены.
Ведь в лесу эти герои все безликие – закованы в сталь – ни дать ни взять говорящие примусы в рост человека – и с одинаково глухими голосами.
Такая вот школа военно-патриотического воспитания: с утра до вечера – и не жалея лошадей и женщин. Впрочем, супруга директора, как полагается, изменяет ему с чемпионом; ревность и зависть изо всех сил тянут интригу к роковому финалу.
Все это давно выцвело бы, как лубок (ведь и Бова Королевич некогда прозывался шевалье Бюэве д’Анстон), когда бы не боевая мощь прямой речи:
«– …А что вы изволите говорить, что я долгие годы был возлюбленным госпожи моей, вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любою рыцаря на земле, кроме вас и сэра Гавейна, что госпожа моя королева Гвиневера – верная супруга вашему величеству и нет на свете другой дамы, которая тверже бы хранила верность своему супругу: и это я готов подтвердить с оружием в руках… И потому, мой добрый и милостивый господин, – сказал сэр Ланселот, – примите милостиво назад вашу королеву, ибо она верна вам и добродетельна».
Вот какая здесь правда: головой выше бесстыдной лжи, причем это мертвая голова; скорей всего, ваша. Чей обезглавленный труп, за ноги привязав к хвосту кобылы, оттащат после поединка на помойку, – тот и лжец. А Господь Бог почему-то ведет себя, как оруженосец Ланселота.
О, как сбивают они с толку – сочинения про то, чего никогда не бывает в жизни! Они одни способны хоть что-то переменить.
* * *
«Погибоша, аки обре» – означает: исчезли бесследно. Это, как все помнят, из древнерусской летописи, из «Повести временных лет». Дескать, пробегал мимо славян в Западную Европу такой народ, необыкновенно свирепый, и жестоко обращался с местным населением, и за это Бог «потреби я, помроша вси». Строго говоря, геноцидом этих обров, то есть аваров, распорядились Карл Великий и за ним франкские короли, но истребили, году к 822, действительно, всех до единого, так что на земной поверхности осталась только материальная часть: оружие, утварь, конская сбруя.
Одна из этих трофейных вещей понравилась франкам и пригодилась необычайно. Европейский воин держался на коне, как наш Медный Всадник: вздумай он вооружиться длинным мечом, тяжелым копьем – замахнувшись, опрокинулся бы в плоскость змеи. А к аварскому седлу подвешены были на ремнях – азиатская хитрость! – тесные такие, зыбкие ступеньки – стремена!
Они тут же вошли в употребление, переменив облик конника и ход войн. Отныне – с упором для ног – удар стал гораздо сильней – соответственно пришлось укрепить защитный доспех, завести крупные лошадиные породы, и так далее. Короче, образовалась такая живая бронетехника – чуть не полтысячи лет втаптывала прочее человечество в грязь.
Неуязвимые посреди беззащитных, опасней тиранозавров, жадные, неумолимые насильники. Одно спасение, что эти железные чучела бесперечь убивали друг дружку.
Да вот еще в Уэльсе, в некотором княжестве Гвент – как раз где при царе Горохе, при короле Артуре стоял Круглый Стол – кельтские туземцы умели делать из ветви дикого вяза огромный лук: тетива растягивалась до уха; и оказалось, что стрела – в гусиных перьях, со стальным наконечником – пробивает насквозь кольчугу, латные штаны и седло, пригвождая рыцаря к лошади. Целиться, стало быть, приходилось из древесных кущ, из высокой листвы, прибегая к мерам камуфляжа.
В XV веке – у сэра Томаса, можно сказать, на глазах – наемные лучники – зеленые куртки – сошли на равнину, став королевской пехотой, – лошадей убивали тысячами – феодальному призыву пришел конец: вот когда и железные – кто за Алую розу, кто за Белую, а кто и без лозунгов, рядовым участником Столетней войны – в свою очередь поголовно погибоша.
Но – нет, не аки обре: литература еще при жизни этого ужасного сословия пересочинила их, рыцарей, оплетя соблазном самообмана. Под музыку льстивых сантиментов – наподобие шестерки, ублажающей главаря блатным романсом (что ни душегуб – то большое сердце), она завлекала их новой, небывалой, выдуманной добродетелью – любезностью, учтивостью, вежеством, одним словом – courtoisie. О смешной жалости к слабым или там сирым никто, ясное дело, не заикался; в моду, однако, входила идея, что растерзать добычу сразу же – не священный долг, что хоть иногда, хоть кое с кем – лучше по-хорошему: это по-своему тоже красиво, да и благоразумно.
Провансальские менестрели, немецкие миннезингеры больше налегали на изобретенную ими (в XII еще столетии) куртуазную любовь. Но сэр Томас Мэлори, как философ тюремный, стоял за вежливость: конечно, прежде всего потому, что среди профессиональных убийц она, наподобие спортивного регламента, прививается легче и прочней; но еще, я думаю, и по той причине, что в природе нет ничего похожего на вежливость; согласитесь: помимо привилегии на секс лицом к лицу – только дар деланной улыбки, только мимика доброй воли вроде как приподнимает человека над фауной.
«– … Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело – прийти на помощь другому рыцарю, которому грозит опасность. Ведь честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия. А хороший человек всегда поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним».
Вот зачем в романе «Смерть Артура» так прекрасно внятен, так внятно прекрасен диалог, чтобы поступки не затмевали побуждений.
* * *
Сэр Ланселот Озерный – ладья белых, по-старинному – тура; непоспешная такая поступь. Слабовольный сэр Тристрам Лионский – типичный офицер: ходит по диагонали. Короли и королевы сверх комплекта, и кони вместо пешек. Из черных фигур особенно активен сэр Брюс Безжалостный, рыцарь-предатель. А самый симпатичный – сэр Ламорак Уэльский, он же рыцарь Красного Щита.
«…вся земля была окровавлена, где они рубились. Но вот наконец сэр Белианс отступил назад и тихонько присел на пригорок, ибо он был совсем обескровлен и обессилел и не мог уже больше стоять на ногах.
Тут закинул сэр Ламорак свой щит за спину, подошел к нему и спрашивает:
– Ну, как дела?
– Хорошо, – отвечает сэр Белианс.
– Так-то, сэр, и все же я окажу вам милосердие в ваш трудный час.
– Ах, рыцарь, – говорит сэр Белианс сэру Ламораку, – ты просто глупец. Будь ты у меня в руках, как я сейчас в руках у тебя, я бы тебя убил. Но благородство твое и доброта столь велики, что мне ничего не остается, как только забыть все то зло, какое я на тебя держал.
И сэр Ламорак опустился перед ним на колени, отстегнул прежде его забрало, а потом свое, и они поцеловались, плача обильными слезами».
В самом деле – абсурдное существо этот сэр Ламорак. Прямо князь Мышкин. Его тема, его навязчивая идея – победить, чтобы сразу же сдаться. Не знает страха, не ищет славы, не умеет ненавидеть. Скучает, наверное, в бессмысленных этих боях.
«– Во всю мою жизнь не встречал я рыцаря, чтобы рубился столь могуче и неутомимо и не терял дыхания. И оттого, – сказал сэр Тристрам, – сожаления было бы достойно, если бы один из нас потерпел здесь урон.
– Сэр, – отвечал сэр Ламорак, – слава вашего имени столь велика, что я готов признать за вами честь победы, и потому я согласен вам сдаться.
И он взялся за острие своего меча, чтобы вручить его сэру Тристраму.
– Нет, – сказал сэр Тристрам, – этому не бывать. Ведь я отлично знаю, что вы предлагаете мне свой меч не от страха и боязни передо мною, но по рыцарскому своему вежеству.
И с тем сэр Тристрам протянул ему свой меч и сказал так:
– Сэр Ламорак, будучи побежден вами в поединке, я сдаюсь вам как мужу доблестнейшему и благороднейшему, какого я только встречал!
– Нет, – отвечал сэр Ламорак, – я явлю вам великодушие: пусть мы оба дадим клятву отныне никогда больше не биться друг против друга».
Дерется, как Ланселот, любит, как Тристрам, великодушней всех – и всех несчастней: его снимают с доски в седьмой главе пятой книги – с каким позором!
«… а потом прошел во внутренние покои и снял с себя все доспехи. После того взошел он на ложе к королеве, и велика была ее радость, и его тоже, ибо они любили друг друга жестоко…»
А в соседней комнате, только представьте, сын этой дамы, этой королевы Оркнейской – рыцарь, между прочим, вполне половозрелый, – отсчитывает минуты, поскольку чуть ли не сам подстроил это свидание как западню.
«…сэр Гахерис, выждав нужное время, взошел к ним и приблизился к их ложу во всеоружии, с обнаженным мечом в руке, и, вдруг схвативши свою мать за волоса, отсек ей голову…. В одной рубашке выскочил сэр Ламорак, горестный рыцарь, из постели», – вот и кончена его история. Где-то за кулисами погибнет, не отомстив, – зарежут в каких-то кустах вчетвером.
Это самая середина романа. С этой минуты он клонится к упадку: приключений все меньше, привидений все больше, – вежливость все реже торжествует, голоса грустней.
Пожертвовав сэром Ламораком, белые сразу же получили проигранную позицию. То-то они приговаривают на каждом шагу – сэр Ланселот, и сэр Тристрам, и сэр Гарет: желал бы я, милостью Божией, быть там поблизости в час, когда пал убитым этот благороднейший из рыцарей, сэр Ламорак! Явно сердятся на автора за недосмотр и предчувствуют, чем все это для них обернется.
Похоже, что и автору нехорошо, – изменившимся, коснеющим слогом он здесь же сообщает как бы в скобках, что болезнь – «величайшее бедствие, какое может только выпасть на долю узнику. Ибо покуда узник сохраняет здоровье в своем теле, он может терпеть заточенье с помощью Божией и в надежде на благополучное вызволение, но когда недуг охватывает тело узника, тут уже может узник сказать, что счастье ему окончательно изменило, тут уже остается ему лишь плакать и стенать».
Ламорак – в сущности, анаграмма. Вроде как автограф с нарочитым росчерком. Гвоздем по камню: год 1469, дело дрянь, помолитесь о душе рыцаря и кавалера. Грамерси.
D.и T.СВОЕЮ КРОВЬЮ…
Наитончайшие умы разобъяснили, задыхаясь, почему эту книгу должно почитать главной литературной удачей человечества. Нет на свете, – утверждают единогласно шлегели и гегели, – другого романа столь увлекательной глубины. Расходятся всего лишь в одном важном пункте: понимал ли сам автор, чтосочинил? догадывался ли, к примеру, что заглавный герой – не идиот, а идеал? или сеньор Мигель Сервантес де Сааведра не знал такой печали – ограниченный началом семнадцатого века, не умел, как потомки-романтики, оплакать в Дон Кихоте – себя, Дон Кихота – в себе, и это как раз тот, особенно счастливый для шлегелей, случай, когда текст умней своего творца?
Нам ломать голову над такими вещами, слава Богу, не приходится; в советском издании на последней странице красуется штамп: «Значение „Дон Кихота“ заключается в полном и ярком отображении жизни Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох»!
Познавательная ценность
С этой точки видно далеко, причем ландшафт совершенно буколический. Везде следы довольства, кое-где – и труда, и никакая ужасная мысль не омрачает душу. Проносятся, сбивая с ног неосторожного путника, стада овец, быков, свиней, – стало быть, животноводство на подъеме. Вращаются крылья ветряных мельниц, колеса мельниц водяных, грохочут на сукновальне гидравлические молоты, – похоже, и с техникой все в порядке. Типография завалена работой; книги повсюду в большом ходу; две-три найдутся на первом попавшемся постоялом дворе; личная библиотека мелкопоместного дворянина включает около сотни томов; разговор о литературных новинках – обычный застольный; присовокупим сельскую художественную самодеятельность: хороводы козопасов и все такое. Культура, одним словом, процветает. Уровень материального достатка – соответственный; что-то незаметно, чтобы крестьяне жили впроголодь или работали до седьмого пота; и прямо-таки невероятно часто встречаются среди них несметные богачи. Люди других сословий тем паче не бедствуют; к тому же кое у кого есть родственники в Америке. Наконец, повсюду торжествует правосудие: каторжники, этапируемые на галеры, и те в один голос признают, что наказаны по заслугам; араб, и тот одобряет свое изгнание; действительно, говорит, нельзя было не выдворить меня, притом с семьей и без имущества, поскольку некоторые из лиц нашей национальности лелеяли преступные замыслы; доколе, говорит, могло королевство пригревать змею на своей груди… Недобитых евреев и неискренних выкрестов, с ними колдунов и фальшивомонетчиков жгут где-то за горизонтом, а на местах общественный порядок поддерживают народные дружины – Святое Братство… Короче – данная энциклопедия испанской жизни исполнена в соцреалистическом ключе (наподобие, скажем, кинофильма «Кубанские казаки») – то-то и сделалась тотчас по выходе излюбленным чтивом слуг.
Внедренный в такие обстоятельства инопланетный полицейский робот выглядел бы уморительно даже в скафандре суперпрочном: без толку тратит энергию аккумуляторов и словарный запас. Помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю помощь замужним, сирым и малолетним! Помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных!(Звучит, как точить ножи-ножницы!или починяю примус! – но странным, печальным образом напоминает что-то совсем другое). Реклама потешная: помочь замужней, всем известно, средства нет! – и где же в Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох вы заметили сирого? Вот разве что этот подпасок, с которым не расплатился деревенский кулак. И неприятная история во втором томе: тоже кулацкий сынок свалил во Фландрию, дефлорировав дочь дуэньи. На всю эпопею – двое обиженных! И читателю верноподданному приятно сознавать, что в обоих случаях грамотный юридический совет пособил бы потерпевшим, уж наверное, успешней, чем копье юродивого.
Стеклянная голова
А он и сам не зациклен, так сказать, на униженных-оскорбленных: не диссидент, не заступник народный, тем более не Гамлет какой-нибудь – далек от предвзятых идей типа что будто бы не то строй прогнил, не то век жестокосерд, или, там, Испания – тюрьма… Боже избави! В современности, благоустроенной Филиппом III и герцогом Лермой, – лишь одно не нравится Дон Кихоту: что она норовит обойтись без него.
Впрочем, он убежден, что это с ее стороны – притворство; что на самом деле все эти чужие люди, снующие мимо по каким-то якобы своим делам, – да и лодка у берега – и мельница на пригорке – существуют не сами по себе, а только чтобы подманить его и подать условный знак, – и всякий раз что-то мешает угадать, какого ответа ждут, какого жеста или поступка, – всякий раз не на того заносишь меч – призрак приключения, кривляясь, исчезает, – и опять барахтаешься в дорожной пыли, весь избитый, плюясь зубами.
Злой волшебник из глубины пространства с ним играет, словно бумажкой на веревочке: бумажка шуршит – Дон Кихот бросается в атаку – зрителям весело.
А читателю – еще веселей, причем его забава утонченней: для него черепная коробка героя прозрачна, словно стеклянная; отчетливо видно, как ум заходит за разум, реальность втесняется в другую реальность, – и вот под давлением воли очередная ошибка превращается в очередную глупость.
Скажем, проезжает ночью по дороге катафалк – пылают факелы, попы поют. Что везут покойника – безумец понимает, а ритуала не узнает – словно впервые видит эти одеяния, впервые слышит этот речитатив, – не приветствует, короче говоря, пресвятую католическую нашу мать, а, наоборот, ощетинивается.
«Он вообразил, что похоронные дроги – это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, не долго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги…»
Смотрите, смотрите: вообразил, решился, уже действует, – но какой-то предохранитель в поврежденном мозгу еще не вышел из строя; запрашивает – в чем долг и кто враг!
«– По всем признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость».
Но у кого же хватит терпения вежливо сносить нелепые расспросы. Дон Кихоту, как обычно, хамят, – и он больше ни о чем не думает, а знай наносит удары.
Рекорд мира
Признаюсь: эта его черта – щекотливость, или раздражительность, меня трогает: тут он непредсказуемо живой – сумасшедший неподдельный, простодушный, опасный: осмельтесь выказать ему хоть малейшее пренебрежение – или, хуже того, проговориться, что он смешон, или – от чего Боже вас сохрани – намекнуть, что у него не все дома, – какая мощь вдруг является у него в руках и голосе! какой он делается быстрый! разобьет вам голову на четыре части, как тому погонщику мулов – помните, на первом постоялом дворе? – и отвернется равнодушно.
Храбрость есть храбрость – пускай назойливо неуместная, – ничего, что исключительно рукопашная: с панической ненавистью ко всему огнестрельному… Восхищаться не обязательно, – а не уважать невозможно. (И не сострадать – связанному, в клетке).
Но что в хорошем настроении он угощает собеседников замечательными речами о таких предметах, как военное искусство или, допустим, супружеское счастье, – это типичный авторский произвол. Это зк Сервантес, обогатив свою память и так далее, почитает нужным при случае увековечить несколько общих мест – слогом, по-видимому, абсолютным.
Насколько в силах судить иностранец, и весь-то текст «Дон Кихота» – назло мадридской, севильской, вальядолидской какой-нибудь литературной элите 1600-ых – рекорд мира в прозе: вот вам! удостоверьтесь – всё, что угодно, можно сказать так, что лучше нельзя!
Но какой нос он им всем натянул! Под видом революции лубочного жанра – под видом пародии, затмившей все оригиналы, – написал про что хотел, – про самое смешное из самого главного – про то, что самое главное – оно-то и есть самое смешное.
Катехизис
«– Все, сколько вас ни есть, – ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!»
В рыцарском романе вздорный этот вызов читался бы как тривиальный (наподобие хода королевской пешки е2—е4) зачин боестолкновения, включающий заодно идейную мотивировку: чтобы не было похоже, например, на вооруженный грабеж. Вызов – он и есть вызов: сила задирает силу; не тезис, а ультиматум; но мы не в рыцарском романе, и так называемый здравый смысл чувствует себя в безопасности:
«– Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину».
За подобное контрпредложение какой-нибудь сэр Ланцелот или, допустим, Амадис Галльский залил бы кровью – чужой, своей – несколько ближайших страниц. Дон Кихот слышит издевку, но едва ли не сильней раздосадован уверткой: какой интерес в игре, правила которой знаешь один? – вынужден напомнить – вернее, разъяснить:
«– Если я вам ее покажу, – возразил Дон Кихот, – то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту…» —
– чуть ли не уговаривает; чуть не плача; спохватившись, приосанивается:
«…а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд».
Ах, до чего умен был тот, кто заставил его проговориться в первый же рыцарский день! Поистине, сеньор Сервантес был чемпионом и пребудет королем литературной техники. «Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту»! Это ведь не что иное, как программа Дон-Кихотовой судьбы. И отсылка к сочинениям отнюдь не куртуазным.
Вот, например, в Евангелии от Иоанна – упрек Иисуса Фоме: «ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие».
Или Павел учит в Послании к евреям: «Вера… есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
И, конечно, в любом катехизисе какого угодно века (мне, впрочем, попал под руку православный, столетней давности, богословский словарь) изъяснено, что вера не нуждается в доказательствах и несравненно выше умозаключений:
«Познание (само по себе) не имеет характера добродетели, так как оно невольно навязывается человеку при ознакомлении его со внешним миром; вера же есть добродетель (а вместе и обязанность)…»
Именно это самое и втолковывает Дон Кихот гогочущей толпе (шестеро шелкоторговцев, семеро слуг) на проселочной дороге.
Выходит, дело не в том, кто первая в мире красавица; даже и не в том, кто первый боец; безумие Дон Кихота куда глубже таких глупостей. Он требует соучастия, причем не понарошке, а по-настоящему: как в первосортном рыцарском романе, – и пусть каждый исполнит свою роль добросовестно. Веру ему подавай. То есть даже не просто примите на веру, а именно уверуйте – явно и несомненно подразумевается переживание, подобное религиозному, – не то изрублю в капусту. Прямо какое-то крещение Руси. Не так давно – в 1492 году – Испания примерно такую же альтернативу предложила своим иудеям.
И в дальнейшем, если разобраться, Дон Кихот только и делает, что воюет за веру – точней, обращает неверных. Кого приглашает, кого понуждает (а ему – в лучшем случае – подыгрывают) разделить с ним почитание каких-то страшно важных для него ценностей – либо истин.
Спрашивается: каких? Вот он, угрожая мечом, приказывает этим самым шелкопрядам уверовать – во что? или: в кого? Неужто в императрицу Ламанчскую, лично им придуманную не далее как позавчера, притом исключительно как аксессуар (у положительного героя наиболее завлекательных книг непременно имеются конь и дама)? Лет двенадцать назад был влюблен в крестьянскую девочку – при встрече не узнал бы в обветренной тетке, – отчего ему до смерти (чужой, своей) хочется, чтобы как можно больше посторонних искренне – искренне! – считали, что она и теперь всех румяней и белее? или чтобы, по крайности, верили – но тоже без тени сомнения, – что в этот ослепительный факт всем сердцем верует он…
Про это и про то
Тут на плечи шлегелей вскакивают гейне-блоки, запальчиво лепеча: это любовь! Причем настоящая, то есть вечная и без пошлости, а не в сантиметровом диапазоне. Хорошему (в смысле – гениальному) мальчику странно и стыдно любить девочку (не имеет значения – какую) иначе как мечтательным проникновением в ее небесную сущность сквозь несказанно прекрасный образ. Да, взаимной такая любовь не бывает, счастливой тоже не назовешь, поскольку и эта сущность, и этот образ, открывшись внутреннему взору на миг, случайно: допустим, средь шумного бала (как если бы некто, послюнив палец, стер мутный слой с переводной картинки), – тут же пропадают из виду. Но пусть вокруг по-прежнему дискотека, – мальчик-то изменился навсегда: теперь память о той минуте – источник его вдохновения; тщетные попытки пережить ее вновь – содержание участи; в споре с самим собой: померещилось или на самом деле случилось – решается смысл его жизни. Дон Кихот, поскольку не гений, ведет этот спор холодным оружием. Смейтесь над ним: тоже нашелся великий любовник – под пятьдесят, хронический почечник, закрашивает зелеными чернилами заплаты на чулках. Но дайте срок – именно он, побитый шут, научит европейских поэтов новому культу Прекрасной Дамы.
С каким наслаждением выписывает Генрих Гейне слова, произнесенные Дон Кихотом в роковой момент, когда копье врага уже приставлено к картонному забралу: «– Дульсинея Тобосская – самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял».Это ли, дескать, не бессмертный пример идеализма чувств.
Русский поэт зашел дальше – сам того не зная, приблизился к Дон Кихоту почти вплотную: в своей Прекрасной Даме сразу (правда, не без подсказки – не без влияния модных в его время философем) опознал Душу Мира и понял свою влюбленность как мистический контакт. По-нашему сказать – как Откровение. Получилась (помимо неизбежной человеческой драмы) трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: «Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое»…
Вы, наверное, удивитесь: Дон Кихот, посвящая окружающих в свои отношения с Дульсинеей, позволяет себе кощунства не менее дерзкие. «Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием», – говорит он Санчо Пансе, которому откуда же знать, что это переиначенная цитата из речи апостола Павла в афинском ареопаге: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…»
Но духовные-то лица – в курсе. То-то они и вьются за Дон Кихотом на протяжении всего пути – бесчисленные каноники, священники, лиценциаты: экзаменуют, увещевают, обличают, противодействуют – и в конце добиваются своего. То-то и он питает к ним безотчетную ненависть и при каждом удобном случае – почему-то принимая людей в балахонах за бесов, – наскакивает с копьем, как рассказано выше.
Однако даже и Санчо, при всей своей якобы простоте, чует: с этой пресловутой страстью Дон Кихота к Дульсинее что-то не так. Предмет (верней, прототип, толстяку известный) чересчур превознесен и приукрашен, – это как раз понятно: любящие все страдают куриной слепотой. Но тут и загвоздка: что за любовь, которой не нужно совсем ничего, – блаженствующая в безличности, – подобная поздравительной открытке без подписи, как бы от неизвестного? И не хочешь, а призадумаешься: на самом-то деле – кто адресат?






