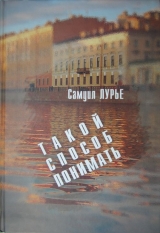
Текст книги "Такой способ понимать"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Поэтому на протяжении всего романа он удерживает руку Гринева, не допуская его сделаться убийцей. Все эти эпизоды построены одинаково. Как верный секундант, заботится Пушкин о чести своего героя. Он не позволяет нам усомниться в его мужестве, а все-таки не дает ему нанести роковой удар.
Помните, как Савельич окликнул Гринева как раз в ту минуту, когда он загнал Швабрина «почти в самую реку»?
А вот Гринев защищает Белогорскую крепость: «Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками…»
Вот эпизод из главы «Осада города»:
«…Наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: „Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует?“»
Еще один, последний, раз выхватывает Гринев свою саблю в ночной схватке под Бердской слободой. Выхватывает, замахивается, даже ударяет: «Я выхватил саблю и ударил мужика по голове…»
И что же происходит? Фраза кончается так: «Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали…»
Так оберегает Пушкин чистую совесть и строгий нейтралитет своего счастливца.
Еще одно важнейшее различие между Швабриным и Гриневым открывается в первый же день их знакомства. Швабрин – лжец. Он начинает с беспомощной, ребяческой уловки: спешит навести разговор на Марью Ивановну и представить ее «совершенною дурочкою», чтобы внушить Гриневу предубеждение против нее. А потерпев неудачу, теряет самообладание и с каждым днем опускается все ниже в глазах Гринева и читателя: сперва до «колких замечаний о Марье Ивановне», потом до прямых гадостей.
Гринев объясняет это двумя различными способами. Первый: «Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга». Иначе говоря, Швабрин ревнует Марью Ивановну. Второе объяснение: «В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви… »Другими словами: Швабрин мстит Марье Ивановне.
Но дело, видимо, обстоит еще хуже. Швабрин просто-напросто напрашивается на дуэль. «Швабрин не ожидал, – скромно замечает Гринев, – найти во мне столь опасного противника». Еще бы – откуда же ему знать, что пьяница Бопре был отличный фехтовальщик? Так что, стараясь вывести из себя семнадцатилетнего мальчика, он идет на предумышленное убийство.
Но когда и это сорвалось, Швабрин приносит лицемерные извинения (ну прямо вылитый Рэшли Осбальдистон, проверьте по «Роб Рою», если хотите), а сам отправляет анонимное (как же иначе?) письмо старику Гриневу.
То есть перед нами человек, вполне потерявший честь. Начав с почти невинной лжи, он становится доносчиком, затем сделается изменником, а в конце концов заслужит звание «главного доносителя».
Всему этому как будто есть оправдание. Вернее, нет причины сомневаться в том, что единственным содержанием жизни Швабрина является страсть к Марье Ивановне. Он называет ее Машей, потому что она выросла у него на глазах и уж наверное под его влиянием. Ей было лет четырнадцать, когда он приехал в Белогорскую. Четыре с лишним года они виделись каждый день. Это долгий срок. Либо тот убитый поручик был очень уж важной птицей, либо Швабрин не просил о смягчении своей участи. Скорее всего не просил. Он влюбился в деревенскую девчонку.
Он влюбился, но вел себя так, что родители Маши ни о чем не догадывались, и комендантша говорила при нем:
«Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою».
Когда Маше исполнилось семнадцать, Швабрин посватался. И получил отказ. Это было невероятно, необъяснимо, несправедливо.
Добавим, этот отказ обличал в бесприданнице и простушке силу характера и проницательность неправдоподобную. Ведь Швабрин был самым загадочным и блестящим человеком из всех, кого Марья Ивановна видела в жизни.
Но, видимо, она не осмелилась прямо заявить, что Алексей Иванович ей противен ( «…Ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх»). Наверное, просила дать ей время подумать (впоследствии она еще раз прибегнет к этой уловке). Но тут появился Гринев…
И все дальнейшие поступки Швабрина могут быть объяснены желанием во что бы то ни стало уничтожить или по крайней мере удалить Гринева.
Швабрин, как и Гринев, не желает участвовать в Истории.
Швабрину, как и Гриневу, на свете нужна лишь Капитанская дочка. Оба они плохие дворяне, если иметь в виду определение Пушкина, что дворянин – это человек, которому есть досуг заниматься чужими делами.
Правда, в отличие от Гринева (и подобно, скажем, Германну) Швабрин бесчестен, – однако этого мало, чтобы его презирать.
Пушкин видит то, чего Гринев, ослепленный ревностью, не замечает: негодяй Швабрин, когда Марья Ивановна оказалась в его власти, довольно странно использует свое положение. Не выказывая ни малейших претензий честолюбия, он ради нее остается в крепости (быть этого, конечно, не могло: не для мелких синекур брал Пугачев к себе на службу родовитых дворян). И чего же он хочет добиться – угрозами и принуждением – от Марьи Ивановны? Он просит и требует ее руки. Он желает жениться.
«Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день» («История Пугачева», глава третья).
И вот в краю, охваченном бесчинствами, Швабрин ищет одного – законного брака, семейного счастия с бедной сиротой. Он, конечно, злодей, но злодей романтический.
Чтобы одержать над ним моральную, а не только сюжетную победу, Гриневу приходится выдвинуть самое тяжелое и унизительное обвинение: Швабрин – трус. Вот как он суетится перед Пугачевым, «в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие…» «Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверием…» И еще раз: «Швабрин упал на колени… В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака…»
Все это – да еще ход поединка, в котором Швабрин оказывается искуснее, а Гринев – «сильнее и смелее», должно как будто убедить нас. Наверное, и Пугачеву Швабрин предался из трусости, спасая свою жизнь. О Шванвиче Пушкин так и пишет, что он «имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием» («Замечания о бунте», черновая редакция).
Но со Швабриным не так просто. Что бы ни говорил о нем Гринев, ход событий показывает, что Швабрин предложил Пугачеву свои услуги еще до появления самозванца под стенами Белогорской. Всего вероятнее – снесся с ним через урядника Максимыча. Иначе как бы он мог при въезде победителя «явиться в кругу мятежных старшин»? Значит, он решился на измену и сговаривался с казаками, когда участь крепости не была еще решена и сам Швабрин не видел «покамест ничего важного» в слухах о самозванце. Стало быть, он рисковал головою. Другое дело, что неясна его роль в падении крепости и что пощаду у Пугачева он выговорил только себе (скорее всего – полагал, как и Гринев, что Марья Ивановна успеет уехать).
Так что Швабрин – не Шванвич. Вряд ли он трус. На следствии он держится стойко. Скорее уж применимы к нему слова из «Пропущенной главы» романа: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
А Гринев? Гринев, напротив, добр и благороден. Он являет Швабрину завидный и мучительный пример: преследуя ту же цель, он совершает такие же проступки, но Швабрин проигрывает, а Гринев побеждает, и притом побеждает без страха и упрека, не жертвуя честью.
Ему для этого только и нужно положиться на провидение, то есть на волю автора. Гринев не может позволить себе просить милости у самозванца, стать перед ним на колени. Автор выручит его и обелит – и устроит так, что за Гринева все сделают другие: Савельич, например, или Марья Ивановна, или тот же Швабрин.
И вот наступает решительная минута. Петр Андреевич связанный стоит перед Пугачевым. Сейчас Пугачев предложит ему принести присягу, а Гринев, по примеру Ивана Кузмича и Ивана Игнатьича, бесстрашно скажет оскорбительные, насмешливые слова: «вор и самозванец». И его тоже вздернут на виселицу.
«Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей».
Теперь, когда читатель убедился, что Гринев и не думает спасаться, автору необходимо его спасти. Для этого есть только одно средство: не дать Пугачеву заговорить с ним.
В истории похожие случаи были.
«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. „Зачем вы шли на меня, на вашего государя?“ – спросил победитель. – „Ты нам не государь, – отвечали пленники: – у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец“. Они тут же были повешены. – Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав ему уже ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. Коли он был до вас добр, – сказал самозванец, – то я его прощаю. И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки» («История Пугачева», глава четвертая).
Казалось бы, чего проще? Пушкин мог перенести в роман этот исторический эпизод целиком, сохранив его логику. Пускай Пугачев, устав от оскорблений, молча махнет платком, и Гринева потащат к виселице, а там уже вмешается Савельич.
Но автору романа нужно, чтобы страшная минута длилась, испытывая-удостоверяя решимость Гринева Кроме того, и Швабрин должен сыграть свою роль. А роль его, по замыслу Пушкина, состоит в том, чтобы, несмотря на все усилия, не достигать своих целей и получать результат, противоположный намерениям. Это трагикомическая роль: Судьба смеется над Швабриным. Ранив Гринева на поединке, он только ускоряет его сближение с Марьей Ивановной. А теперь, когда Гриневу осталось жить не долее минуты и надо лишь дождаться, пока он выкрикнет роковую фразу и закачается на веревке, Швабрин спешит сократить и этот срок, пускается на ненужную низость – и этим, к своему отчаянию, спасает ненавистного врага.
«Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. „Вешать его<“, – сказал Пугачев, не взглянув уже на меня».
Вот и все. Герой по-прежнему от гибели на волоске, но минута, когда он сам мог решить свою участь, оскорбив Пугачева, уже прошла. Теперь можно выпускать Савельича и прибегать к приему узнавания, подключив к действию счастливое совпадение случайностей: прошлогоднюю метель, дорожную встречу, заячий тулупчик…
И сразу же наступает новое испытание. Но тут все обходится легче. Гринев по-прежнему тверд: он ни за что не поцелует Пугачеву руку. Он « предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». Но вслух он этого не говорит, потому что разбит и потрясен. Молчаливая неподвижность Гринева сохраняет ему честь – его даже не остригли в кружок, как Башарина, – и спасает ему жизнь, потому что дает Пугачеву возможность проявить великодушие.
Новая встреча Гринева с Пугачевым – троекратное искушение.
Первое – самое грозное.
«Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.
Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком – было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа».
Легко представить себе, что в подобном положении находился Пушкин, когда в сентябре 1826 года фельдъегерь доставил его из Михайловского прямо во дворец к новому императору Николаю, а тот спрашивал, глядя в глаза: «Чью сторону ты, Пушкин, взял бы, если бы оказался в Петербурге 14 декабря прошлого года?»
Тогда, десять лет назад, Пушкин сумел ответить прямо и не озлобить своего допросчика.
Возможно, он воспользовался приемом, который теперь применяет Гринев.
Вопрос, на который вынужден отвечать Петр Андреевич, – неискренний до бессмыслицы. Пугачев и сам прекрасно знает, что никакой он не государь. И понимает, что у Гринева на этот счет нет ни тени сомнения. Только что была неприятная сцена, в которой Пугачев так ненатурально, с такой комической важностью изображал владетельную особу, что Гринев «не мог не усмехнуться…».
Пугачев разгневан. Провести мальчишку не удалось. Теперь он пробует сломать Гринева. Его вопрос – замаскированная угроза: солги или умри [9]9
Две погибели перед героем: налево пойдешь – коня потеряешь, направо – голову.
[Закрыть].
Но Петр Андреевич отчаянным усилием ускользает от этого выбора. Он делает вид, что не заметил угрозы и понял вопрос Пугачева буквально: « Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».
На неискренний вопрос он отвечает искренне. Пропустив мимо ушей приглашение солгать, высказывает уверенность, что ложь проницательному его собеседнику неприятна.
И Пугачеву неловко настаивать. Все же он пытается еще раз внушить Гриневу, что ждет от него политического высказывания:
«Кто же я таков, по твоему разумению?» [10]10
Тоже фольклорный, сказочный мотив: чтобы спасти свою жизнь, герой должен ответить на хитроумные вопросы грозного царя или отгадать загадки. Помните английскую балладу, где король требует от пастуха: «Какая цена мне, ты должен сказать?»
[Закрыть]
Но Гринев опять принимает вопрос буквально и говорит.
«Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».
Это очень далеко от того, чтобы «признать бродягу государем», однако и не совсем то же, что «назвать его в глаза обманщиком».
Из области условных определений Гринев уклоняется в реальность. Здесь не площадь, зрителей нет. И нет ни офицера правительственных войск, ни бунтовщика. Просто старые знакомые в мирных тонах разговаривают о жизни. Пугачев уже очнулся от гнева и фальши. Сбитый с первой позиции, он отступает и ставит вопрос иначе, по-деловому, переходя от угрозы к посулам. Гриневу предлагается второе искушение.
«Так ты не веришь, – сказал он, – чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. [11]11
Первоначально в рукописи было «в князья Потемкины».
[Закрыть]
Как ты думаешь?»
Пугачев уговаривает, почти что просит.
«Нет, – отвечал я с твердостию. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу».
Скажи он это в начале разговора – висеть бы ему на перекладине. Скажи он сейчас только это – разговор из житейского снова станет политическим. Но Гринев дает понять, что воспринимает предложение изменить присяге исключительно как выражение заинтересованности Пугачева в его судьбе, и добавляет:
«Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург».
Пугачев сбит с толку. Третье его предложение звучит совсем как просьба. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»
Но роли переменились, и отказаться теперь просто. Важно только выдержать прежний тон доброжелательного взаимопонимания.
«Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?»
И тут уже Гринев ставит Пугачева перед выбором – таким, в сущности, легким:
« Голова моя в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – Бог тебе судья; а я сказал тебе правду».
Так юный прапорщик одерживает победу над Пугачевым. Не будь этого разговора, никакие напоминания о заячьем тулупчике не спасли бы, вероятно, ни Марью Ивановну, ни самого Гринева при новой встрече с Пугачевым [12]12
«Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
– И ты прав, ей-богу прав! – сказал самозванец».
[Закрыть].
Странная власть молодого офицера над предводителем восстания (Гринев принимает услуги Пугачева, а не предлагает ему свои, как Швабрин) – власть эта основана на взаимной приязни и милости.
Милость – главный двигатель сюжета «Капитанской дочки». Милость сильнее судьбы, а добывается она простодушным лукавством. Гринев навязывает Пугачеву, а Марья Ивановна – императрице необходимость проявить великодушие. При этом и Петр Андреевич и его невеста выказывают недюжинный ум.
Но странной чертой дополняет Пушкин облик рассудительного Гринева. Мы замечаем в нем настойчиво подчеркнутую склонность к мрачным видениям и невнятным состояниям (недаром он не раз говорит как бы вскользь, что «боялся сойти с ума» или «чуть с ума не сошел»). Вводится этот мотив пророческим сном в кибитке: «Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах… Ужас и недоумение овладели мною…»
Страшное впечатление производит на Петра Андреевича вид пленного башкирца: «Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей… Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми… Башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок».
И с тех пор Гринева точно магнитом притягивает любое проявление жестокости и насилия. Хлопуша описан так же подробно и жутко, с тем же припевом («ввек не забуду»), что и этот башкирец. И вот первое, на что обращает внимание Гринев, едва вырвавшись из плена: « Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача» [13]13
А в следующем периоде лица эти как бы рифмуются с «яблонями, обнаженными дыханием осени», которые бережно укутывают теплой соломой.
[Закрыть].
Гринев очень мало рассказывает о своем романе с Марьей Ивановной. Зато много и беспрестанно говорит о виселице и все время ищет ее глазами.
Проследим, как он мечется после казни пленников по Белогорской:
«Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных…»
«Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом…»
«Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу».
«Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы».
«Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей…»
В «Пропущенной главе» романа Пушкин называет эту черту своего героя «странным, болезненным любопытством». В главе «Незванный гость», слушая « песню про виселицу, распеваемую людьми, обреченными виселице»,Гринев потрясен «каким-то пиитическим ужасом».
Отвращение и сострадание, которые владеют Гриневым, сродни горьким пушкинским размышлениям о судьбе декабристов. «И я бы мог…» – записывает Пушкин, рисуя виселицу в одном из черновиков.
С тем же чувством смотрит Гринев на закованного в кандалы Швабрина.
«Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели, длинная борода была всклокочена…»
Мучительный интерес Гринева к образам насилия и унижения не вытекает из его характера. Да есть ли у него характер? Гринев, как и Швабрин, неустойчивое соединение черт. Это не характеры, а роли – бедный рыцарь [14]14
Не зря Пугачев с эшафота кивает Гриневу. Так и Франц, предводитель крестьянского восстания, поет перед почти неминуемой казнью: «Жил на свете рыцарь бедный…» («Сцены из рыцарских времен»).
[Закрыть]и несчастливый злодей.
«Капитанская дочка» – роман о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Это автобиографический сюжет, мы находим его в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы.
Потеряв связь с читателем и провозглашая независимость от него, Пушкин в этом романе стоит к нему спиной. Он не рассчитывает на понимание и подчиняет ход романа музыке тайных мыслей, непохожей на обычную логику прозы. Оттого в «Капитанской дочке» много потайных ходов и нарочитого авторского произвола.
Ирония по отношению ко всем персонажам и даже к читателю, ирония – главная героиня романа.
Оттого «Капитанская дочка», сколько ни перечитывай, остается произведением таинственным. Невозможно узнать вполне намерения автора, понять его взгляд на происходящее, услышать его голос. Повествование доверено герою, но доверенность эта неполная. Различными способами автор дает знать о своем присутствии. Мы видим, как падает на ширму его огромная тень и как он дергает за нитки, управляя персонажами.
В судьбах Гринева и Швабрина автор шифрует размышления о личной своей судьбе. Оттого ни один из них порознь не составляет самостоятельного характера и оба представлены гораздо подробнее, чем нужно для сюжета. Оттого Пушкин одалживает Гриневу свой голос, а Швабрину дарит свою наружность: « Невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым…»Автопортрет росчерком пера на полях.
Швабрин и декабристы, Гринев и Дон-Кихот… Удивительные уподобления, которыми пронизан роман, не складываются в умозаключение, отпираемое универсальным ключом.
Но, может быть, мир «Капитанской дочки» полнее и непосредственней раскрывает внутреннюю жизнь Пушкина, чем другие его поздние произведения.






