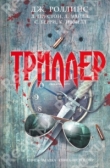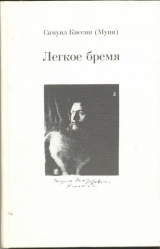
Текст книги "Легкое бремя"
Автор книги: Самуил Киссин
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
На карточке был снят труп, весь в синеватых лохмотьях, как разорванный матрац. Совсем не страшно, но очень противно. Мелентьев предложил мне чай. Я отказался. Мы сели в хороший экипаж, запряженный парой, и поехали, пыля. В речи Мелентьева были одновременно сухость, деловитость и лень, не лень вообще, а лень к тому, что он говорит, и порой какой-то иностранный оттенок. По дороге он был вежлив, просил не рассказывать ничего о Большакове, так как мне в таком случае придется повторить все вновь и Маргарите Васильевне, а это очень скучно. Странные, однако, приятели у этого Большакова. Навряд ли Мелентьев имеет какое-нибудь отношение к ночным чайным.
Мы очень мало разговаривали дорогой. Но было во всем что– то, говорившее мне, что поездка эта не напрасна, что во всяком случае здесь интереснее жизнь, чем в Привольске, в тесной квартире, где отец по вечерам играет на гитаре и рассказывает о своих прежних и нынешних начальниках и сослуживцах… У меня очень хорошее зрение, но я ничего не запоминаю из того, что вижу, ничего не замечаю. Восхищение природой, картинами, домами мне всегда казалось выдуманным. Я помню только лица, люблю на них смотреть, и мне кажется, я недурно разбираюсь в людях. Что ж, ведь я не больше, чем то, что я есть. Я студент-медик второго курса из довольно глухой провинции, из очень небогатой семьи. Мне и не к лицу всякие тонкости. Но здесь, в этом Мелентьеве, его костюме, сигаре, паре лошадей я вижу что-то иное чуждое и интересное для меня. Большаков не гостил у Мелентьева, а жил один в имении, потом вдруг утопился. И теперь четыре человека с разных сторон съезжаются устанавливать причину этого. Вероятно, мы будем рыться в его бумагах, рассказывать друг другу, что о нем знаем. Мне, пожалуй, нужно будет преувеличить нашу близость. И какие это люди? Тонкие, интересные, богатые. Наверное, дегенераты малость. Посмотрим. Деньги за проезд не пропадут. А вдруг забудет? Ведь им все нипочем.
Наконец мы приехали. На берегу большого озера в парке стоял дом – большой, деревянный, удобный и безобразный. Мы вошли на террасу. Там на диване сидела дама в каком-то красном капоте с обвязанной головой. Если голова болит, ее нельзя так обвязывать. Зачем же она навертела эдакую чалму? В лице у нее что-то цыганское, восточное. Может быть, от чалмы?
Мелентьев представил меня. Она подала мне руку и оглядела меня. Странный взгляд: не то мужской, раздевающий, не то, как у подростка, любопытный…
<1907>
Легкое бремя
А если сон виденья посетят?
Гамлет
1.
Жизнь моя была спокойна. Ровно, тихо и незаметно, похоже друг на друга шли дни: спокойная служба, ровная привязанность-дружба к жене, ясное, чуть щемящее сознание заполненной пустоты. Да, заполненной пустоты, ибо никакой полноты, никакой живости я никогда не ощущал. Только страх смерти да порой зависть мешали ровному течению дней. Но это – иногда. Счастье мое, состоящее из жены, маленькой квартиры и музея, было неизменно: Антипьевский – Знаменка – и назад. Вот и все. Завтрак, занятия, обед, прогулка. Больше ничего не было.
Так ли?
Нет, должно быть, не так. Я слабо сознаю (тут не умственная – душевная слабость моя): жену я любил. Без музея, без квартиры мне тоже было бы трудно, но не так. Я мог представить себя не в городе, не в музее – ведь был и отпуск (положим, скучно), но без жены – нет. Правда, мы с ней мало говорили: больше музейные новости или что-нибудь домашнее, но в своем самодовольстве я представлял ее себе такой же, как я. А она не мешала этому ослеплению. (Теперь-то я знаю: она была иной.)
Она не говорила, что хочет другой жизни, что не любит, что разлюбила меня такого. Зина просто ушла. Ни с кем. Ни к кому. Без попыток примириться, объясниться, без трагического, без трогательного. Может быть, ей было жаль меня. Может быть, я был ей отвратителен. Ее обращение, ее слова, манеры не изменились и в последний день. Она просто ушла. И я остался с моим музеем, квартирой и майоликовыми часами в гостиной.
Ушла Зина весной.
2.
Это меня ошеломило. Но ненадолго. Я скоро все понял. Я не пришел в отчаяние, не бесновался (куда уж мне!) Покорился я? Нет, это была не покорность. Разве когда умирает ваш старый отец, вы покоряетесь? – Нет. Покоряешься неизбежному – естественное принимаешь. Тут разные стороны. Значит, во мне всегда жила мысль о таком конце? Значит, я бессознательно ожидал его? Ну, что же, и все-таки ничего горше со мной не могло случиться. Бессонные ночи мои, тоска моя, простая, тупая, естественная тоска моя, – вы свидетели этому.
Да тут все это началось.
Майоликовые часы били двенадцать, час, два, отсчитывали остальное время. Все те же часы, – только прежде я не слышал их боя ночью.
Те же котлеты за обедом, те же макароны с тертым сыром – невинная слабость музейного человека – да, все то же, все то же.
Но как выросло время! Сколько стало ненужного, лишнего времени. И всюду, и всегда память о ней. Повторяю: ничего трагического или трогательного, ничего ошарашенного. И все-таки:
«Зина, Зина, Зина», как майоликовые часы в гостиной. И тем ужасней, что все это не неожиданно, даже не неизбежно, а просто естественно.
Дни, месяцы – один длиннее другого – шли. И так как все сразу было понятно, то не забывалось и не сглаживалось.
Господи, если бы я мог прийти в отчаяние, вознегодовать, возроптать!
3.
…И вдруг, как в сказке, – то есть я знаю, что не вдруг, но мне так приятнее думать, и потом это так резко разделило мою жизнь после ухода жены, – пришло то.
Я проходил по Трубной площади. В воскресенье. Протолкавшись сквозь сенбернаров, индюшек, кур, щеглят, я был притиснут к банкам с рыбами.
В круглых банках плавали рыбы, маленькие, очень маленькие, золотые, красные, в изумрудных пятнах, с синими полосами, с усами, с плавниками и с хвостами, волочившимися, как шлейфы, спускавшимися, как фата. Иные резкими, почти вертикальными движениями бросались вверх и вниз, иные с беззвучным шелестом оплывали свои банки или стояли у стенки, уставив огромные глаза свои. Вот они-то, большеглазые телескопы с длинными стелющимися хвостами остановили меня: в них было это сознание естественности, это равнодушие без покорности и отчаяния.
И вот я – сам не знаю, как – купил двух телескопов, большую круглую банку, каких-то растений, какой-то песок и корм и пошел домой.
«Барин балует», – подумал я сам за прислугу, входя домой.
4.
Майоликовые часы в маленькой гостиной, низенькая голубая мебель, квадратный аквариум на окне (он заменил собой банку с Трубной) – мы живем мирно. Не то чтобы вещи были для меня друзьями или жили своей жизнью, – нет. Но эти мои вещи – из всех моих вещей именно эти, – они как-то помогали мне и – уж не знаю как – заняли место в моей тоске и стали для меня своими.
А телескопы в моем аквариуме, – они, гуляющие по тяжелым зеленым зарослям сагитарий и воллюсмерий, они – цари здесь.
С утра перед умыванием я накачиваю воздух в бак и вычищаю аквариум. После кофе я бросаю на их перламутровое блюдо красных червей, и телескопы подходят как-то по-своему с быстротой, но без жадности, важно шевелят толстым телом, плавно в бок отбегает шлейф, и в раскрытые, втягивающие рты сами собой влекутся черви…
Потом служба. Никогда прежде я не ожидал с таким нетерпением обеденного часа.
И все же в памяти: Зина, Зина, Зина. И как-то стыдно и больно, и сладко щемит сердце, что вот ее нет, она не придет и не помешает мне смотреть на телескопов. Ведь эти телескопы – действительно измена ей. И больно, что не придет, и сладко, что не помешает.
После обеда их власть надо мной всего сильнее. Я подхожу к окну. Сажусь на кожаное кресло и начинаю смотреть:
черный с собранным круглым телом, круглыми громадными глазами и коротким хвостом – он ближе всех ходит к стеклу, пробираясь боковой аллеей сагитарий;
красный с розоватыми лопастями необъятного хвоста, повисшего, как бы небрежно распущенного, неуклюжий, важный и грациозный вместе, будто слон, воспитанный балетмейстером;
безчешуйный в розовых, желтых и черных пятнах с лиловым отливом и синими глазами, чем-то похожий на старого китайца;
белый, белый, будто от глубокой старости, медленный толстый телескоп – самка —
словно посвященные богам животные, словно боги, гуляют они в священной роще.
Странно, – ведь это маленькие рыбки, но когда я смотрю на них, они мне кажутся крупнее людей.
И их растения – эта зелень, травки – мне кажутся гигантскими водорослями, колышущимися под тяжелой волной.
Мир в вас, мои безмолвные друзья, в плавном ходе вашем, водные серафимы, в шелесте – может быть, я его услышу, – ваших нежных крыльев, в ваших глазах, безмолвных и громадных, – мир в вас.
И когда я зажигаю лампу, и в ярком свете вы, думая или мечтая, гуляете по вашему зеленому разросшемуся саду, – я еще более ощущаю ход времени, и сладко мне слушать тиканье стрелок и легкое свистящее шипенье бегущего в резиновой трубке воздуха и знать, знать, что я живу.
Пусть люди назовут это постыдным – все равно.
И я часами смотрю, – не любуюсь, тут другое, – на вас, на плавный, легкий ход ваш, более плавный, чем лет птицы. Часами смотрю.
Идет жизнь. Бессмысленная, пустая, легкая – сон.
<1907–1908>
На крепких местах [60]60
На крепких местах. Автограф. Рукопись не окончена. Сохранился, ряд фрагментов, отрывков, продолжающих сюжет.
Роман, – а по замыслу Муни это должен был быть роман, – начат скорей всего весной 1909 г., когда «Серебряный голубь» Андрея Белого еще публиковался в журнале «Весы». Муни рванулся отвечать, спорить, едва прочитав первые главы, но 31 июля 1909 г. решительно написал Ходасевичу: «Роман писать не буду по причинам не только внешним, то есть не только потому, что писать не могу. Не могу, ибо не должен. Очень думал о Достоевском. <…> С Белым, Мережковским, Достоевским порываю окончательно. <…> В ненависти к ненависти клянусь на мече».
Один из фрагментов показывает, как неожиданно мог повернуться сюжет. В центре его – речь Барановской на совещании эсеров, в которой она пыталась объяснить причины общего разочарования и предложить выход:
«Братья, – говорила она: братья! Неужели в вас раскаяние и слабость? Неужели вы смирились? Я знаю, что вы недовольны и чем недовольны. Но ведь это потому, что ваше дело до сих пор, хотя вы и отдавали ему душу, было делом плоти, делом для плоти. Великой жалостью жалели вы плоть человеческую. Плоть смертную и скорбную. Ах! Душой служили вы плоти и души просвещали для плотской пользы. Бедная человеческая плоть. Она стоит ваших жертв, но не стоит разочарований. Но только она их и вызывает. <…> Только живая вера позволяет вести начатое без упадков духа, даже временных. Бывают разочарования, и сильные, но только в том, “как”, а не “что”! И тогда ваше дело, ваша жизнь не будет для вас “бесчарной Цирцеей”. Ах, я знаю, вы искушенные люди во многом, во всем, кроме Христа. Здесь вы проходили мимо. Это препятствие для вас не существовало. Этот барьер сразу считался взятым. Ну, попробуйте, ну, “приидите к Нему” пробно хоть. Ведь не отверг он Фомы. Боже мой!»
Множество сцен, эпизодов, глав, которые Муни продолжал писать, так и не сложились в целое, роман закончен не был.
Dignus, dignus est intrare in nostro docto corporae (лат.) – может бы к присвоению докторского звания; шутливая формула при присвоении докторского звания в комедии Мольера «Мнимый больной».
…струей утоляющей и жгущей, струей вина был ее голос. Вечной жаждой веяло от полуоткрытых влажных алых губ – мотивы «Песни Песней».
В улыбке Ваших губ… – начало стихотворения Муни.
Мой голос для тебя… – из стихотворения А. С. Пушкина «Ночь» (1823) Стихотворение Муни повторяет пушкинский ритмико-синтаксический рисунок, когда двойные прилагательные тяжелой каплей скатываются к концу строки: «томительной и нежной» (Муни) – «и ласковый и томный» (Пушкин) Захрусталило – пародия на стиль Андрея Белого. Две главы в повести «Серебряный голубь» начинались безличным предложением: глава «Успокоение» – «Завечерело»; глава «Духота» – «Жарило». Ср. также начало главы «Полет взоров» из ч. I «Кубка метелей» (М.: Скорпион, 1908).
Проходят дни, и каждый сердце ранит… – начальная строка несохранив-шейся элегии Муни, первая строфа которой известна нам по стихотворению Ходасевича. Ср. со стихотворением Юргиса Балтрушайтиса «Раздумье»:
Проходят день, и глухо сердце бьется —О том, что есть, о том, чего уж нет… Розен Егор Федорович, барон (1800–1860) – русский поэт, драматург, автор либретто «Жизни за царя» (1836).
Бэбэ – от франц. bebe – ребенок.
На Руси к своей невесте хаживал жених – отсылка к либретто оперы «Жизнь за царя». Хор гребцов поет: «Жениха невеста ждет, // Жениха и Русь зовет. // Час настал, жених грядет!» (М. 1902. С. 9).
Мать-Россия, о родина злая, кто так зло подшутил над тобой! – перефразированные строки из стихотворения Андрея Белого «Родина» (1908).
[Закрыть]
Болото
Наверху Быстрея не судоходна, порожиста. Узкой рекой бежит она между берегов, поросших лесом, подошедшим к самой воде. Редко попадаются деревни. Они серые и богатые. Много земли у мужиков. В болотах водится дичь. А в самой воде, не замученной нефтью, много рыбы. Но за сто верст от истока Быстрей впадает в нее Прыжа; желтые ее струи мешаются с черными Быстрей. И отсюда-то, по широкой, испещренной серыми и перламутровыми пятнами мутной воде, идут вниз пароходы, винтовые и колесные, баржи и полулодки, и унжаки, и берлины, и тихвинки с мукой, горохом, нефтью, тесом, железом; идут сначала по Быстрее, потом впадают с ней в Волгу, а там вольный ход и вверх, и вниз, и в Петербург, и в Астрахань. У Перечни делает Быстрея поворот, да такой крутой, что от Долгушина до Кремнева лесом версты четыре, а по реке не меньше шестнадцати. Берег тут песчаный и низкий, и на самом мысу Перечня.
А что такое Перечня? Ни село, ни деревня, ни поселок фабричный. Да и всех-то переченцев счетом человек сорок с бабами, да и то трое только летние жильцы: два речных страховых агента, один с женой. Кормятся переченцы от реки, потому что какая у них земля. Но народ они шустрый, вороватый, – ну и живут. Теперь-то хорошо: Куроцапов у Долгушина плавучий док поставил. Значит, работа есть, а прежде…
Ну, и до города недалеко, и пароходик ходит винтовой, пассажирский «Капитан», двугривенный заплатил – и в Межгороде, двугривенный – и опять в Перечне. Жить можно.
Дома в Перечне невелики, но все со светелочками, крыты дранкой, иные покрашены, а у страховых даже железная крыша.
У домов садики, но как-то не по-настоящему, а так, подражают, отставать не хотят. У других сады, у нас сады. Мы, мол, ничем не хуже. Ну, и казенка, и пивная, и «Золотой якорь» – постоялый двор. И думает переченец, что совсем он человек, а вся ему цена грош. Одно слово, переченец. Народ, конечно, ловкий, да ведь и всех нас, межгородских, по пословице, голой лапой не бери. Так.
Хорош за Перечнею лес, да не переченский: Михайлова, Цаплина и других господ и пароходчиков, а еще выше по реке – Кремневский. А Кремнево – деревня богатая. Потому и Кремнево, что народ – кремень. Даже казенки не поставили. Просто староверы какие-то. А по лесу боровая дорога идет от Кремнева к Долгушину. Кремневцы – долгушинского прихода, и в Долгушино Богу молиться ходят в церковь во имя Василия Великого. Степенный народ кремневцы, небалованный. А за боровой дорогой моховое болото. Далеко-далеко протянулось. Во мху мягком да светлом ноги тонут, по колено даже. Голова болит от разных запахов: и сырость тут, и сосна, и болиголов, и клюква, и от всякой-всякой болотной травки запах вредный. И солнце тут тебя напекает, потому сосны редкие, тонкие. У самого только верху чуть веточек, а то стоит себе сосенка красная, голая, прямая-прямая, или скривится уродка, но зато уж такой загогулиной, что диву даешься. Только нигде такого неба нету, как в моховом болоте: синее-синее, ясное-ясное. Так бы лег на спину и смотрел, жаль только спина мокра будет, да и дух от болота нехороший. То есть сначала-то он тебе понравится, ну, а потом кружить станет. А клюква длинными крепкими ниточками по болоту стелется. Хорошо все-таки в моховом болоте.
А до мохового болота по сю сторону дороги, к реке то есть, черничник. Сколько тут черники! День ползи на брюхе, ешь, а больше двадцати шагов не подвинешься. И гонобобель тут с черникой перемешан. Не всякий и знает, что за ягода такая – гонобобель, а ягода это хорошая, сладкая, вроде черники, только по-крупней, посиней и на кустиках, но в пирог не годится: горчит. И грибы тут всякие, а позже брусника. Одним словом, все, как полагается и даже больше.
В Перечне, в красном доме с железной крышей, живут агенты. Ездят они на караваны суда обмеривать и документы судовые смотреть: верно ли груз показан, перегрузки нет ли, не дало ли судно течи. Самое занятие нерегулярное: то ночью будят, то хоть днем дрыхни. И живут здесь агенты Никитичев Иван Павлыч и Кувшенко Дмитрий Федорович – уже второе лето. Никитичев женатый, учитель речного училища, человек с выправкой, с черной бородой, всегда в форме. Жена его Наталья Гавриловна – блондинка с ясными голубыми глазами и чересчур полной грудью – похожа на поповну, ведет хозяйство, и Кувшенко у нее на хлебах. Кувшенко худой, невысокий, с рыжими усами. Бывший ветеринарный студент. Второй год он ловит рыбу, и ни разу на уху не принес. Наталья Гавриловна над ним подсмеивается, жалеет, но балует его, и Кувшенко в свободные дни пропадает в лесу, в дни же своего дежурства озабочен даже до потерянности. Родных у него нет, оттого Наталья Гавриловна жалеет его еще больше.
Ходит Кувшенко и в Кремнево, где живет у него приятель Прате. У Прате много книг, и он много разговаривает, а Кувшенко хорошо слушать умеет. И оба друг другом довольны.
Утром Кувшенко отправился в Кремнево.
Лесом идти было весело. Ешь чернику, поглядываешь по сторонам, то продираешься сквозь сосновый колючий молодят– ник, то, потеряв направление, забредешь в осинник и идешь широкими полянами, и под ногой шуршит прошлогодний прелый лист, слипшийся в сплошную ткань, то опять замелькают перед тобой густо-густо сосны, а то боровую дорогу перейдешь незаметно и вязнешь в болоте. И все то дневное жужжанье, и шум лесной, и реку слышно, и свистки пароходные. А над всем лесные запахи – острые, сладкие, прелые.
К полудню поспел Кувшенко в Кремнево, прошел улицей до околицы, до последней избы, поднялся к Прате в светелку и постучал. Прате сказал: «можно!», и, не подымаясь от стола, на котором лежала открытая книга, подал вошедшему руку. Был Прате худой, высокий, обросший волосом и слабый на вид. Звали его Константин Анфимович. Называл он себя отставным писателем; когда спрашивали его, что он теперь делает, говорил: «Собираюсь мутить! Да не мучу еще».
Прате сразу же заговорил, посасывая мундштук и так часто двигая носом, бровями и губами, что, казалось, он нарочно гримасничает.
– Так вот, Дмитрий Федорович… Я подумал, почему я не могу, и почему моя роль была бы смешна. У меня иностранная фамилия, и человек я подозрительный. Вы подумайте сами, разве я сам знаю свое происхождение, разве я могу уверенно сказать: «мы!» Про кого могу я это сказать? Про людей англо-немецко-польско-еврейского происхождения? Нет ничего хуже, чем быть человеком такого межеумочного происхождения. Всех любишь, ко всем – обязанности, ни над кем – прав. Ведь в нашем доме, когда я был маленьким, никаких обычаев не существовало, никакого быта. Одно только отсутствие предрассудков. Так и осталось оно одно на всю жизнь. А проживешь ли с одним этим всю жизнь? Хоть бы маленький предрассудочек какой или обычай. Как же, Дмитрий Федорович?
Кувшенко молчал. Прате почасту говорил один. Реплик ему было не нужно, и он продолжал:
– А тут нужно иметь дело с людьми, которые по горле в быте стоят, так верят, так верят, сами не знают, во что верят. Что я им доказывать буду, что ли? Ты не докажи, ты им дай почувствовать, да еще чтоб с ихним противоречий не было, чтобы из ихнего шло. А я чувствую, ей-Богу, чувствую, да кто же мне, немцу жидовскому, поверит, что это так, когда я сам в себе сомневаюсь, как это я, откуда мне сие. Да и горячка у меня комнатная. Вот с вами разговаривать, а там, на воле – другое дело. Воля ваша, а я не могу. Вот вы здесь молчите, может, там заговорите. Нет, кроме шуток, – загорячившись, вдруг продолжал Прате: – Вы молодой, у вас почва есть, вы сами из них, у вас любовь есть!
И со слезами на глазах Прате стал говорить о силах народа религиозных движениях, о том, что они не реакционны, и что Кувшенко должен делать в ближайшем будущем и потом, и даже как умереть.
Кувшенко слушал, и глаза его загорались, он вырастал для себя в гигантскую фигуру, тень от которой падала на все царства земные, он – бывший ветеринарный студент, но смирение охватывало его; он вспоминал об искушениях Господ, них и со страхом уже смотрел на Прате, но тот, не замечая перемены в собеседнике, говорил, вытаскивал книги, цитировал, предрекал, пока неожиданно, как всегда, не принесли снизу обедать.
Из дневника Кувшенки
Вот уже второе лето живу я в Перечне. Можно сказать, второй год, потому что какое мое житье зимой. И вспоминать не хочется. Хорошие здесь места. Хорошие люди. Все, кого видишь здесь, живут, работая, и крепкая работа на воле утомляет всех здоровой усталостью и родит в голове крепкие живые мысли, и вовсе не бедные, не жалкие. Не знаю, другим как, а мне нравится наш американизм. Я почти что не был в деревне, и не знаю, как у мужиков, но здешних, речных людей посмотрел я довольно. Вот, мне кажется, глядя на них, и установил я для себя ту разницу, которая у меня во взглядах с Прате. Ему я, конечно, никогда не скажу, потому что какой я оратор, а Константин Анфимыч – писатель все-таки. И все же прав я. И разница эта, по-моему, такая: Константин Анфимыч чуда ждет, потому что недоволен и потому что (он сам себе в том не признается) не верит, что оно когда-либо было. И по чину ему, и по всему верить нужно, и хочет он, а не может. Потому он о будущем так говорит, потому от настоящего, как от комаров, отмахивается. Нет у него удивления, а хочет он удивиться. Как в сказке человек страха искал – все не боялся, – так он чуда ищет, удивиться хочет, благоговеть жаждет. А речной человек – он про чудо знает, он чудо чует. Было чудо. Удивился раз навсегда речной человек – и спокоен, и пошел дрова воровать, потому что дрова нужны. И пошел суда чалить, и водку пить. И всегда знает и помнит он о чуде, о чудесах даже, потому что ходит человек – разве это не чудо? вода течет – не чудо? в нашей стороне кормится – не чудо? И живет речной человек. «И благо ему на сей земле».
22-го июня. Ночью сегодня ходил к Марье, Пошехоновой дочке. Недобро на меня смотрит сам Пошехонов Николай Иваныч, и сыновья косятся. И пусть себе. Дело вовсе не в том. Как– то нехорошо, что я с Марьей не так, как с человеком, которого люблю, не так – стыдно мне сказать это слово, – как с бабой, которая мне нужна. Ведь я у нее точно учусь, точно вызнать хочу, как живут, какими глазами смотрят на все и она, и братья ее, и отец ее, Смирнов-Пошехонов, и Гусев-жандарм, и Антон-глухарь. И вот когда ночью крадешься по берегу, а река сыростью дышит на тебя, на небе какой-нибудь Сириус, а на реке, на бакене – зеленый фонарь, и на судах огни, и идешь ты прямехонько на сеновал к девушке, которая ждет тебя, очень совестно тогда, что в голове у тебя вопросы, как жить нужно и как об этом расспросить эту самую девушку на сеновале. А она вовсе не разговорчива. Ее бы воля, подходила бы она ко мне в темноте, брала бы за руку, говорила: «ну!..» и уходила бы через час. Но она стесняется своего нрава и сама рассказывает длинно и вяло, и меня расспрашивает с неискренним любопытством. Она хороша только когда молчит, сжав губы и опустив серые нехорошие глаза. Грудь у нее высокая, крепкая, руки полные, ростом она выше меня, волосы черные, как у цыганки. Только глаза нехороши – серые, светлые, какого-то болотного цвета и бесстыжие, и бегают. Моя бы воля, я бы тоже не разговаривал с ней. Но мне тоже неловко, и потом я хочу узнать, чем и как живут эти люди. Хочу проникнуть во внутреннюю часть их души. Ведь я знаю речного человека, знаю главное в нем, могу разъяснить его кому угодно, могу противопоставить чему хочешь, и все-таки, не знаю, что, но Мне неведомо в нем.
На днях к Прате приезжает Аглая Васильевна Барановская. Пойду посмотреть. Неловко очень приходить, а хочется. Ну, все равно.
Приезд
С утра пекло, и Кувшенко, которому нечего было делать, сидел на пристани и ловил рыбу. Клевало плохо, не клевало, червей обрывало с крючков, а в деревянной лейке плескались у Кувшенки только два ерша. Известно – ерш рыба глупая, жадная, в заглот берет. Ерша поймать невелика штука. Но вот колодка у Кувшенки покачнулась, задвигалась, леса стала почти ходить кругом по темневшей, расцвеченной перламутровыми мягкими пятнами нефти, воде. Кувшенко, произнося в душе всякие обеты, взял лесу рукой и, заведя ее влево, начал вытаскивать. Леса ходила в руке: так сильно дергала ее невидимая рыба. Накручивая лесу на ладонь, Кувшенко довел рыбу до поверхности, и когда появилась ее длинная, змеевидная спина, неловко, но сильно дернул. Как лезвие ножа, сверкнула на солнце узкая рыба. Упав на пристань, она начала прыгать, изгибаться, как бы отталкиваясь хвостом и головой от обжимавших ее досок. Кувшенко, выпустив из рук лесу, начал, приседая, ловить рыбу, стараясь прихлопнуть ее обеими руками. Пристань качалась на волнах, шедших от приставшего парохода Липутинского товарищества «Светлана». Но Кувшенко как не слышал свистка, так не заметил и волн. Наконец, рыба была поймана. Это был громадный, почти в три четверти аршина косарь. Кувшенко, наклонясь над лейкой, радостный и возбужденный, рассматривал рыбу. Вдруг одна из трех дам, слезших с парохода, спросила его, как пройти в Кремнево. Кувшенко взглянул на нее и сразу увидел, как ясен и жарок день, как качалась под ветром береза на противоположном безлесном берегу, как горело солнце в золотистых глазах спросившей его барышни, как светилось в широких рукавах ее красной кофточки, как облачка в лазури плыли, тая.
«Как пройти в Кремнево?» – переспросила барышня. Кувшенко решился на отчаянную смелость: «Если вы к Прате, я провожу вас, Константин Анфимыч поручил мне это, если я вас встречу», – сказал он. «Да, мы к Прате», – сказала другая дама; высокая, с светлыми кудряшками, с pince-nez на тонком носу. Одета она была в длинное, обтягивающее всю ее черное платье, несколько жаркое.
«Вы Кувшенко? Мне писал о вас Константин Анфимыч. Я – Барановская Аглая Васильевна, это – Евфратова Марфа Аркадьевна, а это – просто Грэс».
Грэс была прекрасна. В чем таилось Ваше очарование, Грэс? В тонких ли и нежных линиях овала? В каштановых, чуть золотистых тонких волосах? Или в блеске глаз Ваших, золотых и текучих? Тонкие ноздри ее дрожали, красные губы были влажны, как будто на них еще не засохли капли вина! Движения были естественны и прекрасны. Красным зонтиком упиралась она в кончик дивной ноги.
Вы прекрасны, Грэс, и желанны! И кто вдохновенный дал Вам дивное Ваше имя?! И как ясно, что все для Вас: и переливчатые пятна на светлой реке, и в ясном небе тонким паром, тонким паром развивающиеся, тающие облака.
Легкой стопой прошла она по деревянной лестнице. И если бы ступени под ее ногами зацветали цветами, – не удивился бы Кувшенко.
А Евфратова и Барановская расспрашивали его, как живет Прате, не слишком ли хандрит, и говорили об «общем деле». И все слова их были светлы и правдивы, потому что тут была Грэе, потому что мягко веяли ее широкие красные рукава, потому что прекрасной, божественной и легкой пляской были ее шаги и золотом, текучим золотом взоры, когда оглядывалась она, шедшая впереди.
И говорили Евфратова и Барановская короткими словами, с недомолвками и условностями, как говорят близкие между собой люди. И так же ласково и условно говорили они с Кувшенко. Он понимал их, и спорил, и говорил, как никогда не говорил с Прате. Рассказал Кувшенко о «речном человеке». Просто рассказал, не подыскивая слов, не красно. Разгоралась Евфратова. Но Барановская вдумчиво молчала и сказала потом: «А все-таки вы – поэт». И долго говорила она «мы!», и говорила о пройденном долгом и трудном пути, о трудах и радостях.
А мухи жужжали, вились бабочки, перелетая с чертополоха на ромашку, ветер пылью дул в глаза, сосны плотной стеной стояли справа от дороги, редели слева. Встречный босой мальчишка, лихо откашлявшись в руку, сдергивал картуз и просил прикурить. Неясно шумел лес, издали пела река. А впереди уверенной стопой шла Грэс. Огненным мухомором горел раскрытый зонтик. Мягко струились широкие красные рукава, и в глазах ее, когда она оглядывалась, был блеск золотой и текучий.
Пока
«Dignus, dignus est intrare in nostro docto согроге», – пропел басом расхаживавший по комнате Прате, когда Кувшенко постучался. Кувшенко вошел. На кушетке, высоко задрав тонкую ногу, положенную на другую, сидела с папиросой Барановская. Желтые чулки ее со стрелками плотно облегали ноги. Маленькие ступни были в черных туфельках. Строго поджав губы, сидела на табурете Евфратова. Дивное спокойствие было в лице Грэе. Обнаженные, выступавшие из красных широких рукавов руки, прекрасно изгибаясь, заломила она над головой. Дивная! Кристаллом звенящим, струей утоляющей и жгущей, струей вина был ее голое.
И, повернувшись, запела она сладостный и жгущий напев Кармен. И хлопала прекрасными ладонями своими и, плеща красной кофточкой своей, легко и плавно изгибаясь, неслась по комнате. Жестоко и страстно горели золотые глаза. Вечной жаждой веяло от полуоткрытых влажных алых губ.
Умные разговоры
Прате грустно смотрел на Аглаю Васильевну.
– Ужели вы не станете понимать, не захотите понимать моих слов? – говорила она Кувшенко. – Как говорить мне? Я так давно живу с людьми одного со мной толка, которые понимают меня с полуслова, что мне трудно говорить иначе. Все реальные пути были использованы, Вы знаете это. К чему они привели? Только пена, грязная пена выступила наружу. Не самозванцы, не беспутные были наши реальные люди. Но как же это? Неужели только времени не сумели они рассчитать? Только времени? Только минуты? Но что же тогда значит такое падение нравов? А теперь, действительно, падение нравов. Ведь когда мы пытались… ну, как это – сокрушить, что ли, нравственность, разве не чисты, не высоконравственны были наши побуждения. Мы думали, что мы аморалисты, но теперь-то ведь только и есть, что имморалисты. И они знают это, и ничем не прикрываются, и знать ничего не хотят. Нас, тогдашних, мешают с ними, теперешними, совершенно забывая наши, ей-Богу, высокие побуждения, забывая исторический момент. Но я отвлеклась. Ведь из кого состоят они, теперешние, как не из прежних борцов, не настоящих, – нет! – я клеветать не хочу, а из их массы. Нет, все реальные пути привели ни к чему. Только чудо, реальное чудо может спасти нас. Нам нужно спаять элементы доселе не соединенные, казалось бы, несоединяемые. Только тогда…
Евфратова так и дергалась на стуле.
– Только тогда… – повторила она как эхо, но голосом более крепким и уверенным, чем та, кому она вторила. – А те – будь они прокляты!
Она встала, потом, отвернувшись, села на подоконник и стала смотреть в окно.
Кувшенко, неловко подергивая левым плечом, заговорил:
– Конечно, Аглая Васильевна, вы во многом правы, но ведь вы знаете мои взгляды. Может, я вам неприятен, как постепеновец какой-то. Но я не постепеновец. Я только думаю, что не ваши элементы, а речной человек все сделает… Когда время придет. Не нужно только отсрочивать, откладывать этого времени. Нужно с речным человеком дело иметь. Но только он это может. А чудес не надо никаких. Я, коли хотите знать, даже против чудес, потому что всякое чудо – шарлатанство. Унижение одно. Просто все должно быть, потому что простота – это первое дело, а второе… – Кувшенко запутался и не знал, что такое второе дело. – Мы не об одном толку, Аглая Васильевна! – пробурчал он и замолчал.
Прате грустно, почти жалобно глядел на Грэс. Она молчала. На гладком лбу не было мыслей, на алых губах – слов.
Кувшенко начал прощаться. Прате вышел провожать его. С нежным участием смотрел Прате. Прощаясь, у леса, подал он Кувшенке узкий листок бумаги.
– Если б вы писали стихи, вы, может быть, написали мне то же самое.
Кувшенко прочел:
В улыбке ваших губ скептической и нежной, и т. д.
Из дневника Кувшенки
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Захрусталило
У одной стены залы стоял низкий, обитый красным бархатом диван, у другой такие же стулья. (В соседнюю комнату была открыта дверь, и оттуда были слышны крики мужчин и визг женщин.) На полу залы было возвышение. На нем стоял рояль, и тапер уставшими пальцами гудел что-то веселое.
Прате, пьяный, со стаканом водки стоял в дверях. Жирные девицы, одетые бэбэ, носились по комнате. Кавалеры лихо притоптывали. Красные бэбэ визжали от желания показаться еще более женственными и нежными. Громадная Манефа, нарумяненная досиня, пышная и рыхлая, как тесто в опаре, колыхалась в руках какого-то парня в синей курточке и высоких сапогах. Что гремел тапер, нельзя было разобрать, но нелепые возгласы, визг и преувеличенные жесты плясавших подмывали Прате устремиться к ним. Вдруг какой-то человек, смирно сидевший на стуле, подошел к Прате и, уставившись в него неподвижным глазом, сказал:
– Па-азвольте, как благородный человек. Ищу, так сказать, по свету теплого уголка для чувства и так далее. Господин Грибоедов – истинный литератор и изобразитель. Так вот: экипаж мне, коляску. Я хочу в коляску!..
И, внезапно вырвав Манефу у зазевавшегося кавалера, он волчком завертелся по комнате, сбивая с ног других, громко ругаясь. Но казалось, никто не заметил. Тапер играл из последних сил. Иногда он кулаком стучал по клавишам. Красные бэбэ вертелись и неслись. Манефа сначала плыла, потом просто брыкалась. Мужчины не жалели каблуков. Тяжелое пыхтенье переполняло комнату. В углу за роялью стоял почитатель Грибоедова и блевал, подергивая головой.
Все устали, расселись по стульям и, отдуваясь, обмахивались платками. Какой-то молодой человек с длинными волосами присел к роялю и, неумело себе аккомпанируя, запел.