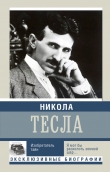Текст книги "Изобретая все на свете"
Автор книги: Саманта Хант
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 7
Борьба женской половины человечества за равенство полов приведет к новому порядку, где женщины будут главенствовать.
Никола Тесла
Номер проявляется отчетливей – 3327. Луиза стучит. Попасться один раз, может, еще простительно, но два – это уж слишком. Ответа нет, но она медлит, подозревая, что тишина ненастоящая, что она вызвана давлением крови, прихлынувшей в голову. Она кладет ладонь на дверную ручку и задерживает дыхание. Луиза входит и, быстро выложив восемнадцать полотенец на край кровати, закрывает за собой дверь. Она начинает перебирать бумаги у него на столе, пока не находит места, на котором остановилась.
Сначала я молчу. Предоставляю телеавтоматам говорить за себя. Их округлые медные тела двигаются вокруг прудика, расположенного прямо посреди Мэдисон-сквер-гарден. Я издали направляю машины, заставляя их выполнять на берегу танцевальные па. Они танцуют, как водяные жучки. У пруда собирается небольшая толпа. Все смотрят на роботов, так что мне удается незаметно толкаться среди зрителей, зажав в руке коробочку управления.
– Не понимаю, – слышу я голос одного юноши.
– Откуда они знают, куда идти? – вопрошает другой зритель. – Почему они не натыкаются на стену?
Я выжидаю, пока соберется побольше народа, разгуливая вокруг прудика. Телеавтоматы – яркая приманка: они гипнотизируют собравшихся своим движением. Я неторопливо пробираюсь к эстраде.
– Что такое каждый из нас, – удивляю я вопросом толпу, – как не машина из плоти?
Становится тихо. Я выдерживаю паузу, чтобы мысль успела усвоиться. Головы поворачиваются от пруда к эстраде. Я продолжаю:
– Мы по собственным проводам получаем электрические сигналы, которые приказывают нашим телам поднять руку, сжимающую вилку, ко рту. Открыть его и жевать. Мы повинуемся. Устройства, которые вы видите, действуют так же, только кожа у них из металла, а электрические импульсы генерируются маленьким командным центром, который я держу в руке. – Я поднимаю руку, показывая толпе коробочку. Рычажки, антенны и одна маленькая стеклянная лампочка сбоку.
Сегодня открытие Нью-йоркской электрической выставки Электричества. Все места заняты. У меня становится все больше слушателей.
– Эти устройства – представители расы роботов, телеавтоматов, как я их называю. Они готовы к услугам. Однако, – говорю я, – это еще не все.
Чтобы подогреть интерес, я затягиваю паузу, беру стакан воды и делаю глоток, но от волнения у меня перехватывает гортань, и вода попадает не в то горло. Я давлюсь, захожусь кашлем, на глазах выступают слезы.
– Главное, дорогие слушатели, другое… – Горло жжет. Кашель одолевает меня, и мне приходится ограничиться жестом: просто указать пальцем в небо. Я вожу пальцами по сторонам, машу руками. Зрители, пытаясь уследить за моими обезумевшими указательными пальцами, вертят головами, как рой медлительных мух. Я снова кашляю.
– Волны, – наконец хриплю я, открывая им тайну. – Невидимые волны пронизывают воздух, атмосферу, Землю и даже бетон «Мэдисон-сквер-гарден».
Зрители смотрят на меня круглыми глазами в полном недоумении. Некоторые так изумляются, будто я перелез через бортик и шлепнулся в пруд. Некоторые отворачиваются от меня к берегу.
– Каждый миг день ото дня, – продолжаю я, – эти волны переносят все, что способно настроиться на их частоту. С помощью этого устройства, – я снова взмахиваю коробочкой управления, – я посылаю телеавтоматам дискретные электрические сигналы по цепи этих волн, которые, в сущности, выполняют роль нервной системы Земли. Каждый телеавтомат настроен на прием только одной частоты. Как будто каждая машина говорит и принимает сообщения только на своем языке. «Je m'appelle Nikola Tesla», – говорю я и добавляю: – Только никто, кроме них, не знает этого языка. Он их, и только их.
Кажется, именно на этом месте я их теряю. Толпа все молчит. Может быть, я сказал слишком много и слишком быстро – как если бы я уверял их, что намерен взмыть в воздух без крыльев, в то же время читая их мысли. Постепенно люди расходятся к другим участникам выставки.
Я подслушал, как один молодой человек спросил своего приятеля:
– Что это он говорил?
И другой ответил:
– Что-то насчет невидимых волн, которые летают по воздуху, беседуя между собой по-французски.
Толпа рассеивается, оставляя меня наедине с моим изобретением перед стеной.
Луиза переворачивает страницу и читает дальше, но тут же замечает, что это не продолжение. Следующий листок немного другого цвета, и почерк с другим наклоном, как будто эта страничка случайно затесалась в историю, которую она читает, как записка, написанная много лет назад и забытая в кармане старого пиджака, как воспоминание, выплывающее вдруг невесть откуда.
Луиза читает вставную страничку: дневниковую запись, начинающуюся с середины:
…как если бы все возможности существовали в эфире, ожидая случая реализоваться или остаться нереализованными. Времени приходится делать выбор: сделать так или иначе. Оба варианта сразу невозможны. Как я сказал одному журналисту из «Геральд»: «Однажды человек установит у себя в комнате машину, которая будет извлекать энергию не из проводки в стене, и даже не из беспроводного передатчика энергии, но из рассеянной энергии, присутствующей в воздухе. Ее полным-полно. Нам просто нужны хорошие инженеры, или, скорее, инженеры, которые не работают на электрические компании». Я хотел, чтобы Катарина поняла, что атмосфера полна «да» и «нет» в ответ на любой вопрос. Потому я и послал ей один из радиометров профессора Крукса: крошечный ветряк, вращающийся только от солнечного тепла, чтобы сказать: в другой вселенной, в другое время – происходит одно и не происходит другое, Катарина, любимая.
Я знаю, что эта теория верна. Огонь ждал, годами плавая в эфире моей лаборатории, смешиваясь с мыслями, решая, загораться или нет. Возможно, он украл идею у Роберта в тот вечер, когда, засидевшись у меня допоздна, он рассказывал, как в молодости всю ночь просидел на опоре моста, глядя, как Великий Пожар уничтожает Чикаго. Я тогда приставал к Роберту, требуя все новых подробностей. Какого цвета такой огромный пожар, как он звучит, как ощущается. Быть может, моя лаборатория подслушивала.
Думаю, я мог учуять идею огня, но как я мог заранее планировать, если поток идей уже бомбардировал меня? Я каждый день должен был решать, какое изобретение изобрести, а какие оставить на потом. Мне следовало слушать. Огонь сказал: «да». Возможно, 13 марта 1895-го, в половину третьего ночи. Что-то либо случается, либо не случается, но обе возможности существуют. Катарина. Огонь. Вся «Электрическая компания Теслы» погибла из-за пожара. Пламя перекинулось с шестого этажа на четвертый: такое жаркое, что плавился металл, растекались инструменты, лопались кирпичи, и ничего не осталось, все изобретения погибли. Страховки не было. Ничего, кроме потока идей, которые, после гибели лаборатории, натыкались на «нет, нет, нет». Я целыми днями бродил по улицам, пока здание дотлевало. Я не спал больше семидесяти часов, пока оно горело. Катарина с Робертом метались по Нью-Йорку, разыскивая меня. На каком-то перекрестке мы разошлись, а может, нет. «Может быть, – думал я, – я стал невидимкой, невидимым синим пламенем, которое никто не может увидеть».
И все. Первая история продолжается с того места, на котором оборвалась. Луиза пролистывает рукопись, но не находит больше ни одного упоминания о том пожаре, ни одного столь открытого признания любви к Катарине. Она оборачивается к двери и, убедившись, что она плотно закрыта, читает дальше.
Толпа рассеивается, оставив меня наедине с моим изобретением перед стеной спин, отступающей, как волна отлива. Конечно, находятся несколько исключений, среди них кучка журналистов и два человека, которых я ждал.
– Кати! Роберт!
С первой встречи между нами троими создалась близость, похожая на дружбу, только корни ее лежат много глубже, и поддерживает ее общая склонность к неторопливым беседам: искусство, общество, оккультизм, наука, любовь, поэзия. Это не подлежало сомнениям. Мы принадлежали друг другу.
– Мы все видели, – говорит Роберт. – И, честно говоря, английский язык недостаточно богат, чтобы выразить мой восторг.
– О, милый Ник, – говорит Катарина, крепко сжимая ладони.
Кончики моих ушей наливаются краской.
– У нас много вопросов, – говорит Роберт, – но, прежде всего, в какое время можно затащить тебя к нам на ужин? Сейчас?
Я разглядываю расходящихся зрителей.
– Да, – говорю я. На данный момент я определенно сыт изобретательством. – Сейчас самое время. Я к вам приду.
Ландшафт за окном моего экипажа дрожит и подскакивает. Я прижимаюсь лицом к треугольной раме заднего стекла. Там, где недавно были фермы, идет стройка. Строительные блоки, каждый размером с гроб, поднимают на место усилиями лошадей под крики каменщиков. Множество высоченных, двадцати– и тридцатиэтажных отелей и муниципальных зданий вырастают среди кукурузных полей и грядок с бобами как сорные ромашки. Но еще чаще попадаются пустыри, участки, не попавшие в планы застройки Нью-Йорка, заплатки, не замеченные топографами и прогрессом. Я проезжаю узкую полоску поля, заросшего пожелтевшей травой, сухими, обломанными колосками. Тропинка ведет через узкий двор – наверно, ее протоптали собаки, дети или беглые преступники. Я улыбаюсь этой мысли. Куда ведет тропинка? Налево груда неиспользованных строительных материалов, среди них двери и несколько окон, брошенных на произвол стихий. Теперь там, разумеется, поселились местные грызуны и полевки. Разрезая этот голый курган на неравные части тянется разваленная изгородь из камня и обломков рельс – странная археологическая находка в этой пустыне: она говорит о том, что некогда был человек, не пожалевший сил на то, чтобы разгородить ставшие теперь призрачными владения.
Неожиданно я замечаю в поле золото – идею. Моя карета вот-вот оставит ее позади. А он здесь. Долгий свет.
– Остановите, пожалуйста. Я здесь сойду.
Я на четыре часа опаздываю к ужину. Я тихонько стучусь, и слуга проводит меня в гостиную, где Роберт сидит в обитом телячьей кожей кресле, вычитывая гранки для следующего выпуска «Века».
– Да? – отзывается Роберт.
– Привет!
– Ник?
Роберт встает. Глаза у него совсем красные. Я задумываюсь, сколько же сейчас времени.
– Прости нас. Мы поели, не дождавшись тебя, и, боюсь, Кати уже в постели, – говорит Роберт.
Я ничего не говорю. Я успел узнать, что тот, кто имеет дело с дружбой, должен иметь дело с реальностью. Я для этого не гожусь, вот я и стою перед ним. Если он врежет мне от всей души в челюсть, я, может быть, смогу встретиться с ним взглядом. Мы стоим молча.
В доме Катарины и Роберта ни в чем нет недостатка: толстые восточные ковры, пианино и клавесин, перила из черного дерева, лилии хрустальных канделябров, слуги в ливреях, несколько шкафчиков с напитками, тепло поблескивающими из-за дверцы, и сейф с драгоценностями. На полочке над каждым камином светятся рубиновым светом здоровенные лампы «Молния». Джонсоны не богаты. Просто они так живут.
– Извини, – наконец выдавливаю я.
– Не за что. Этот вечер был важен. Ты был звездой и, конечно, был занят.
– Роберт, – говорю я и не знаю, что еще сказать. Я гляжу на него сквозь линзы, которые на глазах становятся все толще, как будто он уходит в темноту. Сколько раз я еще не приду, когда обещал, подведу их? – Я не должен был приходить так поздно.
– Не дури. Тебе здесь рады в любое время, днем и ночью. Ты – наш добрый дух, иногда осязаемый, порой бестелесный, но твое присутствие ощутимо всегда.
– Уже поздно, – говорю я. – Ты устал.
Я поворачиваюсь к двери. Мы с Робертом выходим в переднюю. Он не возражает. Он обижен. Катарина обижена, и я за это в ответе. Из прихожей я смотрю на лестницу, на площадку наверху, откуда, наверное, дверь ведет в ее комнату. Роберт наблюдает за мной. Я больше не приду.
Он продолжает наблюдать за мной, и тогда между нами происходит что-то странное. Вместо того чтобы вышвырнуть меня за дверь, как и следовало бы поступить, он упирается руками в бока, отводя назад пиджак и жилет, как собственную кожу и ребра. Роберт открывает себя.
– Мы сняли на месяц дом. На июнь. Это на Лонг-Айленде, Ист-Хэмптон. Мы пропадем, если на целый месяц останемся без тебя. Но ведь этого не произойдёт?
Его полотняная рубаха прикрывает сердце – но не от моих глаз. Поток жизни, распахнутая грудь – и в этот момент я понимаю, что мне никогда не познать такого огромного великодушия.
– Ты будешь заходить к нам, и хотя я знаю, что сейчас тебя подмывает отклонить приглашение, но это предложение не из тех, от которых возможно отказаться. Вообще нельзя. А теперь – доброй ночи! – Роберт открывает входную дверь и едва не выталкивает меня из дома, так что мне не удается возразить.
Дом, который они сняли, невидимо отражает финансовое положение Катарины и Роберта – былое величие в упадке. Дом назвали когда-то «Золотым полем», и по внешним признакам название ему подходит. К дому гость идет по поляне, покрытой желтой скошенной травой, заросшей полынью, в которой мелькают цветы гелиотропа и кореопсиса. Внутри дома лепная отделка кое-где выщерблена. Краска на стенах местами пузырится. Вода, проникшая сквозь шифер на крыше, оставила коричневые потеки на старинных обоях и темные кляксы на потолке. В кухне при необходимости поместились бы тридцать пять поваров. А за домом цементный плавательный бассейн, когда-то, наверно, соблазнительный, но теперь сухой. В доме есть даже небольшой бальный зал, хотя мы не осмеливаемся им пользоваться: над головой болтается громадная хрустальная люстра, слишком тяжелая для ветхого потолка. Упадок пленителен, во всяком случае, для Катарины и Роберта. Я отношусь к дому с более сдержанным энтузиазмом, хотя в моей спальне, да и за каждым окном дома слышится неумолкающий шум моря.
Я не собирался задерживаться надолго. Я привез с собой три чемодана, но в них была только одна смена одежды, втиснутая между множеством электрических устройств, инструментов и всяких недоделанных штуковин. Я рассчитывал, что за время своего пленения, как мы трое называли мои каникулы, мне удастся немного поработать. И я работаю, выходя из своей комнаты только чтобы поесть, да еще иной раз прогуляться ночью по берегу.
На третий день, едва начинает смеркаться, Катарина устраивает перерыв на чай, пока Роберт вышел погулять – это второй из серии чаев, регулярно доставляемых ко мне в комнату. Она стучит очень тихо. Я слышу, как серебряная посуда на подносе подрагивает, пока она ждет ответа под дверью.
– Надо немного подкрепиться, дорогой, – говорит она, проскальзывая мимо меня в комнату.
Я вижу, что она замечает чайный поднос, принесенный накануне: закуски и сэндвичи остались нетронутыми.
– Заходи, пожалуйста, – запоздало говорю я.
Она уже вышла на середину комнаты и расчищает место для нового подноса. В окно нам обоим видно, как Роберт идет через желтое поле, возвращаясь с прогулки.
Она поворачивается, стараясь выглядеть абсолютно спокойной.
– Как идет работа? – спрашивает она.
Мы смотрим друг другу в глаза и мгновенье молчим. Я сознаю, что мое сердце отстукивает очень громкое сообщение. «Пожалуйста», – говорит оно, но я не уверен, какое это «пожалуйста». Пожалуйста, оставь меня в покое, или просто: пожалуйста! Пожалуйста!
– Я провожу на себе серию опытов и измерений, чтобы оценить благотворное влияние магнитного поля на организм человека – я много думал на эту тему, – говорю я ей, отворачиваясь. – Могу отметить, что чувствую себя великолепно. Хочешь попробовать?
– Пожертвовать свое тело науке? – говорит она, поднимая руку к горлу. Она ощупывает жилы на шее, мочку уха и ключицу. Я чувствую, как моя решимость падает на пятьдесят градусов от отметки непреклонности, на которой она обычно стоит. Я смотрю на мир через чужие очки – через очки близорукого человека. Вот в чем наша беда: треугольник временами рушится, когда притяжение между вершинами A и C становится сильнее других.
– Катарина, я никогда…
Роберт появляется в дверях.
– Привет, – говорит он.
Я поворачиваюсь к Роберту. Медленно поворачиваюсь.
– Роберт, ты подоспел как раз вовремя… – Я неуклюже договариваю: – Чтобы помочь нам провести эксперимент. Катарина, ляг, пожалуйста, на диван. – Я осматриваю ее с головы до ног и прошу: – Сними, пожалуйста, туфли.
Она повинуется. Я понимаю, что завариваю приворотное зелье. Трепет научного любопытства.
Диван стоит между двух окон. Слева письменный стол, куда я свалил свои чемоданы, а перед диваном низкий стол, за которым я работаю. Комната маленькая, и становится еще теснее от трех тел: действительно, свободной остается только кровать справа – пространство, в которое ни один из нас не смеет вторгнуться.
– Секунду.
Я отворачиваюсь, вожусь со своим устройством, настраивая заряд, укрепляя множество проводов на хлопчатых подушечках, смоченных изопропиловым спиртом. Роберт у конца дивана, стоя прямо передо мной, наблюдает за задремавшей женой. Она крошечная, как куколка на широком ложе. Роберт подсаживается к ней на уровне ее пояса. Он трогает лоб Катарины и не убирает пальцы, словно хочет прочитать ее мысли. Она отворачивает голову и скрещивает ноги, чуть выше подтянув ткань юбки. Роберт одной рукой обнимает ее за шею, пока я, встав рядом на колени, занимаю место за пультом управления.
Я, двигаясь очень медленно, подкатываю примитивную батарею, которую смастерил для разъездов, к ложу, где раскинулась Катарина. Они ничего не говорят, но смотрят во все глаза. Батарея похожа на шестикамерное сердце из стекла и металла. Я расправляю контакты на ладони и легонько зажимаю хлопчатую подушечку в другой руке – словно она живая.
– Вот. Не бойся. Может быть чуть больно, но уверяю тебя, это потрясающе улучшает здоровье и настроение. Роберт, может быть, ты мне поможешь? – прошу я, протягивая руку.
Роберт собирает с моей ладони контакты, и я, быстро разматывая провода, отступаю к коробочке с переключателем. Подключив свободные концы проводов к переключателю, я подвожу их к батарее. Я прижимаю крышку банки, чтобы вытеснить пузыри воздуха. Я не тороплюсь, слушая дыхание Джонсонов. Я бережно свиваю медные волоски каждого провода, заново проверяю все контакты и возвращаюсь к рабочему столику за забытым ключом и резиновой изоляцией. Их головы поворачиваются за мной.
– Я обнаружил, что процедура наиболее эффективна, когда производится над самыми чувствительными участками кожи, – говорю я.
Катарина хмыкает.
– Позвольте, я покажу вам, что имею в виду. – С этими словами я снимаю пиджак и закатываю рукава, открывая белую кожу с внутренней стороны локтей с голубыми прожилками вен. – Если я подведу контакт сюда, – говорю я, прикладывая подушечку к запястью, – где кожа тоньше всего, эффект будет самым приятным.
Роберт, закинув ногу на ногу, придвигается ко мне.
Удерживая провод на запястье, я дотягиваюсь до коробочки управления.
– Не беспокойтесь. Звук, и даже запах может быть не из лучших, но уверяю вас, ощущение восхитительное.
Катарина закусывает губу.
Я щелкаю переключателем, и заряд наполняет тело, вздергивая меня к напряженному вниманию. Челюсть у меня отвисает, перед глазами туман, как будто они смотрят в какую-то другую вселенную, просвечивающую как раз над головами Джонсонов, и тысячеголосый хор в золотых одеждах поет на одной ноте – жужжания медоносной пчелы – и эта нота дрожит так напряженно, что угрожает подхватить меня и, пробив облака, унести в солнечную страну электричества.
Я выпускаю рычажок и поднимаю руку ко лбу. Искры, запутавшиеся в волосах, разряжаются мне в ладонь.
– Это минимальная доза, – говорю я, прежде чем обернуться к Катарине. – Ты готова, дорогая?
– Даже если это меня убьет, – шепчет она.
Я снова передаю контрольный провод Роберту. Для этого мне приходится склониться над телом Катарины.
– Самые нежные участки дают самые эффектные реакции, – напоминаю я Роберту, и он прикладывает подушечку с проводом к нежному местечку на шее жены, скрытому за ухом. Кивнув, я подаю самый слабый разряд. Ее глаза закрываются, и голова скатывается набок.
Мы повторяем еще раз. Я наблюдаю, как Роберт касается проводком губ Катарины, впадинки ее гибкой ступни, голубой сеточки под коленом, нежной выпуклости предплечья, верхушки позвоночника, пробора волос, внутренней поверхности бедра. Виска. После каждого перерыва я, стоя поодаль, посылаю электричество в тело Катарины, и ее дыхание тяжелеет, и она дрожит.
Все во имя науки.
В ту же ночь я, как обычно, и не думая спать и застав Роберта над бутылкой виски, затеваю марафонскую беседу: ярмарка изобретений, сербская поэзия, недавно виденная нами пьеса с Сарой Бернар в главной роли, метод сушки листьев шалфея, кальцификация морских раковин. Мы сидим в маленькой буфетной рядом с кухней. Здесь стоит круглая дровяная печка с трубой, выведенной прямо в окно и закрытой медной заслонкой. Здесь два окна, и оба выходят во внутренний двор, на крыло, в котором спит Катарина. Кажется, плющ, оплетающий дом снаружи, успел разрастись за время нашей беседы. В буфетной темно, но мы разгоняем жуть словами, пока, много часов спустя, не замолкаем оба, и в тишине что-то шмыгает из угла к окну.
– Что это было? – спрашивает Роберт. – Привидение?
– Их не бывает, – говорю я и освещаю свечой тот угол. Там пусто. – Роберт, всякий раз, как ты отвергаешь нечто, принадлежащее миру, как сверхъестественное, ты отказываешься от чудес, по праву принадлежащих миру. Привидения – вполне объяснимое с научной точки зрения явление. Бояться нечего, – говорю я, подходя к окну и выглядывая наружу. Просто на всякий случай. Там тоже никого.
Мои слова не слишком успокаивают Роберта, и меня тоже. Он быстро пересекает комнату, садится рядом со мной на мраморный подоконник, и мы сидим с ним, приткнувшись к раме, как мальчишки. Когда глаза наши привыкают к темноте, в окно можно различить силуэт других частей дома на фоне ночного неба. Мы смотрим через двор на флигель напротив. Время к трем часам ночи – опять. Роберт гасит свечу.
Он указывает на окно, за которым спит Катарина.
– Мы очень далеко от всего, что знаем.
– Да. Представь нас на глобусе. Крошечная точка, торчащая в океане. Мы почти забыты.
Роберт поворачивается к оставленной нами комнате.
– Дальше самых дальних мест. Подумай, как путешествует наша мысль. – Мы всматриваемся в темноту ночи, и в моих глазах возникает узор, как будто я вспоминаю сон или, может быть, еще смотрю его.
Я подбираю под себя ноги и разворачиваюсь в оконном проеме лицом к Роберту. Чуть помедлив, Роберт делает то же самое, так что мы становимся похожими на двойную виньетку в книге или на пару горгулий. Мы смотрим друг другу в глаза. Шесть или семь минут – так немного в сравнении с днем, месяцем или десятилетием – собирают и спрессовывают в себе годы. Вообразите, если бы кто-нибудь сумел вскипятить все сложности жизни, выпарить на медленном огне осадок веков, пока не останется одна капля с богатым и терпким ароматом тайны. Ни Роберт, ни я не заговариваем. Может быть, темнота или одиночество позволяют нам смотреть друг на друга так честно и так долго. Может быть, это тишина ночи позволяет нам молчать, или, может быть, все потому, что наши мысли нельзя озвучить.
В конце концов Роберт первым закрывает то, что открылось было, разбирая эмоции, как горсть мелочи. Вот никель – Катарина. Четвертак – ревность. Дайм – ее любовь. Пенни – моя работа. А вот, совсем отдельно, любовь каждого из нас к каждому – совсем другое дело.
– Никола, – говорит он, – ты неимоверно дорог нам обоим.
И при этом признании хорошо знакомая мне стена смыкается вокруг меня. Ему надо было молчать, чтобы я мог не замечать или хотя бы оставить неназванным то, что выросло между нами. Но он заговорил, и я увидел, что Роберт – не мое сердце, не мои легкие. Катарина – не те глаза, которыми я вижу. Я один со сделанной мной работой, и главное, с работой, которая еще не сделана.
– Завтра я уеду, – говорю я ему.
– Так скоро?
– Прости. Я должен.
– Да. Опять. Понимаю.
Роберт поворачивается ко мне, не замечая, что в это время Катарина, которая не спала, а скорее занималась своими ранними утренними делами, входит в буфетную. Она находит нас здесь. Катарина хранит свои секреты от нас обоих. Я оборачиваюсь к ней, и мы спокойны, мы снова – треугольник. Наши глаза, все три пары, переходят от одного к другому, скачут от Катарины к Роберту, ко мне, как руки, шарящие во впадинах, податливых и запутанных.
Я дышу ровно. «У меня всё под контролем, – говорю я себе. – Завтра я уеду». Но сегодня я дышу и смотрю, как они оба, Катарина и Роберт, телеавтоматически повинуются.
Луиза возвращает листки в то самое место, где нашла их – под бумажной папкой с ярлычком: «мысли; „луч смерти“ и потенциал спасения человеческих жизней». Она бережно касается бумаги, чтобы не потревожить выведанного секрета. Он любил. Под этой папкой кипа других. Она перебирает их большим пальцем, читая надписи: «Фотографическая мысль», «высокочастотное излучение», «земной резонанс», «электрический полет», «двигатель с дисковой турбиной», «как сделать молнию», «создание и предотвращение землетрясений», «усилитель электрической энергии с катушкой Теслы», «высокочастотная осветительная система», «трансмиттеры-усилители», «приемники свободной энергии», «антигравитация». Все эти заголовки ей ничего не говорят.
Она начинает беспокоиться, долго ли она читала? Мелькает мысль, что, наверно, пора уходить. Он скоро вернется. Она поправляет папки и уже поворачивается, чтобы сделать то, что нужно – уйти, – когда на глаза ей попадается маленький аппаратик. Не больше тостера, он засунут в одну из ячеек между шкафчиками мистера Теслы. Она впервые видит такое устройство – все из стекла и металла, с множеством контактов, торчащих на крышке, с малюсеньким пропеллером-вентилятором и с разными проводками, подключенными к маленьким медным шарикам, вроде головок гидры. Устройство напоминает Луизе описание из одной радиопередачи. Сюжет назывался «Омар – персидский колдун или Голубой сверчок». Луиза невольно принимается гадать, на что способен этот аппарат. Может быть, исполняет мечты, или превращает в золото все, к чему прикоснешься? Гадать можно бесконечно, и она поворачивает в рабочее положение четко обозначенный выключатель. Она просто не может удержаться. Она щелкает рычажком.
Первое, что она замечает – глухой стук, будто усиленный звук биения сердца. Она отступает и падает на стул. Устройство оживает, стучит по столу. Луиза чувствует удары, отдающиеся через дерево ей в ноги. Теперь она чувствует запах – маслянистое металлическое тепло, как будто аппарат разогревается, готовясь исполнить то, что он умеет лучше всего. Наконец металлические шарики начинают жужжать и вращаться. Множество шариков на привязи проводов поднимаются на дюйм-другой над столом. Зависнув в воздухе, они начинают светиться.
– Светлячки, – восклицает Луиза и, не раздумывая, протягивает руку, чтобы тронуть похожий на жучка шарик. Она хватает его двумя пальцами. Воздух замирает, но не Луиза. Электричество, энергия, извлеченная из воздуха, входит в ее тело через указательный и большой пальцы, и она вскакивает, опрокинув стул. Кости Луизы оживают, все внутри течет и плещется, словно она путешествует сквозь время. Нью-Йорк. Палеоцен. Меловой период. Юра. Пермь. Кембрий. Пока мир не останавливается.
Луиза возвращается, но уже не одна. Раздается голос женщины. Он звучит в потоке энергии из аппарата. Он течет прямо в мозг Луизе. Сознание разваливается пополам, как яблоко. Луиза смотрит прямо в жидкую красную сердцевину Земли, удивляясь беззвучно машущим крылышкам черной мухи, удивляясь этой женщине.
– Эй? – она слышит, как женщина что-то говорит, и Луиза готова ответить, но тут колени у нее подкашиваются, пальцы выпускают шарик, она падает, хватаясь за первое, что подвернулось под руку – за стол.
Многочисленные бумаги и папки мистера Теслы разлетаются по всему полу. Падая, Луиза еще успевает заметить, как поворачивается дверная ручка номера 3327. Успевает увидеть шагнувший в комнату мужской ботинок с узким носком. Она переворачивается в падении. Вот потолок. Вот над ней сверкающие глаза и дышащие ноздри мистера Теслы, и она, наконец, опрокидывается во тьму.