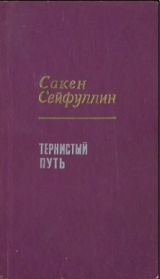
Текст книги "Тернистый путь"
Автор книги: Сакен Сейфуллин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
– Пайзикен, голубчик, поставь самовар, пришел гость к нам, – сказала она.
– Пожалуйста, проходите, голубчик мой! – обратилась женщина ко мне.
Лампу поставили на середину. Пайзикен начал хлопотать у самовара. Женгей села напротив меня, ближе к дочерям. Войдя в чистую освещенную комнату, я сел, скрестив ноги, и заметил, что одежда моя страшно неприглядна. На ногах сапоги, тупоносые, как телячья голова, на плечах изношенный полушубок на хорьке, весь пропитанный сажей, с ветхим матерчатым поясом. На голове ушанка из черной кошки, на шее потертый шарф.
Женгей стала меня расспрашивать, допытываться, кто я. Пайзикен поставил самовар и подсел к нам. Две девушки с опущенными веками украдкой, с любопытством посматривают, слушают, не пропуская ни единого слова. Обеим лет по пятнадцати-шестнадцати. Они словно зеленые лозы и похожи, как близнецы. Глаза чёрные, как у птенцов кобчика. Накрывшись халатами, они сидят рядком. На голове девушки, сидящей ближе ко мне, тымак из мерлушки с коричневым бархатным верхом.
Женгей продолжает дотошно меня расспрашивать. Я стараюсь ответить на все вопросы подробнее. Женгей тихо почмокала губами:
– Апырым-ай[75]75
Апырым-ай – восклицание, выражающее удивление.
[Закрыть], милый мой, если глядеть на твое лицо, то ты кажешься неглупым жигитом. А если представить твой путь, то поведение твое кажется совершенным безумием.
– Почему вы так говорите? – спросил я.
– Как же мне не говорить так! Выходишь из далекого Омска, пускаешься в поиски своего нагашы, даже не узнав, где он живет и к какому роду принадлежит. В самое тяжелое время года ищешь неизвестно кого. Между зимой и летом отправляешься в путь, когда дороги самые плохие. Отправляешься пешком в незнакомый край. И еще приходишь тогда, когда здешние аулы голодают, когда народ охвачен бедствием после сплошного падежа скота. Разве умный человек из далекого края может отправиться один в поиски своего нагашы, точно не зная его местонахождения и принадлежности к роду? Надо ли искать весною, когда дороги непроходимы? Надо ли идти, когда аулы по дороге голодны, только что перенесли гололедицу? Неужели нельзя было идти, когда наступит лето, поднимутся зеленые травы, народ насытится кумысом, окончательно оправится после беды? Ты говоришь, будто хочешь поступить на работу, если подвернется случай, на завод «Экибастуз» или на железную дорогу. Разве есть сейчас работа на «Экибастузе» и на железной дороге? Если бы здесь была выгодная работа, то местные жигиты не уходили бы отсюда на Иртышское пароходство в Омск. Разве ты об этом не знаешь? Наши, такие же, как ты, жигиты ежегодно уезжают на отхожий промысел в Омск. Ты должен был знать их. Каждый год на пароходе толпами они едут в Омск, тебе можно было бы встретиться с ними и узнать, какое положение в наших краях… Твоя внешность и твой разговор позволяют думать, что ты благоразумный человек, но совершенный тобой путь похож на безумие. Удивляюсь, голубчик, – высказывалась женгей.
– Вы правы. Из Омска я уехал сгоряча. А потом посчитал неудобным возвращаться обратно. А о том, что в ваших краях такое тяжелое положение, я узнал только лишь по приезде в Павлодар, – робко ответил я.
Когда мы беседовали с женгей, две девушки хватали каждое мое слово на лету, будто старались нанизать его на нитку, зорко следили за мной. В особенности та, что сидела от меня подальше. Осторожно выглядывая из-за тымака впереди сидящей девушки, она черными очами следила за каждым моим движением. Взгляд этой девушки меня волновал. Мне захотелось отвадить ее от излишнего любопытства, заставить ее отвернуться от меня со своими назойливыми «черносливинами». Безмятежно продолжая беседовать с матерью, я слегка передвинулся. Лицо девушки выглянуло на свет из-под тени тымака. Она продолжала глядеть на меня. Тогда я тоже впился в нее любопытным взором. Она растерялась, опять спрятала свое лицо в тень. Этот мой решительный ход не поняли ни мать, ни ее сестра, ни брат. О нашей перестрелке взглядами знаем только мы вдвоем. Неожиданно старшая сестра отодвинулась, прилегла и сказала матери:
– Мама, подойди-ка сюда!
Мать грузно повернулась к дочери, негромко спросила:
– Что такое?
Отвернувшись к стене, они о чем-то зашептались. Пошептавшись, обе приняли прежние позы. Мать спокойно, без всякой тревоги поглядела на лампу. Сердце мое чувствовало, что дочь что-то говорила ей обо мне. Но о чем же она могла рассказать?
Немного посидели молча, и женгей вдруг обратилась ко мне:
– Голубчик мой, как тебя зовут?
– Дуйсемби! – ответил я.
– Ты в русской школе учился?
– Нет, не учился.
– А владеешь ли русским языком?
– Немного.
– А по-казахски ты учился?
– Да, немного учился.
– А где?
– В Омске были курсы для подростков, вот я там и учился.
– А ты знаешь кого-нибудь из казахов, обучавшихся в омской русской школе?
– Некоторых знаю.
– Кого именно?
– Знаю Асылбека Сеитова, Мусулманбека Сеитова и еще двух Сеитовых, знаю также Асая Черманова и Шайбая Айманова.
– А как ты их знаешь?
– Дом Сеитовых в Омске, поэтому и знаю. Я на лошадях старшего брата Хаджимухана во время русских праздников возил в разные места Шайбая Айманова и Черманова. Поэтому хорошо знаю их. В особенности Шайбая. С ним я был близок.
– А где находятся сейчас эти жигиты?
– Не знаю… Асылбек Сеитов, видимо, где-то работает врачом. Не знаю точно, где и в какой должности сейчас Асфандияр. Кто-то рассказывал, что и Шайбай сейчас работает врачом…
– Если вы были близкими друзьями с Шайбаем, то ты должен знать, где находится его аул, – заметила женщина.
– Где-то около Баян-Аула.
– А знаешь ли ты по имени отца Шайбая?
– Кажется, его зовут Аппас. Женгей удовлетворенно улыбнулась.
– Хорошо, оказывается, не обманываешь… В таком случае я тебе объясню: сейчас в станице Баян-Аула Асылбек Сеитов работает врачом, а Шайбай фельдшером, оба в одном месте.
Мать обратилась к старшей дочери:
– Скажи, где их квартиры?
– Возле мечети, – ответила дочь.
Мои смутные догадки о том, где меня могла видеть эта девушка, стали теперь проясняться. У Шайбая были два мои фотоснимка. И эти черные очи, вероятно, видели их. На последнем снимке у Шайбая я был сфотографирован перед арестом в 1918 году. Мой тогдашний облик нельзя сравнить с сегодняшним лицом беглеца, бывшего колчаковского узника. Разница между тем лицом и этим должна быть, как между небом и землей. Прошел всего один год, но я знал, что изменился.
– Аул Шайбая находится отсюда приблизительно в пятнадцати верстах, – продолжала женщина. – Отец его в ауле, сам он в городе. Их называют там потомками бия[76]76
Бий – третейский судья. В роде Айдабола были некогда знаменитыми два бия – Чон и Торайгыр. Род Шайбая берет свое начало от Чона, на что намекает автор.
[Закрыть]. Мы приходимся родственниками.
Самовар вскипел, накрыли на стол. Мы все вместе стали пить чай. Наливал Пайзикен. Пришли еще два жигита, тоже начали расспрашивать, кто я. Женгей вместе с ними начала устанавливать местонахождение моего нагашы.
– Ты говоришь, что имя твоего ныне здравствующего нагашы аксакал Ильяс. Если отец Ильяса – Каскабас, то сам он Ботпай Ильяс, брат известного Жунуса…
– Знаете ли вы младшего брата Ильяса – муллу Жунуса? – спросил один из жигитов.
– Нет. Говорили, что у него есть брат, получивший русское образование, – ответил я.
– Да, это он. Он был учителем русского языка, обучал детей, и я учился у него. Бедняга уже умер… Его аул находится на северном склоне этой горы – отсюда около двадцати верст. Если с утра все время идти по склону горы, то к полудню можно добраться до аула, – объяснил жигит.
Я порадовался тому, как легко выискался мой нагашы. Я шел к Шайбаю, но план мой теперь расстроился из-за того, что он жил с Асылбеком Сеитовым в одном доме. Мне нельзя встречаться с Шайбаем, если он живет под одной крышей с врачом Сеитовым. Мне хорошо знаком Сеитов с первых дней моей учебы в Омске. В 1916 году мы проводили сельскохозяйственную перепись в Акмолинском уезде. Потом в 1917 году, когда я работал в казахском комитете, Асылбек Сеитов дважды приезжал в Акмолинск из Омска. Еще раз он приезжал, когда мы готовились организовать совдеп. Вместе с офицером Аблайхановым он собирал деньги для алаш-орды, старался мобилизовать молодежь в алаш-ордынскую милицию. Мы выступали против этих мероприятий и целых три дня спорили на многолюдных митингах в Акмолинске. Жители города последовали за нами, и врач Асылбек с офицером Аблайхановым вынуждены были ночью бежать. Теперь он в Баяне, в одной квартире с Шайбаем. Баян – казачья станица. Колчак свирепствует. Если я пойду к Шайбаю, Асылбек узнает о моем прибытии, и тогда все пропало: напрасны будут и мой побег из омского лагеря, и поездка в Славгород, и мучительный переход от Павлодара в продырявленных сапогах по колено в воде. Пройти триста пятьдесят верст и очутиться в Баян-Ауле в лапах колчаковцев совсем не входило в мои планы. Я решил не заходить к Шайбаю!
На ночлег женгей направила меня вместе с Пайзикеном в другой дом. Стояла безлунная темная ночь. На улице Пайзикен начал разговор:
– Твой вид мне очень понравился. В народе говорят: «Не сомневайся в том, у кого доброе лицо». Нам нужен работник. Не останешься ли ты поработать у нас?
– Мой дорогой, ведь нанимают работников родители, а не дети. Без отца как ты можешь что-нибудь решать?
– Родители не отвергнут мое предложение. Если мы договоримся вдвоем, значит, так и будет. У нас работа не тяжелая.
Мальчуган пристал ко мне, прилип со своим предложением.
– Какая у вас работа? – не выдержал я.
– Говорю, не тяжелая. Пасти небольшой табун. Доить кобыл. При кочевке навьючивать тюки. Дома будешь работать по хозяйству, вот и все! – ответил он.
– Сколько будете платить?
– Откуда я знаю, сам предлагай!
– Голубчик мой, в самых худших условиях я за месяц получал не ниже ста рублей.
– Ой-ой! Такой платы в нашем краю не бывает! – мальчик смутился оттого, что попал в неловкое положение…
Пайзикен отрекомендовал меня хозяину дома, молодому человеку. В доме бедно, не дом, а просто конура, разделенная длинной печкой. Низенький потолок, тускло горит свечка. Грязно, неприглядно. Хозяева производят впечатление забитых людей. К нашему приходу они уже приготовились ложиться спать. Давешние два жигита пришли и сюда за нами, и опять начался разговор со мной. Не торопился уходить и Пайзикен.
Один из жигитов, тот, который учился у муллы русскому языку, обратился ко мне:
– У тебя есть удостоверение личности?
– Есть!
– Ну-ка, покажи!
В нагрудном кармане теплой рубашки под бешметом хранились у меня три листа бумаги, свернутые каждый в отдельности. Один из них чистый, другой с казахским текстом, а третий – удостоверение на русском языке. Нарочито обнаруживая свою неловкость, я вынул чистый лист и, разворачивая, подал его жигиту.
– Друг, так ведь это чистая бумага, – заметил он.
– А-а, тогда, наверно, вот это! – Я подал ему второй лист с казахским текстом, тоже в свернутом виде.
– Эй, да и это у тебя простая бумага! – упрекнул меня жигит.
– Ах ты, опять ошибся! – сказал я с наигранным огорчением и подал свое «настоящее» удостоверение.
Увидев печать и штамп, жигит успокоился. Возвращая мне удостоверение, он многозначительно заметил – Заверни получше. Можешь потерять, простофиля.
Со дня бегства из лагеря только сейчас мне впервые пришлось показать свое удостоверение. «Вот каков наш брат казах!» – невольно подумалось мне.
Еще раз подробно расспросив дорогу к моему нагашы, я разделся, постелил свою одежду на закопченную кошомку и с удовольствием растянулся…
Проснулся рано. На небе ни облачка. Мягко веет ветер, нежный, как шелк. Солнце взошло. Зеленая травка еле-еле виднеется, словно пушок на губе юноши. Я любуюсь Баяном, и кажется, все испытания, тяжелые невзгоды теперь навсегда остались далеко позади. Уставшие изможденные мускулы стали крепкими, как железо, и напрягаются под кожей, словно плетеный кнут. Кажется мне сегодня, что вся вселенная пребывает в радости.
Шагаю по склонам Баяна. Роскошные деревья зеленеют пушистыми бутонами. На самой вершине стоит высокая стройная сосна в зеленой шапке. Слышен запах распускающейся зелени. Прозрачный воздух напоминает молодой кумыс, утоляющий жажду одним своим ароматом.
Иду узенькой тропинкой по склону. В ушах у меня звучат мелодии. Их поют горы Баян. По ущельям между деревьями, извиваясь, бегут ручейки. Звонкое журчание, их стремительный бег напоминают шумные голоса резвящихся детей. На деревьях поют птицы, свистят, прыгают с ветки на ветку, гоняются одна за другой, словно дети играют в жмурки. С беспорядочным гомоном лесных птиц сливается голос степного жаворонка. Склоны, камни, журчащие ручейки, деревья, высоты и впадины Баяна – все поет, все сливается в радостном единстве…
Я шагаю. В полдень умылся у ручейка, напился воды, вынул из кармана лепешку, испеченную на кизячном угле, и, можно сказать, пообедал.
Отдохнув на солнцепеке, я снова тронулся в путь. Заглянул в два аула у подножья горы, тщательно расспросил, где аул моего нагашы.
В пору полуденной молитвы я прибыл в аул нагашы.
На восточной окраине аула женщина собирала сухой кизяк. Я расспросил, где дом моего нагашы.
Аул имел жалкий вид. Низенькие неприглядные лачуги. Во дворах грязно.
А вот и избенка моего нагашы. Возле нее, совершая омовение, готовился к молитве мой нагашы – Ильяс, сухощавый, рослый, седобородый старец.
– Ассалаумаликум, – поздоровался я.
– Аликум-салем, здравствуй, свет мой, – ответил он.
– Здоровы ли вы? – продолжал я.
Аксакал меня не узнал, спросил, кто я такой, откуда.
Прошло всего лишь четыре года, как мы виделись с Ильясом. В 1915 году он приезжал к нам в аул и гостил с неделю. Как раз в эти дни я приезжал из Омска на летние каникулы, и мы подолгу говорили с аксакалом о разных делах. Ильяс в молодости побывал в разных походах и рассказывал мне о своих приключениях, о событиях давно минувших дней.
Прошло всего лишь четыре года. И он меня не узнает!
– Не узнаете? – спросил я.
Он пристально поглядел на меня.
– Светик мой, память слабая… Не совсем узнаю… Мы отошли в сторонку, сели, не отрываясь, смотрим друг на друга.
– Значит, не узнаете? – продолжал я.
– Нет… не узнаю…
– Вы знавали когда-нибудь Сакена?
– Какого Сакена? – Он крайне удивился. – Сакена, сына Сейфуллы, что ли?
– Да…
– Знаю, а что?
– Я и есть тот самый Сакен…
Ильяс вздрогнул, глаза его расширились.
– Брось, светик мой! Не надо шутить со мною, я не ребенок…
«Неужели мое лицо изменилось до неузнаваемости?»– подумал я. Тюрьма оставила свой глубокий след на моем лице. Еще в Славгороде, случайно увидев себя в зеркале, я вздрогнул, испугался своего вида. На лице моем четко обозначились несколько глубоких морщин…
Но сейчас же я вспомнил, что дочь Жантемира в ауле, где я заночевал вчера, узнала меня по давней фотокарточке. А родной нагашы не узнает. И видел меня всего лишь четыре года тому назад…
Я начал рассказывать своему нагашы все подробности того лета, когда он приезжал в наш аул, перечислил членов нашей семьи и насилу заставил аксакала поверить, что я все-таки Сакен.
Бедный мой нагашы, убедившись наконец, что это я, сразу заплакал.
– Голубчик мой, какое же горе пережил ты!?
– Только никому не говорите, кто я такой. Мое имя Дуйсемби… Скажите всем, что я сын племянника из Акмолинского уезда. Работал на заводе «Экибастуз». Теперь я заболел и возвращаюсь в свои родные края…
Обо всем договорившись, мы зашли в хибарку, разделенную длинной печкой на две половины. Внутри очень бедно. Сидят три старухи, две молодицы, два жигита, двое детей. Поздоровались. Ильяс представил им меня так, как мы условились. Через некоторое время посторонние ушли. Заперев дверь изнутри, оставшись наедине с домочадцами, Ильяс поведал им мою действительную биографию. Когда нагашы закончил свой рассказ, все плакали. С этого часа я прочно обосновался в этой семье…
В доме нагашы я прятался дней двенадцать. У соседа была домбра, я забавлялся ею и забавлял других. Зажили раны на ногах. Ильяс жил крайне бедно, имел истощенного сивого коня, тощего темно-серого вола, четыре-пять коз и одну дойную корову – вот и весь скот. Семья большая: старик со старухой, сын Ракиш, дочь Ильяса – вдова с тремя детьми. Домашняя утварь не стоила и десятка рублей, курносый черный чайник, залатанная узорчатая кошма, одно стеганое одеяло столетней давности, разломанный сундук. Чайные чашки скреплены проволокой. Очаг сложен кое-как. Сломанный жернов, треснувшее деревянное блюдо и тому подобный хлам. Лачуга построена из сырого самана, стены неровные.
Другой дом моего нагашы – дом его брата Жуниса – находится в ста верстах от Баяна на границе между Акмолинском и Каркаралинским уездами. Жунис и его старуха уже скончались. Единственный сын покойного – Мукай сейчас живет в ауле рода Каржас у родственников жены. Я не видел Мукая. По рассказам семьи Ильяса, живет он зажиточно, имеет десять коров, около двадцати овец и три-четыре лошади. Аул, где живет Мукам, лежит на пути в сторону Акмолинского уезда, и я обрадовался этому. Теперь мы с Ильясом решили заглянуть к Мукаю. Потом Ильяс проводит меня до моего аула во избежание неприятностей.
Начали готовиться к выезду. Сын Ильяса обошел весь аул, но не нашел подводы. Пришлось запрячь в телегу темно-серого вола. Взяли на дорогу лепешек, испеченных в золе, купили масла и вдвоем отправились в путь.
Если сядем оба на телегу, вол не тянет. Идем пешком. К вечеру остановились на ночлег у одного бедного казаха. Утром спозаранку тронулись дальше. Оставляя след на черноземной рыхлой почве Баян, мы пересекли посевные поля. По пути встретили семью кочующего казаха. На двух верблюдах навьючен домашний скарб. Едут трое мужчин и одна молодая женщина. Казах с черной бородой поздоровался с Ильясом, и неожиданно они начали крепко ругаться. Встречный казах требовал у Ильяса какой-то должок. Разгорался скандал. Вмешался я, но чернобородый не унимался. Подозвал еще двоих мужчин из своего каравана. Оказывается, они сторожили посевы одного богатого казаха из Баян-аульской станицы.
– Я поведу вас в станицу, сдам русским… Вы беглецы!..
Это заявление озадачило меня пуще всего. «Если бы я встретился в голодной степи с этим чернобородым, то погнал бы его пешком!»– со злостью подумал я.
Три казаха отобрали у нас вола с телегой, установили свою юрту и никуда нас не отпускали. Чернобородый слыл отменным законником в этих местах. Он научился всем подлостям у казачьего урядника. Потребовал у меня документы. Я показал. Он поглядел на бумагу и принял важную позу грамотея.
Со дня бегства от колчаковцев мои документы проверяли всего лишь в двух местах: на восточном склоне Баяна, в ауле хаджи Жантемира, а второй раз – на западном склоне тех же чудесных гор. Это разгневало меня. Как же мне не сердиться! На вокзале в Омске, в Татарке, в Славгороде, в Павлодаре специальные сыщики Колчака не требовали у меня документов. В поисках спасения издалека прибыл в родной Баян, и тут в первую же встречу сами казахи требуют у меня документы! Если бы знал их Колчак, то, безусловно, назначил бы руководить своими ищейками. Ползающие у подножья Баяна казахские пройдохи, научившиеся у богатеев их повседневным подлым повадкам, оказались гораздо бдительнее змеенышей Колчака с блестящими погонами на плечах!
Весь день мы просидели в юрте чернобородого. Он нас не выпускал. К вечеру похолодало, начался буран. Снежная буря бушевала и на другой день. Мы сидели скорчившись в одинокой юрте в распоряжении чернобородого. «Эх ты, сволочь, встретился бы ты мне в степи!.. – думал я. – Гнал бы я тебя плетью пешего, как последнюю собаку!»
На другое утро буран стих. К полудню казахи нас освободили, оставив у себя вола и телегу.
Что я мог сделать в дальней стороне среди чужих?! Спутник мой – слабый хилый старик…
Мы поплелись пешком. Отойдя несколько верст, я попросил старика вернуться домой, а сам отправился в аул нагашы Мукая.
В САРЫ-АРКЕ
Только вчера земля была черной, а сегодня уже белая. С запада дует легкий ветерок. Аулов нет.
Я шагаю по тропинке опять в одиночестве.
Поднялось солнце – снег начал таять, появились черные проталины; они ширились с каждой минутой, и к обеду снег стаял…
Я прошел мимо озера, о котором мне говорил Ильяс. На берегу его стояла одна заброшенная зимовка, развалина, похожая на провалившийся нос гнусавого. Потом перевалил через плоскогорье, о котором тоже мне говорил Ильяс, и увидел аул. С тех пор, как я вырвался из лагеря, я впервые увидел так много скота. В этих местах зима была не такой суровой и принесла казахам меньше ущерба.
Мне навстречу с лаем выбежало шесть или семь псов, все как один упитанные, бешеные. Они напали на меня. Байские собаки пьют жирный бульон, гложут жирные кости, жрут вдоволь мясо сдохшей скотины, поэтому бесятся. Если дать им волю, то моментально разорвут человека на куски. Кое-как я отбился от них камнями.
Зашел в юрту бая, мне подали выпить коже[77]77
Коже – жидкая смесь муки с молоком, подается обычно бедным посетителям.
[Закрыть]. Выйдя из юрты, я долго шагал босиком по талой воде. Вдали на склоне сопки виднелся аул. Когда солнце село, я подошел к аулу аксакала Айсы, о котором говорил мне Ильяс. Возле аула люди очищали колодец от застоявшейся воды. Аксакал Айса с белой широкой, словно лопата, бородой, сидел возле колодца. Четыре-пять жигитов вычерпывали воду бадьей. Я поздоровался с Айсой, и начался обычный расспрос.
Теперь моя биография такова: я, одинокий молодой человек, направляюсь в аул Балабая из рода Бабас, одного из разветвлений Каржаса, выходца из Баяна.
Расспросив меня, аксакал Айса, шутливо улыбаясь, сказал:
– Мой герой, у тебя телосложение крепкое, подходящее для очистки колодца. Ну-ка, покажи этим жигитам свои способности!
Я начал орудовать бадьей. Айса поддразнивал своих:
– Эй вы, удальцы, почему лениво поворачиваетесь, берите пример с него!
Ночевал я у Айсы. Расчесывая свою длинную седую бороду, он расспрашивал меня и сам много рассказывал. Айса показался мне умным, сведущим стариком. Он похож на старого ястреба. В его саманном домике две комнаты.
Совершая намаз, Айса сказал:
– Голубчик мой, ты производишь впечатление достойного жигита, но почему не совершаешь намаз?
– Моя одежда не совсем чиста для совершения намаза. К тому же болячки одолевают меня, – начал я отнекиваться.
Подоили яловых кобылиц. Утром, не дожидаясь чая, я напился кумыса и тронулся в путь.
Перевалив через сопку, я увидел три-четыре аула. Юрты были установлены рядами перед горой Далба, в широкой и просторной долине. Аулы зажиточные, здесь много скота. Я свернул с дороги, зашел в белую юрту. За юртой пасся оседланный, но разнузданный конь. Войдя в юрту, я поздоровался и застыл от удивления. Произошла необыкновенная встреча.
В юрте только что приступили к утреннему чаепитию. На почетном углу дастархана, напряженно выпрямившись, сидел молодой человек, круглолицый, с глазами верблюжонка, прямым носом, с пробивавшимися усиками. Я его узнал сразу. В прошлом, 1918 году, зимою в Акмолинске этот жигит учился на вечерних курсах, где я преподавал. Из Баян-аула, из рода Каржас, учился в акмолинской семинарии некто Карим Сатпаев. От Акмолинской и Семипалатинской областей алаш-орда выдвинула тогда делегатом в учредительное собрание Абикея Сатпаева, его родного брата. В Акмолинске сам Карим Сатпаев близко общался с нами, и когда мы открыли курсы по обучению казахских подростков, Карим привел к нам жигита из своего аула. Тогда они вдвоем жили в доме известного казахского бая Матжана… И вот теперь, в апреле 1919 года, в Баян-аулском районе, в казахском ауле возле горы Далба, утром в юрте я встретился со своим круглолицым учеником, которого к нам привел Карим год назад. Какое неимоверное совпадение! Как дубинка, воткнутая в землю тонким концом, торчал жигит в почетном углу и спокойно глотал чай. Раньше одевавшийся со вкусом, он и теперь не изменил своей привычке. Когда я поздоровался, он ответил вежливым приветствием. «Садитесь пить чай!»– последовало приглашение.
Я сел ниже всех, на почтительном расстоянии от дастархана. Стараюсь не выдать себя. Когда начались обычные расспросы, я сказал то же, что и аксакалу Айсе: «Еду из Баяна в аул Балабай, из рода Бабас».
Мимолетным взглядом я заметил, что ученик мой пристально смотрит на меня. Пока я выпил две пиалы чаю, он не отрывал от меня глаз. Когда я ответил на его взгляд, он спросил:
– Как вас зовут?
– Дуйсемби, – ответил я.
Мой ученик разочарованно пошлепал губами, изобразил удивление на лице и замолк. Он был уравновешенным, серьезным жигитом и ограничился молчаливым удивлением, не стал расспрашивать.
Разузнав дорогу, я пошел дальше. Выйдя из юрты, я первые мгновения колебался: может быть, вызвать ученика, отвести в сторонку и наедине рассказать ему обо всем? Но если я расскажу одному по секрету, то этот секрет распространится на всю округу. Я поплелся дальше. С запада дул холодный ветер. Обыкновенный, весенний, временами усиливающийся до ураганного. По небу плыли темно-серые густые облака, словно льдины весеннего половодья. Плоская равнина, увалы, сопки, холмы и горы – сегодня все мне казалось серым, непривлекательным. Целый день я шел по безлюдной тропинке.
На закате среди мелких сопок я узнал возвышенность Кара-Тока[78]78
Кара – черный; тока – имя основателя рода.
[Закрыть], о которой мне рассказывал Ильяс.
Он говорил: «Запомни, что на ее вершине будет видна зимовка. Тебе, наверное, придется заночевать в том ауле…» Я заинтересовался названием «Кара-Тока», потому что мои предки принадлежали к этому роду.
Я подошел вплотную к зимовке, но никого не увидел. Кажется, жители ее только что откочевали. Дворы раскрыты, словно разрушенные пещеры. Лежат трупы двух лошадей. Вокруг падали носятся собаки. Они с остервенелым лаем ринулись на меня, защищая свою жертву. Я зашел в одну из землянок – ни души. Взобрался на крышу и оглядел окрестности. Между сопками тянулся сухой овраг и пропадал в степи. У подножия Кара-Тока бурлил ручей. Вдали виднелся пасущийся скот. Прикрытое серыми облаками солнце уже перевалило за сопку.
Как мне быть? Дойду ли я до того аула, где пасется скот? Не заночевать ли мне на этой заброшенной зимовке?.. А на ужин сварить кусок падали? Что же зазорного в этом?.. В омском лагере сидели вместе с нами венгры. Они каждый день убивали по одной собаке и съедали ее. Однажды венгр Хорват и Панкратов угостили меня собачьим бульоном, и я не отказался. А чем мы лучше венгров? Если они едят собачье мясо, почему бы мне не поддержать силы мясом сдохшей лошади?..
Далеко было идти, но я все же отправился туда, где виднелись пасущиеся овцы. Пришлось раздеться, когда переправлялся через речку, поросшую тальником. Мутная вода холодна, словно мерзлое железо, ошпарила, обожгла тело холодом и хотела увлечь за собою, как легкое перекати-поле…
Когда солнце село, я еле добрался до аула, расположенного на берегу речушки. Здесь оказались жители зимовки с макушки Кара-Тока. Остановился на ночлег.
Спозаранку, выпив чаю и чашку кумыса, отправился дальше.
День холодный. С запада дует ледяной, насквозь пронизывающий ветер. Порою серые облака собираются, сгущаются и опускаются вниз к земле.
Опять переправился через речку с тальником и наткнулся на аул. Когда второй раз переходил холодную речку вброд, один всадник выехал из аула навстречу мне. Чернобородый, краснощекий, с открытым добрым лицом, он на саврасой кобыле подъехал ко мне.
– Давай я переправлю тебя, садись-ка на круп моей лошади! – предложил он.
– Нет, я сам перейду, спасибо… Он с иронией заметил:
– Вишь, какой ты жигит! Что за вежливость такая?! Я не отпущу тебя ни на шаг, пока не переправлю! – заявил он и поставил коня поперек тропинки. Я переехал на крупе кобылы и попрощался с добрым казахом.
Заглянув в аул, я убедился, что не сбился с дороги, иду верно. К полудню увидел аул на плоскогорье. Вблизи паслось стадо овец. Я присел в густо поросшем ковылем овражке, вынул из кармана лепешку и, смазав ее остатком масла, начал есть. Ко мне подъехал на рыжем воле мальчик-чабан. Глаза его жадно смотрели на хлеб. Одежда на нем разодрана, залатана. Похоже, он только что оправился от тифа. Щеки бледные. Я подал ему хлеб с маслом. Он поймал его на лету, как окунь, глотающий наживку.
– Вот и наступил день, когда я увидел масло! – с горечью заметил мальчуган.
– Разве у вас в ауле нет масла?
– У нас еле пережили суровую зиму! Много прошло времени, как мы не пробовали масла!
– Ты пасешь большое стадо овец. Неужели у хозяина нет масла?
– Может быть, для себя и есть, но нам разве достанется?
– Сколько тебе платят?
– Доброй платы нет, о которой можно было бы говорить…
– Но все же?
– Пуд пшеницы, одну пару сапог, потом еще изношенный халат, вот и все!
– За эту плату ты пасешь стадо все лето?
– Да! – ответил пастух,
…В другом ауле я зашел в юрту старшей сестры Мукая, о которой мне говорил Ильяс. Она тоже живет бедно. Отсюда уже было недалеко до аула Балабая, где жил мой нагашы Мукай.
В пору вечерней молитвы я прибыл в аул Балабая Сары-адыр. Он стоит обособленно. Сопку Сары-адыр можно увидеть издалека. Аул Балабая расположен на самой ее макушке, он все еще находился на зимовке. Когда я подходил к подножью Сары-адыра, серые облака сгустились и опустились ниже, начал падать снег. Я так устал, что еле вскарабкался на плечи Сары-адыра..
Аул состоял всего лишь из четырех хозяйств. В одной из юрт жил мой нагашы Мукай. В большой юрте – сам Балабай, который приходится Мукаю тестем. В третьей юрте жил старший сын Балабая.
Я увидел жигита, который поил из ведра мухортую кобылу с белым пятном на лбу. Поздоровались. Плечистый, рослый, с редкой бородой и усами, похожими на хилые травинки каменистой местности, он одет в короткое купи, покрытое сверху полосатой тканью. На ногах его были казахские сапоги с войлочными чулками, на голове поношенный тымак из черной мерлушки, похожий на шлем богатырей. По описанию самого Ильяса, это и был Мукай. Мимо нас то выходили со двора, то входили во двор люди, не обращая на нас внимания.
– Вы Мукай? – спросил я.
– Да… А откуда ты меня знаешь?
Я вкратце рассказал, откуда иду и тут же объяснил, что я – Сакен. Он сначала раскрыл рот от удивления, но затем недоверчиво усмехнулся.
– Молодой человек, не надо выдумывать. Мы – казахи – в любом случае должны принять гостя!
Не поверил мне Мукай, подумал, что я не Сакен, а лишь прикидываюсь жиеном, чтобы меня здесь приняли. Мукай меня никогда не видел. Я опешил. Что делать? Я начал рассказывать подробнее. Сказал, что был у Ильяса, описал его хозяйство, поведал, как Ильяс меня провожал и как с пути вынужден был вернуться обратно. Рассказал про бедность и в семье Ильяса. Свое белье и суконный бешмет я отдал Ракишу – сыну Ильяса, а взамен надел залатанный бешмет Ракиша. И тут же я для убедительности показал его Мукаю. Сказал, что зимой умер старший сын Ильяса. Мукай поверил, изменился в лице, заплакал, стал обнимать меня. Вскоре к нам подошел седой человек с палкой в руках, сам Балабай. Увидев слезы на глазах Мукая, он участливо спросил, что случилось.




