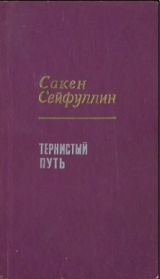
Текст книги "Тернистый путь"
Автор книги: Сакен Сейфуллин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Это ты, рыжеусый! А помнишь, как ты чуть мне глаза не выцарапал?!..
Вызвали больше сорока человек, поставили в ряд, окружили конвоем.
Небо безоблачное. Где-то высоко-высоко мерцают звезды, и от их дальнего света ночь кажется не очень тёмной.
Никто не в состоянии предположить, куда поведет нас «батыр» Сербов.
А Сербов продолжает хрипло выкрикивать приказания своему отряду. Конвой взял ружья наизготовку.
Голос Сербова загремел: «Ведите!»
И погнали нас неизвестно куда…
Город стал окутываться туманом, мрачный, темный. Кажется, что, затаив дыхание, лежит огромное животное. Ни звука, как будто все вымерло. И только мы, словно единственные обитатели, шагаем по пустынным улицам, окруженные казаками. У пешего конвоя ружья на изготовку, у конного обнаженные сабли поблескивают в свете звезд.
Идем и идем… Только слышно, как под ногами хрустит песок да похрапывают лошади. Все угрюмо молчат: и мы, и конвоиры. Кажется, что обе стороны напряженно следят друг за другом, в молчании точат клинки, и если кто-нибудь зазевается, так и вонзится в него нож по рукоятку.
Похоже, что казаки уже знают – наметили место, куда вести большевиков. А последние терпеливо идут, будто знают, куда их гонят и зачем…
Зловеще поблескивают оголенные сабли, позвякивают ружья. Погруженные во тьму, затихшие мирные дома остаются позади.
Наконец вывели нас на окраину города.
Мой напарник Нургаин и идущий сзади Хусаин Кожамберлин тихо промолвили:
– Вывели нас за город, чтобы расстрелять здесь!..
– Ерунда! – подбодрил я товарищей. – Не все ли равно, где расстреляют.
В памяти невольно пробегает весь недолгий прожитый путь. С детства я страстно рвался к учебе. Безмятежно текла моя юность в ауле… Потом завод в Успенске, золотые дни в городской акмолинской школе. А дальше – поездки в Омск, ученье в семинарии. Вдохновенная радость, связанная с открытием союза учащейся молодежи «Бирлик». Надежды, мечты отдать благородному делу всю свою силу и энергию… Год учительствования в ауле Бугли на берегу Нуры. Долгожданная свобода, создание газеты, работа в комитете, митинги – большая, кипучая жизнь.
Много хороших планов хотелось нам осуществить в совдепе.
Вспоминаются мать, отец, родные, близкие, товарищи, друзья… Любимая…
В один миг пробегает вся моя жизнь перед мысленным взором, и от этого болезненно сжимается сердце. Неужели все это должно в одно мгновение исчезнуть, вот сейчас?..
Бессмысленная смерть делает всю твою жизнь бессмысленной и бесцельной игрушкой. Да, игрушкой!.. А если это так, то жить или умереть – какая разница?.. Если смерть, пусть смерть! Только поскорее.
Итак, судьба решена! Я не боюсь смерти и смотрю ей прямо в глаза. Если в жизни остается единственное – смерть, то человек не должен ее бояться. С гордо поднятой головой он должен встретить свою судьбу! Жигиты безмолвствуют…
Вышли на окраину. За поворотом почувствовалось близкое дыхание смерти.
Жил ты – и вдруг тебя не стало! Живое – все исчезает. Одно раньше, другое позже… Мы погибнем раньше других… Бедная мать будет проливать горькие слезы!.. Неужели погибнем? Неужели мать должна проливать слезы?.. Нет! Мы не умрем!.. Разбежимся сейчас в разные стороны. Затрещат выстрелы, засверкают сабли. А мы исчезнем в ночной мгле… И вернемся в свои аулы…
Мы приблизились к каменному дому на самой окраине города. Со скрипом открылись железные ворота, что-то загудело, зазвенело…
Загнали нас в открытые ворота, в огромный двор.
Из каменного здания вышло несколько человек. Сербов заговорил с ними вполголоса, потом о чем-то посоветовался с двумя вооруженными конвоирами.
У нас затеплилась надежда…
Снова зазвенели железные засовы, послышались гулкие голоса. Минуты казались вечностью. Прошло немало времени, пока появились два надзирателя и увели одного из нас… За ним другого. Так по одному брали и уводили, и каждый с беспокойством ждал, когда придет его очередь. Товарищи еще больше волнуются, потому что не знают, зачем их уводят в дом.
– Что они там делают?.. Убивают? Ну, скажи, что они с нами сделают? – встревоженно пристал ко мне Нургаин.
– Что хотят, то и делают!.. И перестань болтать попусту! – отрезал я, теряя терпение.
– Ты и здесь намерен приказывать? – рассердился Нургаин.
Я пожалел, что так неуместно оборвал его.
– Ладно, не стоит об этом говорить! – успокоил я товарища.
Наши голоса как-то встряхнули угрюмо застывших арестованных, они оживились.
Завязался разговор… А конвоиры между тем брали и уводили кого-нибудь.
Подошла и моя очередь. Повели меня узеньким коридором, освещенным лампой к самой дальней двери.
Там сидел какой-то русский чиновник. У окна стоял Сербов. Записали мою фамилию.
– Деньги есть? – спросил чиновник.
Обшарили мои карманы и, не найдя ничего подозрительного, приказали конвоирам:
– Убрать его!..
Привели меня в темную, холодную камеру с цементным полом. С шумом захлопнулась тяжелая железная дверь, а снаружи загремел замок.
Из темноты, из глубины камеры донесся голос:
– Кто ты?
Я узнал по голосу нашего товарища, адвоката Трофимова. В камере темно. Ощупью я добрался до людей, лежащих на цементном полу. Лежим, изредка перебрасываемся словами.
Время от времени открывается дверь и вталкивают очередного заключенного. Один из них, нащупывая себе место в темноте, оттолкнул мою ногу.
– Что это лежит на полу? – недоуменно спросил он по-русски.
– Человек лежит на полу, – многозначительно ответил я.
– Сильно сказано! – ввернул Трофимов из дальнего угла…
Так мы коротали ночь в этой темной пещере.
С наступлением утра появились караульные. Нас подняли, уставших, изнуренных, и выгнали на тюремный двор.
Потом снова рассовали по камерам и заперли.
Днем в нашу камеру вошел молодой офицер Моисеев, помощник казачьего коменданта. Сам он был не из казаков. Отец его – крупный акмолинский купец. Сын учился вместе со мной в акмолинской школе. Сидели мы с ним когда-то за одной партой. Оба интересовались газетами и спорили о политике. Бывало, вместе играли. Сейчас на его плечах погоны прапорщика.
Когда вспыхнула война на Балканах, наши учителя начали собирать деньги болгарам. Устраивались благотворительные вечера. Ругали в те дни Турцию, хвалили Болгарию. С учащихся собирали по 5—10 копеек, но я отказался от взносов. Моисеев упрекнул меня тогда и начал распространять слух, что Сейфуллин – турецкий патриот.
В 1919 году я уехал из Акмолинска в Омск продолжать учение. С тех пор мне не приходилось встречаться с Моисеевым. И только в 1917 году, когда шла ожесточенная борьба за создание советской власти в Акмолинске, я снова увидел его. Нам пришлось конфисковать богатства его отца: каменные дома, мельницы, многочисленный скот. Я настаивал на том, чтобы казакам были возвращены насильно захваченные Моисеевым земли на берегах Нуры.
И вот теперь с молодым офицером Моисеевым мы встретились как враги.
На нем сверкает мундир, поскрипывает портупея. Рядом с ним начальник тюрьмы и еще двое, вооруженные до зубов. С бывшим соучеником мы обменялись взглядами – и только…
Увидев нас сидящими на каменном полу, Моисеев расспросил начальника тюрьмы о распорядке, вполголоса дал указания и вышел.
Наши друзья, которые остались на свободе, не забывали нас – приносили передачи, сообщали новости. Сегодня, например, такую: несколько человек окончательно внесены в список и будут расстреляны. Фамилии пока неизвестны!..
На другой день другая новость: расстреливать никого не будут, потому что во многих местах, в том числе и в Омске, власть находится в руках большевиков.
После такой новости мы грызем кулаки – дали маху!
На следующий день нас снова вывели во двор на прогулку. Я попытался заговорить с одним студентом из охраны – эсером. Он ответил насмешкой.
Во дворе расклеены приказы коменданта города, в которых большевики именуются врагами народа и отечества, а также говорится, что по всей России власть у большевиков будет отнята, и все они понесут заслуженную кару…
Из этих приказов узнаем, что взяты Атбасар, – власть в руках атамана Анненкова, и Петропавловск, в котором властвует полковник Волков.
Многие из нас после такой информации еще ниже повесили головы. Сильнее прежнего беспокоит мысль: «Хотя бы не сдавался Омск, чтобы окончательно не распоясались казаки!»
Но на следующий день стало известно, что Омск тоже пал. Казаки еще больше зверели.
Оказывается, до взятия Омска «герои» – бунтовщики, взявшие власть в Акмолинске, были еще не уверены в своих силах, побаивались. Но как только пришла весть, что взят Омск, распоясались окончательно.
Военному делу стали обучать старых и молодых купцов и мелких торговцев. Всех, кто хоть в какой-то степени был связан с большевиками, загоняли в тюрьму.
Камеры переполнены. Большинство членов совдепа в первой камере. Двадцать четыре человека, которых признали наиболее опасными, заковали в кандалы. Среди них начальник штаба Красной Армии матрос Авдеев, комиссары совдепа Павлов и Монин, председатель совдепа Бочок, его заместители Катченко и Серикбаев, председатель трибунала Дризге, Мартлого, комиссары по распределению продовольствия Богомолов и Асылбеков, член президиума совдепа и комиссар по делам просвещения Сейфуллин, комиссары по труду Пьянковский и Щербаков, комиссары милиции Грязнов, Адилев, Жайнаков, Бекмухаметов, социал-демократ, не член совдепа Петрокеев и другие.
Привезли под конвоем арестованного Жумабая вместе с его помощниками, которые ездили в Ереймен, чтобы воздать по заслугам волостному Олжабаю Нуралину и Алькею. Случилось непредвиденное – Жумабая и его товарищей, по настоянию Олжабая, заковали в кандалы.
Одели нас в разноцветную арестантскую одежду из грубого льняного полотна – спина и воротник желтые, остальное черное.
Выдали нам брюки и рубашки с вылинявшими воротниками и отвратительные черные бушлаты.
Когда нас выводили на прогулку, двор окружали вооруженные конвоиры.
После взятия Омска запретили передачи. Караул усилился… Конвоиры все время менялись; то это были прапорщики, то сыновья местных богачей, мещан, купцов.
Кормили нас очень плохо – какая-то баланда да черствый черный хлеб с водой.
Аресты большевиков продолжались.
Попала в тюрьму и группа рабочих с заводов Успенска, Спасска, Караганды. Арестовали молодежь из «Жас казаха».
Двенадцать камер переполнены, но власти не успокоились, продолжают рассовывать большевиков по каменным сараям.
Казаки, как голодные волки, рыщут по аулам, обшаривают каждый поселок Акмолинского уезда. Люди, как стадо овец, терпеливо переносили невзгоды.
Положение бедняков еще более ухудшилось. Тех, кто пытался перечить, избивали плетками.
Народ по-разному сопротивлялся несправедливым действиям.
В день, когда нас должны были заковать в кандалы, понадобился кузнец. Позвали одного кузнеца-казаха. Узнав, в чем дело, он наотрез отказался. Его жестоко избили плетками, но и тогда он не выполнил гнусного приказания.
Простой народ впал в отчаяние. А те, кому не нравилась советская власть, ликовали.
Прошел слух, что нас пошлют на расправу к казачьему атаману Дутову в Оренбург, что в Омске ждут одного важного начальника, чтобы создать военно-полевой суд и всех руководителей расстрелять.
С каждым днем наше положение становится все тяжелее.
Приходят вести, что в Сибири белогвардейцы захватывают города.
Мы все вместе обсуждаем создавшееся положение.
Стоит только двинуть рукой или ногой – кандалы звенят, как путы на стреноженных конях. Если поднимемся все вместе, лязг кандалов заполняет тюрьму.
Как-то казахи в нашей камере разговорились о судьбах своих товарищей. Как они там?
Речь шла о Сабыре Шарипове из Кокчетава, о работниках из Омска – Татимове, Жанибекове, Мукееве, Шаймердене Альжанове, из Петропавловска – Есмагамбетове, Дуйсекееве, об их уездном комиссаре Исхаке Кобекове, о тех, кто организовал в Омске демократический совет молодых большевиков, и о многих, многих других.
Самым близким мне был ветфельдшер Шаймерден Альжанов, ярый противник алаш-орды.
Вспоминается такая история. В 1917 году в Омск прибыл из Оренбурга Букейханов. Полковники восторженно встретили его. Состоялся митинг. Тогда против Букейханова выступил только один человек – Шаймерден.
Молодежь алаш сочла его сумасшедшим. Шаймерден в знак протеста покинул собрание вместе с Таутаном Арыстанбековым…
Мы думали о судьбах не только акмолинских товарищей. Во время установления советской власти в Семипалатинске, когда взбешенные алаш-ордынцы не хотели признавать эту власть, к большевикам присоединился только учитель Ныгмет Нурмаков из Каркаралинска. После Октябрьского переворота в одном из своих писем он писал мне: «Как дела, Сакен? Мне стало понятно, что только большевики могут дать свободу беднякам, которые жестоко угнетались царской властью. Поэтому-то я и стал большевиком…»
И разговор пошел о том, как теперь чувствует себя Ныгмет в Каркаралинске.
В 1917—18 годах редко можно было услышать, чтобы казахи добровольно присоединялись к большевикам. В газетах об этом не сообщалось. Тем труднее было казахским большевикам вести политическую борьбу, открыто выступать против националистических устремлений алаш-орды.
Трудно было нам еще и потому, что все газеты, выходившие в Казахстане, исключая акмолинскую «Тиршилик», поддерживали алаш-орду.
Знакомясь с общественно-политической борьбой 1917—18 годов, нетрудно убедиться в том, что образованные люди группировались тогда вокруг газет и журналов. И если их взгляды расходились с политикой газеты или журнала, они старались высказать свою точку зрения в газетах и журналах других губерний.
В этой великой борьбе 1917—18 годов главным рупором алаш-орды стала газета «Сары-Арка». И только один Ныгмет из Каркаралинска Семипалатинской губернии писал нам в «Тиршилик».
Акмолинская газета резко выступала против алаш-орды. Поддерживала нас петропавловская газета «Уш жуз».
Наши местные идейные противники стали выпускать в 1918 году газету «Жас алаштар» – «Молодой алаш-ордынец». В Петропавловске выходила газета «Жас азамат»,[43]43
«Молодой гражданин».
[Закрыть] которая также всячески старалась поднять престиж буржуазных националистов.
Уральские алаш-ордынцы издавали одно время в городе Ойыле газету «Жана казах» – «Новый казах».
В Ташкенте против советской власти выступала газета «Бирлик туы»[44]44
«Знамя единства».
[Закрыть], алаш-орду поддерживала букеевская газета «Уран»[45]45
«Клич».
[Закрыть], редактируемая поэтом-муллой Карашевым. Против них активно выступал Серик Жакипов.
Омар Карашев написал гимн алаш-орды и выпустил книгу под названием «Терме»[46]46
«Ритмы».
[Закрыть], в которой восхвалял Алекена (Алихана). Он восторженно утверждал, что знамя казахского народа – это Алекен. Вокруг него гимназисты, студенты…
Перечитывая эти газеты, сейчас трудно поверить, что в Казахстане в то время были люди, которые поддерживали большевиков.
Были в Акмолинске и такие большевики, которые избежали ареста, – Турысбек Мынбаев, Жахия Айнабеков, Абубакир Есенбаков, Галим Аубакиров, Баттал Смагулов, Жаманаев, Билял Тиналин, Сеит Назаров, Арын Малдыбаев, Хаким Маназаров и многие другие.
В молодежной организации «Жас казах» заранее узнали о предстоящем аресте активистов и сумели предупредить Бакена Жанабаева, Кожебая Ерденаева, Салиха Аннабекова, Омарбая Донентаева, Дуйсекея Сакбаева и других товарищей.
Как ни старались тюремщики лишить нас связи с миром, мы получали все новые и новые вести с воли. Мы узнали, что в Семипалатинске образовано правительство алаш-орды. «Сары-Арка» полностью опубликовала его программу. Газета появилась и в Акмолинске. Нам в тюрьму передали номер этой газеты, если не ошибаюсь, 42.
В нем был напечатан призыв алаш-орды, гласивший:
«Кто поймает бандитов и изуверов – казахских большевиков, пусть на месте расправляется с ними. Их нужно истребить всех!»
Каждый день мы ждали смерти…
С каждым днем враги революции – муллы, третейские судьи, волостные все выше поднимали головы.
Враги радуются. Друзья скорбят.
А в каменной тюрьме сидят закованные в кандалы красные соколы-большевики.
В АКМОЛИНСКОЙ ТЮРЬМЕ
Казаки с прапорщиками во главе, охранявшие тюрьму, напоминали толпу чертей. На груди у каждого газыри. Шапки лихо заломлены, на штанах красные двухполосные лампасы. У всех сабли, винтовки, нагайки. Они громко, во всеуслышание матерились. Изредка охранять тюрьму присылали солдат-новобранцев из крестьян. Тогда арестанты чувствовали себя свободнее.
Пришедшие к власти белогвардейцы создали комиссию по ликвидации большевизма в Акмолинском уезде. Во главе комиссии стал монархист Сербов.
Слухи каждый день обновлялись, стало известно, что кое-где уже применяют смертную казнь. Однажды в тюрьму явился Сербов с начальником тюрьмы и в сопровождении семи-восьми офицеров. На плечах у всех погоны, при малейшем движении звенели шпоры.
Оказывается, Сербов привел начальника городского гарнизона. Когда они с шумом вошли в нашу камеру, начальник тюрьмы хрипло скомандовал: «Встать!» Мы поднялись.
– Ваши дела будут разбираться в судебном порядке. Каждому из вас будет предъявлено обвинение согласно закону. Беззаконие допущено не будет!.. – объявил нам начальник гарнизона.
С приходом к власти белые срочно созвали уездный съезд. Из поселков и аулов прибыли исключительно баи и бывшие волостные. Но как ни строг был отбор делегатов, все же из некоторых мест прибыли на съезд сочувствующие советской власти. В день открытия съезда они заявили: «В первую очередь надо освободить из тюрьмы работников Советов!»
Главари казачества, баи и офицеры, задетые за живое таким заявлением, арестовали на месте сочувствующих заключенным и учинили им допрос.
Белые с каждым днем свирепели все больше. Чванливые легкомысленные офицеры шлялись по улицам Акмолинска. Офицеры и байские сынки походили на взбесившихся годовалых верблюдов.
Тюрьма не вмещала арестованных. Вновь поступающих волокли в подвалы каменных домов, наскоро устраивали проверку и освобождали «невредных». Некоторых освобождали за взятку. Выпустили несколько жигитов из «Жас казаха».
Как «сочувствующих большевикам» освободили служивших в совдепе Дюйсекея Сакпаева, Темиргалия Асылбекова. Выпустили ветфельдшера Наурызбая Жулаева, Даута Бегайдарова, из учителей – Галимжана Курмашова, Галия Китапова, из писарей Карима Аубакирова и ряд других.
Среди них совершенно случайно с помощью родственников оказался на воле Ували Хангельдин, образованный, умный жигит, подлинно идейный социалист. Спохватившись, власти стали искать его, чтобы посадить обратно в тюрьму, но Ували успел скрыться.
Иные каялись, говорили, что они к большевикам примкнули по неведению и незнанию; таких освобождали. Освободили, например, Нуржана Шегина.
Положение в тюрьме становилось все хуже. Собственную одежду вплоть до нижнего белья отобрали. Выдали нам казенное нательное белье из грубого льна, короткий пестро-черный пиджак, вместо постели мы получили по одному льняному мешку, слегка набитому сеном. Спим на деревянных нарах, а кто попал позднее – на земляном или каменном полу. Камеры закопченные, вонючие, очень тесные, переполненные. С воли передачи не принимаются. Кормят нас водой, непропеченным ржаным хлебом с горелой коркой. Из полусырого хлеба можно делать кумалаки[47]47
Кумалак – мелкие камешки, зерна, катышки и т. д. в количестве 41 для гадания. (Прим. переводчиков).
[Закрыть] и пешки для игры.
В тюрьме двенадцать камер сплошь забиты большевиками. Заключенные сильно похудели, будто застигнутые тяжелой болезнью. В нашей камере два окна, на них решетки из четырехгранного толстого железа. В одном окне есть форточка. Открывать ее не разрешают, но она у нас все время открыта. Духота от этого нисколько не рассеивается. Когда укладываемся спать, ни на деревянных нарах, ни на каменном полу не найдешь свободного места, даже размером в ладонь.
Днем сидим, сгрудившись полукругом, и ищем способа убить время. Одни играют в шашки из хлебного теста, другие переговариваются, третьи поют песни, четвертые хмуро бормочут о чем-то, пятые, уставившись в окно на волю, часами сидят безмолвно и неподвижно.
Каждый день перед окнами появляются родственники или знакомые арестованных. Казаки никого не подпускают близко, а когда их сменяют мобилизованные в солдаты крестьяне, те делают вид, что ничего запрещенного не замечают, и тогда можно перекинуться через решетку словцом со своими родственниками, услышать весточку о жизни на воле.
Тюрьма находится на западной окраине Акмолинска. Окна первых четырех камер обращены на улицу. Видны крайние городские дома, виднеется холмистая степь за городом и далекая роща на берегу Ишима.
При хорошем надзирателе я подхожу к решетке и долго-долго смотрю на волю…
Там цветет лето, зеленеет город, течет голубой Ишим в зеленых берегах.
Шагах примерно в ста пятидесяти от нашего окна стоит дом, в котором живет знакомый старика Кременского, одного из наших заключенных. Сыновья Кременского часто заходят в этот дом, открывают настежь окна и тайком смотрят в нашу камеру через бинокль. Мы зовем к решетке самого Кременского, и он начинает переговариваться с сыном молчаливыми жестами. Мы ничего не понимаем в их переговорах, но сам старик понимает и передает нам какую-нибудь очередную новость.
Дивную пору лета проводить в тюрьме особенно тяжело. Да и вообще, когда и кому легко переносить тесноту, духоту, грязь, зловоние и неволю? Сыну привольных казахских степей оказаться в железных оковах, в тесной камере – тяжелее кромешного ада…
Сижу у решетки и гляжу на волю. Вижу вдали зеленую холмистую степь. Летний ветерок, как шелк, нежно овевает лицо. Я подставляю свою грудь ветру. Его дуновение целебно действует на истомленное тело. Быстрая мысль вырывается на свободу и несется куда-то вдаль, как сокол, вырвавшийся из неволи, оставляя темницу позади. Она витает над зеленой степью, над ковровым лугом, над бескрайним простором. Она в стремительном беге посещает безлюдные горы и дремучие леса, где звонко журчат ручьи. Она благоговейно внимает пенью птиц – многоголосому, мелодично нежному; она проходит вдоль берегов больших озер с белыми лебедями, мчится по речной глади, состязаясь с быстротой ее извилистого течения, проносится по аулам и снова уходит в безлюдную бескрайнюю степь…
Сижу у решетки… Вон идет незнакомый казах и гонит вола, запряженного в рыдван. Они идут из той, дальней степи. Вол не торопится, медленно тащит рыдван, груженный кизяком. И казах не торопится. Вот он безмятежно глянул на окна тюрьмы и ленивым движением ткнул вола. Опустив голову, вол бредет прежним шагом. Колеса рыдвана скрипят, медленно вертятся с глухим, подавленным стоном… Где ты, чудесная свобода?.. Кто знает твою подлинную цену, кроме заключенных в темницу? Этот невзрачный казах во сто крат счастливее нас – он на свободе, хотя и участь незавидная – возить на рыдване кизяк. Эх, свобода, нет ничего прекраснее тебя!
Казах прошел, погоняя вола…
А за ним не спеша, ведя за собой цугом птенцов, появилась белая гусыня. Отяжелевшая от жира, изогнув длинную шею, она покачивает клювом и спокойно, важно вышагивает. Она о чем-то ласково гогочет птенцам. Совсем недавно они вылупились на белый свет, малюсенькие, желторотые, идут, растопырив лапки, барахтаются, торопятся за матерью. На ласковый зов ее отвечают тоненьким писком. Гусыня оглядывается, беспокоится о птенцах и не спеша продолжает вести их на лужайку, в низину.
Вот она, красота свободы! Вот оно, дивное лето!
Белая гусыня с птенцами остановилась на лужайке…
Вот появилась откуда-то молодая девушка-казашка. Еще издали она пристально смотрит на тюремные окна. Она видит меня за решеткой и останавливает на мне свой взгляд. Глаза ее блестят, словно черносливы. Ей лет пятнадцать, она тонкая, стройная, среднего роста. На ней белое платье с двумя оборками на подоле, на голове шапка из черного бархата. Густые, атласно-черные волосы заплетены в две косы, а в кончики вплетены ленты из красного шелка. Неторопливо шагая, она приблизилась к окну… Смотрит на часовых… Шаги ее совсем замедлились. Остановилась, оглянулась назад, будто дожидаясь кого-то. Потом тоскливо посмотрела на меня в упор, не смогла долго стоять и пошла дальше. Ее проникновенный взгляд словно пытался разделить мое горе. Она мне показалась родной сестрой с чувствительным добрым сердцем. Чистый взор ее успокоил мою печальную душу. О моя сестра, с чутким сердцем, с гибким, как лоза, станом! Зачем так пристально и печально ты смотришь на меня? Твой взгляд подобен ласточке, которая брызгает воду крыльями, чтобы потушить пожар. Спасибо тебе!
Через день ты подходишь снова и все время упорно глядишь. Кто ты? Чья дочь? За кого принимаешь нас? За великих преступников, негодяев, развратников, за врагов своего народа и родины? Ты смотришь на нас с осуждением или с сожалением? О моя сестра с отзывчивым сердцем! Чьей бы ты ни была – великое тебе спасибо!
Эта девушка много раз проходила мимо тюремных окон. Но близко подходить не решалась, не хватало смелости. Чья она дочь, мы не знали, но лицо ее стало мне казаться хорошо знакомым, родным. Я привык настолько к ее посещениям, что если не видел ее два дня, начинал тосковать.
Поет ли жаворонок перед железной решеткой, заглянет ли солнце в холодную, сырую камеру, проникнет ли шелковистое дуновение ветерка с ароматом зеленой степи – все становится целебной силой для израненной души заключенного. И незнакомая девушка казалась мне всемогущим лекарством. Она тоже привыкла видеть мое лицо, стала здороваться со мной легким движением головы.
Однажды по тюрьме разнесся зловещий слух о том, что кого-то из нас должны расстрелять. Товарищи в камере замолчали, погрузились в скорбные размышления. У каждого кандалы на руках или на ногах. Обессиленные, мы безжизненным, безразличным взглядом смотрели в одну точку. Мимолетно я глянул за решетку. Вижу – идет она. В белом платье с оборками на подоле. В косах ленты из красного шелка. Идет не спеша и смотрит в наше окно. Как рукой сняло щемящую душу печаль, черный туман исчез, жизнь прояснилась.
Звеня кандалами, я подскочил к решетке. Товарищи встрепенулись, будто избавившись от кошмарного сна, с холодным недоумением глянули на меня.
– Что случилось? В чем дело? – резко спросил кто-то.
– Вот идет моя сестра! – спокойно ответил я. Одни продолжали удивленно смотреть на меня, другие с облегчением выругались: «Тьфу, язви тебя!..»
Однажды мы услышали, что прежний начальник гарнизона снят и на его место прибыл новый. На другой день во главе с Сербовым и начальником тюрьмы, поблескивая погонами и звеня шпорами, вошла в нашу камеру группа офицеров. Со скрипом открыв дверь, первым перешагнул порог начальник тюрьмы и громко скомандовал: «Встать!» Офицеры с винтовками и саблями заполнили камеру. Все они подобострастно, как охотничьи псы, смотрели на молодого начальника с выпученными глазами, в шапке набекрень, как у гуляки, у подзаборного пьяницы. На поясе у него наган, на боку сабля, в руке короткая плеть. Войдя в камеру, он остановился, раскорячив ноги.
– Тут большинство казахи? – удивленно заметил он. Сербов начал расписывать наши «заслуги», ехидно, с толком, с чувством, с расстановкой перечисляя должности и чины каждого из нас в отдельности…
Вновь назначенный начальник гарнизона Гончаров прибыл из Петропавловска.
Новое акмолинское начальство шумно гуляло днем и ночью, без конца пьянствовало.
До нас дошли слухи о расстреле многих наших товарищей в Омске, в Петропавловске и Кокчетаве. Без суда расстреливали лишь в первые, самые горячие дни. Теперь стало известно, что в Акмолинске будут расстреливать по суду.
Заключенные стали привыкать к слову «расстрел». Надежды на свободу не было. Нас начали сортировать. Человек семьдесят-восемьдесят «самых красных» оставили здесь, не стали вызывать на допрос, а другую группу, около шестидесяти заключенных, отправили в Петропавловск. Вместе с ними отправили этапом товарища Калегаева, который прибыл к нам из Омска за два-три дня до падения совдепа и попал в тюрьму.
Иногда до нас доходили утешительные слухи о том, что «белые обессилены, красные наступают, жмут, гонят по пятам!» Удостовериться невозможно, сидим и гадаем. «В конечном итоге победят красные, в этом нет сомнения, но мы так и не увидим победы», – сожалели в камерах.
Товарищи похудели, осунулись. Сидим на воде и недопеченном ржаном хлебе. Мы не похудели бы и от такого пайка, если бы не бесчеловечные издевательства каждодневных посетителей-начальников. Тяжелые думы, железные кандалы, ежедневные вести о новых расстрелах, спертый воздух и каменный пол тюрьмы – вот что нас мучило.
Силы наши убывали день ото дня, и все реже поднимается настроение. Наши люди размещены во всех камерах; только в одной, с открытой дверью сидят казахи за кражу. Ежедневно наших товарищей выводят в огороженный тюремный двор на прогулку на десять-пятнадцать минут. В такие моменты звон кандалов отдается эхом по всей тюрьме.
Однажды вывели на прогулку и нашу камеру. В ограде стояли вооруженные часовые. Окна четырех-пяти камер выходили в ограду, и товарищи смотрели на нас сквозь решетку. Некоторые, еще сильные духом, здороваются, подбадривающе кивают. Другие хмуро, безнадежно покачивают головами.
Закованные в кандалы в оцепленной часовыми ограде мы ходим взад и вперед, как обложенные волки. Тот день был особенно печальным. Мы увидели в окне за решеткой скорбные глаза нашего товарища – Кондратьевой. Держась за железную решетку, опершись на нее подбородком, она затянула заунывную песню невольника. Голос у нее красивый, задушевный, мне он напомнил звук кобыза. По лицу этой замечательной женщины медленно текут слезы:
«…Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить», – пела она.
Товарищ Богомолов, заключенный из нашей камеры, по природе чувствительный, мягкого характера человек, поэт, остановился, прислонился к столбу с фонарем и тихо заплакал…
Однажды в нашу камеру сумел заглянуть один из тех, кто сидел за воровство. Он принес нам охапку только что скошенного, свежего сена.
«Сегодня меня водили на работу, там я захватил вот эту охапку для вашей постели», – сказал казах, бросая нам сено.
Нашей радости не было границ. Мы начали обнимать пахучее сено, с наслаждением нюхали его, хватались за него, как дети, соскучившиеся по матери. Растроганный Баймагамбет (Жайнаков) долго гладил сено, нюхал и с радостью прижимал к груди. В эти минуты особенно остро хотелось выйти на свободу, в благоухающую летнюю степь…
Моя сестра проходит мимо тюремных окон раз в три дня. Она кивает мне – здоровается. Наискось, на лужайку, приходит каждый день белая гусыня, ведя за собой птенцов. Малюсенькие, желторотые, они растут с каждым днем.
В безрадостном однообразии тюремной жизни изредка происходили забавные случаи… Как я уже сказал, кормили нас сырой водой и ржаным хлебом, поэтому каждый, естественно, жаждал лучшей еды. Мы, казахи, по привычке мечтали о мясе и кумысе. Казалось, если бы нам показали вкусную конскую колбасу – казы, то мы помчались бы за ней на край света. С воли передачи не принимают, следят зорко, но, как говорится в народе: «Того, кто следит, всегда побеждает тот, кто берет». Урывками в камеру попадают куски копченой казы, но не каждый день, а изредка, в дни, когда среди надзирателей появляются люди, нам сочувствующие. Завернутая в тряпицу колбаса длиною в вершок просовывается через волчок и со стуком падает на пол. Стоящий наготове Хусаин (Кожамберлин), словно кумай[48]48
Кумай – быстроногий сказочный пес, от которого никто не может улизнуть, якобы рожденный от скрещивания дикого гуся и гончей.
[Закрыть], ловит ее на лету. В тот день, когда перед нашим окном проходит молодая жена Хусаина и дает знать о передаче, Хусаин не сводит с волчка глаз. А мы в свою очередь следим за Хусаином и задыхаемся от вожделения, словно голодные беркуты при виде жертвы.




