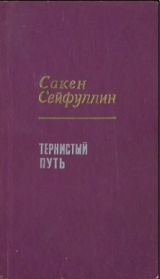
Текст книги "Тернистый путь"
Автор книги: Сакен Сейфуллин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Конвоиры высадили по двое заключенных из каждого вагона и повели их к машинисту. Вернулись они с охапками дров и второй раз пошли к паровозу уже поживее, порасторопнее. Паровоз продолжал стоять, видно, машинист попался добрый.
Несколько раз сбегали наши товарищи за дровами.
– Нам удалось поговорить с машинистом, – сообщил Шафран, как только вернулся к нам. – Мы объяснили, кто мы такие, за что сидим, а он ругнул белогвардейцев и говорит: «Крепитесь, товарищи, скоро придет конец этим собакам! Весь народ ненавидит их!»
Вот так понемногу узнавали мы новости то от случайного машиниста, то из газет, а иногда и часовой попадется такой, что не прочь поделиться очередной новостью.
Ободряет нас то, что народ распознал колчаковскую власть. Ждем лучших дней, терпим мучения, надеемся, что хуже не будет. Вагоны по-прежнему стоят в глухом безлюдном тупике. Мы писали товарищам, где нас искать, но от них ни слуху ни духу. С каждым днем становилось все труднее. Кончились вещи, которые разрешалось продать. Одежду не разрешали. Да и все равно продать ее некому. Неоткуда теперь пополнить наш скудный паек. Изголодавшиеся товарищи совсем ослабели.
Вскоре не стало с нами Павлова. Умер он спокойно, недолго мучился и только в последний день стонал. Мы как могли ухаживали за ним. Доблестный мужественный человек ушел от нас навеки. На душе стало еще тяжелее.
Дней через шестнадцать с момента нашего прибытия в Омск зашел в вагон в сопровождении десяти солдат молодой офицер – среднего роста с правильными чертами лица, светловолосый, в форме анненковца.
Достал бумагу, карандаш из изящной кожаной сумки, висящей на боку, и сказал:
– Я буду называть ваши фамилии, а вы откликайтесь.
Стоявшие поближе к нему старались заглянуть в бумагу, пока он проверял всех по списку.
– Сегодня вас отправляют. Все лишние вещи оставьте здесь! – приказал офицер.
– Куда отправляют?
– По приезде узнаете. А сейчас каждый пусть выложит свои вещи для проверки!
Офицер снова начал по одному вызывать, каждый из нас подходил и разворачивал свои вещи и постель. Он рассматривал и со словами «это лишнее» откладывал в сторону что поценнее. Отобрал несколько часов и обручальных колец. У меня забрал казахскую шубу, которая принадлежала Бакену, но носил ее я. Офицер знаком подзывал солдата, кивал ему подбородком, и тот откладывал отобранное отдельно.
Посещение офицера значительно нас «облегчило». На мне осталось две рубашки и семинарская тужурка. Поверх был поношенный казахский бешмет на истертой хорьковой подкладке. Хорошо, что офицер не стянул с меня штаны из бараньей шкуры, сапоги и английскую вязаную шапку.
Забрав все вещи, офицер ушел.
Мы начали гадать, в какую сторону отправят? Не то Шафран, не то Трофимов краем глаза успели прочесть в руках офицера предписание направить нас в распоряжение штаба какого-то степного корпуса.
– Что за степной корпус? Где он находится? К кому повезут – к Анненкову? Или в штаб атамана Семенова? К какому-нибудь другому генералу?
Все чувствовали, что дело принимает весьма серьезный оборот. Передадут в штаб, а там военно-полевой суд и расстрел. Других предположений нет.
Наступил вечер. Я выглянул через широкую щель посмотреть, что делается на станции. Сегодня облачно и день не очень холодный. Направо, на путях, что-то делают двое рабочих. Кроме них, никого. Как всегда слышится вокзальный гомон, пыхтение паровозов. Переговариваются сцепщики, кто-то спорит. Доносится лязг буферов. В безветрии медленно падают крупные снежинки.
Зажглись электрические лампочки. Стали видны то там, то здесь красные и зеленые фонари. Путейцы звонко пересвистываются, сигналят друг другу огнями. С грохотом пронесся мимо нас поезд в сторону Сибири. Потом, сотрясая землю, с грохотом прошел мимо нас еще один состав и тоже в сторону Сибири.
Я долго и пристально наблюдал шумную вокзальную жизнь, совершенно не похожую на темные и суровые наши дни. Мне показалось, что жизнь по-настоящему я оценил только сегодня…
Подбрасывая полешки в печку, мы засиделись до глубокой ночи. Тяжело болен Дризге, тает с каждым часом. Смерть Павлова, состояние Дризге, неизвестность – все это действует угнетающе.
Одни лежа, другие сидя безмолвно наблюдают за угасающим пламенем печки. Стены вагона плачут. С улицы доносится завывание урагана.
В полночь послышались шаги. Они приблизились к нашему вагону. Часовой о чем-то спросил, и шаги удалились. Мы ко всему прислушиваемся.
Несколько минут спустя подогнали к нашим вагонам паровоз, прицепили и потянули на другое место. Все проснулись, вслушиваются. Вагон отцепили. Потом снова прицепили, перетаскивали несколько раз и наконец после долгого маневрирования мы оказались в составе какого-то поезда.
Мчится поезд, но мне не спится, я гляжу через щели во мглу.
Все окутано непроглядной ночной тьмой. Ураган со свистом слизывает снег с полей, кружит его и с силой обрушивает на вагоны.
Стучат колеса.
На рассвете на одной из остановок вывели всех на прогулку. Мы увидели, как из второго вагона вели под руки Хафиза, с одной стороны Баймагамбет, с другой – русский товарищ.
– Что случилось? Заболел? – бросились мы к ним.
– Тяжело ему было, всю ночь метался в горячке. Сейчас немного поправился, но не может еще прийти в себя, – еле слышно проговорил Баймагамбет.
Когда загоняли нас обратно, в наш вагон незаметно пробрался товарищ из второго вагона Панкратов и рассказал:
– Ночью, как только мы выехали из Омска, произошел у нас необыкновенный случай. Все сидели молча, как всегда. Никто не обращал внимания на то, что Хафиз, скорчившись, отвернулся к стенке. Вдруг он приподнял голову и попросил у Баймагамбета перочинный нож. Тот не дал, сказав, что далеко спрятан, неохота доставать. Хафиз, ни слова не говоря, лег и опять отвернулся к стенке. Спустя некоторое время послышались из его угла стоны и бормотанье по-казахски. Баймагамбет рванулся к нему, приподнял и закричал: «Скорей сюда, он хочет убить себя!» Все вскочили, окружили Хафиза. Он хотел вскрыть себе вену гвоздем, но перерезал только мышцы на локте. Из раны текла кровь. Мы перевязали рану, успокоили его, приободрили, поругали за малодушие. Он лежал и плакал, потом как будто успокоился, и мы разошлись по местам. Вдруг он в бешенстве подскочил к двери и начал бить в нее ногами, страшно кричать. С трудом мы оттолкнули его, но он отчаянно вырывался, все угрожал кому-то, никого не хотел слушать, пока не потерял сознание. Долго метался в бреду и умолял: «Братья! Дайте умереть самому, а не от рук этих палачей! Я сломаю дверь! Кончилось мое терпение». Во время остановки он снова бросился к двери, с остервенением начал ругать караульных. Снаружи послышался голос часового. Открылась дверь, и появился офицер с конвоирами и заорал: «В чем дело?» Хафиз не унимался. Бранил офицера, Колчака и колчаковскую власть. Офицер побелел от бешенства и выхватил саблю. Мы начали успокаивать офицера, мол, Хафиз больной, простите его, он в бреду. Но Хафиз не отставал от офицера и начал его умолять: «Если ты человек, не пожалей пули, застрели меня»…
Офицер ушел, а Хафиза мы продолжали держать, он только на рассвете успокоился. Вот такие-то дела, друзья, – закончил свой рассказ Панкратов.
– А какие в вашем вагоне разговоры насчет нашей дальнейшей судьбы? – спросил кто-то.
– К атаману Семенову повезут или к атаману Анненкову, один конец. Наша песня спета… – Панкратов замолчал.
– К сожалению, так же и мы думаем, – с грустью признался кто-то.
– Да-а, не вытерпел бедняга Хафиз!..
А поезд мчится с грохотом через бескрайнюю белоснежную равнину, увозя нас на восток, в глубь Сибири. Метель не успокаивается. Из глубокого снега торчат березы, раскачиваются под ветром их верхушки, будто кланяются нам.
Положение в вагоне стало еще хуже, чем было в Омске. Хлеба стали выдавать по четверти фунта на каждого, да и воды не всегда вдоволь. Дрова мы выпрашиваем у машинистов встречных паровозов на остановках. Но чаще нам дают не дрова, а мелкий каменный уголь. Мелкой золой мы засыпаем пол, чтобы впитывалась вода. От тепла, кажется, и есть меньше хочется, будто огнем питаемся. Но скоро от жары одолевает жажда, приходится на остановках просить воды у конвоиров. А они не всегда выполняют нашу просьбу. Лица у всех черные от угольной пыли, глаза впали, не люди – а кожа да кости. Утром, когда выводят на оправку, мы торопливо умываемся снегом, лица от такого умывания становятся полосато-грязными.
Нары все пошли на топку. Остались только те доски, на которых лежат больные. А число их с каждым днем увеличивается… Особенно плохо чувствует себя Дризге. Голод мучил всех, но прежде всего мы старались хоть чуть-чуть накормить больных…
Время за полночь… У раскаленной докрасна печки остались сидеть четверо – Шафран, Катченко, Ананченко и Котов. Я подсел к ним.
– Если не умрем здесь, там все равно расстреляют, – произнес Шафран.
– Если бы они хотели судить нас, то оставили бы в омской тюрьме. Зачем везти в другое место? Ясно – прикончить!
– Надо бежать. Иного выхода нет. Тогда хоть кто-нибудь из нас останется жить, – продолжал Шафран. – Надо на ходу выпрыгивать из вагона.
Товарищи поддержали, а я промолчал.
– Но вагоны-то закрыты и инструментов нет, чтобы открыть, – заговорил Катченко. – Как прыгать? Голыми руками дверь не выломаешь. А часовые и на ходу следят. Если заметят одного, все погибнем.
– А если расширить дыру, в которую выходит печная труба? – сказал Котов.
Каждый предлагал свой план. Неожиданно Шафран встал.
– Проще выскочить в окно, только нужно открыть ставень, – уверенно проговорил он и подошел к окну.
Недолго повозившись, он открыл ставень и обернулся к нам. Мы застыли на местах, глядя на открывшийся ставень и на самого Шафрана – что он будет делать? Шафран осторожно высунул голову в окно посмотреть на вагон караульных. Раздался выстрел. Шафран моментально отдернул голову и поспешно закрыл ставень.
– Сукины сыны, следят. Целился прямо в голову, сволочь! – выругался он. – Даже ночью следят.
Прошла ночь. На одной из остановок удалось достать немного хлеба и воды, заморить «червячка».
День прошел как обычно. Вечерело. Все сидят около печки.
Вдруг Нестор Монин поднялся на нарах и закричал:
– Товарищи! Колчак сбежал! Только что проехал генерал Гайда!
Все оглянулись на него с изумлением. Куда сбежал Колчак? Где Гайда?
– Что ты там мелешь чепуху?
Имя Гайды, чехословацкого генерала, мы знали по газетам. Он командовал фронтом против армии Советов.
Мы уложили Монина на нары, поняли, что он тяжело заболел. Но Монин вскоре опять вскочил, закричал:
– Да здравствует Советская Социалистическая Федеративная республика!
…В вагоне душно. Руки, ноги словно скованы железом. От черной немой беды, охватившей все наше существо, не хочется шевелиться. Все кажется кошмарным сном… На полустанках наши вагоны отцепляют, прицепляют к другому поезду и снова тащат.
Во втором вагоне дела не лучше наших. Там умирает Хафиз, появились другие больные.
Навстречу нам стали часто попадаться поезда с новобранцами из крестьян. Плохо одетые, они кричат и галдят, будто пьяные. Доносятся пение, ругань, иногда слышатся слезливые причитания. Там, в вагонах, тоже неволя. Нас везут на восток – к смерти, их на запад – тоже к смерти. Черный ее приговор обжалованию не подлежит!..
Прибыли в Ново-Николаевск.[66]66
Ново-Николаевск – ныне Новосибирск.
[Закрыть] Вагоны наши отцепили и снова загнали в глухой тупик. Вывели на прогулку. Мы кое-как умылись снегом, от въевшегося угля лица стали полосато-черными, только глаза поблескивают и белеют зубы.
К вечеру увели шестерых за дровами. Мы попросили часовых оставить дверь открытой. Кто еще держался на ногах, столпились возле нее. Глазеем на прохожих.
Вскоре появился офицер – какой-то начальник наших конвоиров, с ним еще несколько военных, одетых с иголочки, с шиком – в начищенных сапогах со звенящими шпорами, на рукавах нашивки золотой тесьмой, вооружены шашками и револьверами. У одного из них – блондина высокого роста – на рукавах и фуражке нашивки с человеческим черепом.
– Есть среди вас оренбургские? – спросил один из пришельцев.
– Нет, мы все акмолинские, – последовал ответ.
– Кажется, совдеповцы? – спросил пухлощекий мальчишка-прапорщик.
– Да.
– Ишь, свободы захотели, сволочи! – ехидно заметил мальчишка.
Мы молчали. Офицеры вскоре ушли.
Из Ново-Николаевска нас повезли в Барнаул. Становилось ясным, везут нас в Семипалатинск к атаману Анненкову, в тот самый «штаб степного корпуса».
Поезд теперь шел медленно, с остановками. На разъездах подолгу ждали встречных поездов. Обессилев, мы уже не могли говорить. В вагонах воцарилось гробовое молчание.
Скончался товарищ Дризге. Он, как и Павлов, терпеливо и молча переносил страдания, умер спокойно. У Павлова осталась жена и четверо или пятеро детей. Он был в совдепе комиссаром финансов, стойкий, выдержанный, широко образованный человек. О Дризге мы знали мало. В Акмолинск он приехал из Омска и был у нас председателем ревтрибунала. Это был смелый, непоколебимый в убеждениях человек.
Мы сообщили часовым о смерти товарища. Конвой открыл двери. Приказали вынести труп. Оказалось, что к нашим вагонам был прицеплен еще один порожний вагон, специально предназначенный для покойников. Бывалые колчаковские убийцы оказались предусмотрительными. Когда выносили тело товарища Дризге, мы сдавленными от гнева и скорби голосами медленно пели «Замучен тяжелой неволей…»
За Дризге последовал Монин. Он болел тяжело и мучительно боролся со смертью. Ярость тугим узлом стягивалась в нашей груди. Покойного отнесли в вагон, где нашел свое место Дризге. Когда выносили труп, Яков Монин – брат умершего, не выдержал, ухватился за покойного и начал всхлипывать как ребенок. Я первым на него напустился:
– Сейчас не время для слез! Встань! Он не только твой брат!
Яков понемногу успокоился.
Монин родился в Акмолинске, был солдатом, после свержения царя одним из первых поднял знамя Советов в Акмолинске и стал красным командиром. Он добросовестно работал вместе с Кривогузом. Был грамотным, смелым, боевым членом президиума нашего совдепа, комиссаром по делам контрибуций. В Акмолинске у него остались старики – отец с матерью – и молодая жена…
Проехали Барнаул. Купили там около фунта масла и хлеба, подкрепились. Но голодным и изможденным поможет ли такая пища? Лучший кусок мы отдавали больным. Свежую воду, которую доставали с перебоями, мы, несмотря на сильную жажду, тоже берегли для больных.
В нашем вагоне особенно тяжело болели матрос Авдеев и товарищ Мелокумов. В другом вагоне скончались двое – Мартынов и Пьянковский, оба акмолинские, Мартынов – рабочий Спасского завода, Пьянковский – горожанин, кузнец, поляк по национальности. Оба – члены совдепа. Пьянковский был комиссаром труда. У обоих в Акмолинске остались жены и дети. Перед смертью Пьянковский пел «Марсельезу». Поляк с лирической романтической душой, даже умирая, пел…
Когда проезжали Барнаулский уезд, наше положение заметно улучшилось, только по-прежнему омрачала настроение смерть товарищей.
«Батыры» атамана нарочно хотели заморить нас голодом, это было понятно по тому покойницкому вагону, который нам добавили. Не говоря о других продуктах, ни даже хлеба для нас не запасли. Вдобавок на многих станциях совсем не оказывалось никакой еды. Изредка можно было увидеть крестьянку с буханкой хлеба, а других продуктов совсем не было. Вся беда в том, что, во-первых, продуктов недостаточно у самих крестьян, а во-вторых, они ничего не хотели продавать на колчаковские деньги. Да к тому же местное население вообще страшилось колчаковцев.
На одном из полустанков наш состав задержался долго. Верстах в пяти от железной дороги виднелся поселок. Четыре конвоира где-то достали пару лошадей, запряженных в сани, взяли с собой по одному арестанту из каждого вагона и поехали в поселок… Вернулись с хлебом. Большую часть забрали себе, остальное разделили на два вагона.
Как было дело? Ворвавшись в поселок, атаманцы потребовали хлеба. «Сами сидим голодными», – ответили крестьяне. Солдаты побывали в каждом доме, ни у кого хлеба не оказалось. Улучив момент, один из наших товарищей потихоньку шепнул крестьянину, для кого хлеб. Крестьянин с досадой заметил: «Почему ты об этом давеча не сказал, мы ведь не знали вас!» Положение сразу изменилось, крестьяне моментально натащили хлеба. Они усердно собирали все, что можно было, до последней крошки, пока солдаты атамана не сказали: «Хватит, некогда, поезд ждет».
На станциях Барнаулского уезда нашим товарищам, которые ходили за хлебом и табаком, иногда удавалось захватить газету на русском языке – «Алтайский луч». Ее материалы отличались от омских газет, держалась она более или менее против Колчака, видимо, ее издавали эсеры. Из этой газеты мы узнали немало новостей.
«…Президент Америки Вильсон для сохранения спокойствия в Европе созывает конференцию на Принцевых островах. На этой конференции будет обсуждаться вопрос о водворении мира в России. На конференцию приглашаются от России вместе с другими также представители большевистского правительства».
Газета сообщает, что Колчак якобы ответил: «Если будут приглашены представители большевиков, мы отказываемся от участия в конференции».
В газете писалось о том, что в России эсеры и меньшевики, договорившись с большевиками, намерены объединиться и выступить против Колчака. По этому поводу руководитель эсеров Чернов выпустил воззвание: восстать всей Россией против Колчака! После объединения с эсерами и меньшевиками большевики согласились созвать учредительное собрание.
Это сообщение газеты приободрило наших товарищей, особенно левого эсера Трофимова.
– Ничего, Сейфуллин, теперь будет хорошо! Теперь будет хорошо! – несколько раз обрадовано сказал он.
По сведениям газеты, все рабочие железной дороги Сибири, все крестьяне и кооперативные объединения настроены против Колчака.
В достоверности этих сведений мы не раз убеждались сами.
– Теперь долго не протянешь, гад! – все чаще слышалось в нашем вагоне.
– Сообщалось, что в Алтайской губернии крестьяне подняли бунт против Колчака, но неудачно. Были силой подавлены. Руководители восставших скрылись в Алтайских горах.
В барнаулском губернском правлении кооперации колчаковцы произвели обыск и посадили в тюрьму руководителей правления. Колчак не раз запрещал алтайскую газету, не раз накладывал штрафы и привлекал к ответственности редактора.
Но запрещенная газета продолжала выходить под другим заголовком. Одно время ее называли «Зарей Алтая». Потом переименовали в «Новую зарю Алтая» и, наконец, она стала «Алтайским лучом». Все эти данные сообщала сама же газета.
Но когда мы стали приближаться к Семипалатинску, наше положение ухудшилось. Опять без хлеба, опять вода не каждый день.
Когда нас выводили, мы набирали снегу в мешок, в котором держали каменный уголь. Снег таял у печки, и мы пили эту грязную жижу. Но даже и снега конвойные солдаты не давали набрать побольше… Несколько дней подряд бушевал буран. Поезд подолгу стоял, как будто машинисты нарочно медлили, старались оттянуть час нашей смерти.
Авдеев плох. Он весь дрожит, едва встает на ноги. Как-то раз он хотел подойти к двери, но его схватила судорога, и матрос беспомощно остановился. Он раскачивался из стороны в сторону, хотя поезд стоял. Страшно было глядеть на него. Впрочем, любой из нас имел вид не лучше. Угольная пыль впиталась в поры, на лице видны только одни глаза. Пыль в ноздрях, в ушах, во рту.
Все ждут, чтобы привезли скорее, хоть куда. Но поезд не торопится. Разбушевавшийся буран не дает ходу. Мы изнемогаем, ждем. Самым выносливым среди нас оказался товарищ Катченко. По всем нуждам – за табаком, дровами, за водой и хлебом ходил всегда он, словом, Катченко был нашим старостой. Мужественный украинец, он с достоинством представлял свою нацию.
На одной из остановок стонущий Авдеев попросил:
– Катченко, достань стакан молока… Если достанешь, я не умру, жизнью тебя прошу!..
У Катченко на глаза навернулись слезы. Вместе с конвоиром он отправился на станцию и спустя полчаса появился со стаканом молока. Быстро вскипятили его на печке и подали Авдееву.
Мы все верили, что это молоко помогло Авдееву остаться живым. Не отходила от матроса товарищ Кондратьева, единственная женщина среди нас. Днем и ночью она ухаживала за больным.
Долго мы добирались от Барнаула до Семипалатинска. Иссохшим, бледным, окончательно «дошедшим», нам перестали выдавать воду. Не разрешали снега вдоволь набирать. Иногда раз, иногда два раза в день выводили на прогулку, во время которой второпях мы хватали куски льда и снега. Талую воду в первую очередь отдавали больным, а остаток, иногда по стакану, даже по полстакана делили между здоровыми. Человек терпит голод дольше, чем жажду. Только сейчас, в этом вагоне, я узнал, что вода – самое дорогое на свете. «Эх! Где же вы, журчащие горные ключи и ручьи, через которые я не раз шагал равнодушно?»– невольно думалось мне.
Прибыли в Семипалатинск на рассвете. Наши вагоны отцепили на товарной станции. Мы достали воды, напились, облегченно вздохнули. В двух верстах от нас виден город. Солнце взошло, нас вывели из вагона и не торопили, как обычно, а дали возможность умыться снегом.
Куда ни глянь, всюду толстый слой пушистого снега. Семипалатинск напоминает большой многолюдный поселок. День теплый. На небе ни облачка. Чистый белый снег в лучах солнца переливается, играет. На товарной станции несколько казахов грузят на сани бараньи туши.
Начальник конвоя с двумя солдатами отправился в город. Оставшиеся конвоиры достали нам немного хлеба: Что ожидает нас в этом городе, неизвестно, но мы на все согласны, лишь бы избавиться от вагонов мученья.
Весь день мы с надеждой наблюдали за станцией и ждали новостей. Вечером к нам в вагон вошел офицер.
– Ну, поедем обратно. Сегодня вечером отправляемся, – сообщил он.
– Почему обратно?! Куда?!
Нашему удивлению, злости, возмущению не было конца.
– Приказано везти обратно. Больше ничего неизвестно, – ответил офицер.
И снова закрылись двери вагона. Зачем привезли сюда? Почему возвращают обратно? Куда еще повезут?
– Очевидно, в самом Семипалатинске положение плохое. Поэтому нас и не принимают. Теперь до самой смерти будут возить нас в этих вагонах, – рассуждали мы. – Они нарочно везли нас в Семипалатинск, чтобы заморить голодом по пути. А теперь, раз мы выдержали, повезут обратно, в глухую тюрьму Сибири.
Никто ничего не знал. Ночью выехали из Семипалатинска.
И опять долгие нудные остановки, вялый медленный перестук колес. Разыгрался буран, и поезд совсем остановился. Дорогу занесло снегом. Людей не слышно. Оказалось, что нас прицепили к товарному составу.
Двигаемся со скоростью лошадиного шага. Подолгу стоим. Проехали всего двадцать пять верст за день. Буран бушевал подряд три дня. Три дня мы не видели хлеба, а вода появлялась изредка…
Когда буран прекратился, поезд задержали заносы. Вот уже четвертый день нет хлеба, нет и воды. Голодные арестанты сидели взъерошенные, словно голодные львы. Огня в глазах стало меньше, зато ярости – больше.
– Нет уж, чем умирать по одному, пусть лучше перестреляют всех сразу! Надо стучать в дверь, просить хлеба и воды! – предложил кто-то.
– Правильно! – подхватили разом. На ближайшей остановке начали колотить ногами в дверь.
Конвойный с остервенением отозвался:
– Какого черта надо?
Мы потребовали хлеба и воды.
– Нет! – отрезал конвоир.
– Выпусти нас хоть за снегом!
Конвоир выругался. Мы снова стали бить ногами в дверь.
– Эй! Не стучите, начну стрелять! – предупредил конвойный.
– Стреляй! – закричали мы разом. – Или открой дверь и дай нам набрать снегу!
Пришел начальник конвоя, открыл дверь, разрешил набрать снега. Мы наполнили мешок и ведро. Нетерпеливый конвойный начал торопить нас. Товарищ Афанасьев сказал:
– Подождите, наберем и зайдем.
Солдат закричал на него. Разозленный Афанасьев не двинулся с места. Конвоир начал вызывать других солдат, сидящих в вагоне:
– Выходи! Они хотят бунтовать! – Повернувшись к нам, он крикнул – Перестреляю всех! – и щелкнул затвором.
Афанасьев впился в него глазами.
– На, стреляй! – яростно крикнул он и стал перед солдатом. Тот не осмелился. Вышел начальник конвоя и уладил скандал.
Поезд тронулся, но вскоре опять остановился, и на этот раз конвоир сам открыл дверь и велел набрать снегу. Поезд простоял долго. Мимо нас несколько раз проходил паровоз. Машинист пристально разглядывал нас в открытые двери. Один из наших товарищей крикнул:
– Мы арестанты, большевики!.. Голодаем! Окажите помощь!..
Паровоз ушел и остановился в голове состава. Через некоторое время с него сошел человек в грязной черной тужурке и направился к нам. Подойдя к начальнику конвоя, он поговорил с ним и передал ему узелок.
Начальник конвоя принес узелок нам, в нем оказался хлеб.
– Вон тот человек передал, возьмите и разделите между собой! – сказал начальник, как будто мы и без него не знали, что делать.
Нашу радость невозможно было передать словами.
Мы радовались не столько хлебу, сколько тому, что вызвали у постороннего человека внимание к себе. Значит, он сочувствует нам, а не ненавидит нас, как все колчаковцы.
Заперли дверь, но скоро опять отперли, и конвоир сказал:
– Получайте хлеб!
Оказывается, тот же самый машинист пришел снова, держа под мышкой две буханки черного хлеба.
Высунув голову в двери, я долго глядел на него. Он два-три раза приветливо кивнул. Глаза его сочувственно блестели.
Назавтра прибыли в Барнаул.
Добившись разрешения начальника и собрав подходящую одежонку, Катченко отправился с конвоиром на вокзал. Вернулся с добычей – принес хлеба, колбасы, масла, табаку. Курильщики ринулись к табаку прежде, чем к еде. Я не раз удивлялся тому, что голодные изможденные люди дрожащими руками хватались не за масло и хлеб, а за папиросы, торопливо прикуривали, и после первой жадной затяжки на лбах у них выступали крупные капли пота. Они вдыхали весь дым в себя и, кажется, съедали его, не выпуская ничего обратно.
…По дороге от Барнаула до Ново-Николаевска умерли еще два товарища. Один из них – техник по мельницам Юрашевич (зять Кременского).
Мы не знали, куда теперь нас повезут из Ново-Николаевска. Но опасения рассеялись, когда мы поняли, что везут в Омск.
Опять загнали нас в один из глухих тупиков омского вокзала. Простояли там двое суток. На третий день товарищи, ходившие на вокзал за водой, рассказали:
– Какой-то хорошо одетый солидный гражданин встретил нас на вокзале, шел за нами до самого вагона. А потом повернул обратно.
– Наверно, простой обыватель, – заключили мы, – мало ли желающих посмотреть на арестантов.
– Нет, не может быть! Взгляд у него проницательный, он смотрел на нас по-особенному.
В полдень Катченко еще раз сходил за водой и, возвратившись, шепотом сообщил:
– Тот человек опять здесь! Вон там, за вагоном, посмотрите-ка!
Мы прильнули к щелям. Действительно, плотный человек выше среднего роста, блондин, прохаживался неподалеку то взад, то вперед как посторонний.
На следующий день возле наших вагонов появилась женщина с небольшим узлом в руках, простенько одетая. Двери вагона были открыты. Когда часовой стал запирать дверь на засов, нам под ноги неожиданно упал узел. Мы увидели, что женщина почти бегом удаляется от нас. Караульный солдат стоял и обалдело смотрел ей вслед. Мы быстро спрятали узелок. В нем оказались хлеб, колбаса и папиросы.
Тот, кто не бывал в таком же отчаянном положении, как наши, не поймет, что значила для нас даже самая маленькая помощь и поддержка!
На третий день мы наконец расстались с вагонами.
За свободу рабочего люда.
Мы окрасили кровью поля.
От орудий страшного гуда,
Содрогаясь, стонала земля.
Нас к земле беспощадно гнули,
Мы стремились упрямо ввысь.
От клинка, от полета пули
Целиком зависела жизнь.
Наши легкие дымом фабрик
Прокоптились уже давно.
От цепей вековечных рабьих
Сбита кожа у рук и ног.
Все познав – и нужду и беды,—
Мы дождались своей весны.
И не раз холод смерти изведав,
В жизнь мы дьявольски влюблены!
Те, кто злую мечту лелеял
Запугать нас, – в земле лежат.
…Кто еще угрожать нам смеет?
Каждый в нашей стране – солдат.[67]67
Из стихотворения С. Сейфуллина «Бiз» – «Мы» в переводе А. Скворцова.
[Закрыть]




