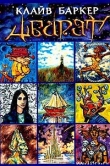Текст книги "Книга жизни"
Автор книги: Сабир Рустамханлы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Мои спутники рассказывают об археологических раскопках, которые ведут на горе Агры американские специалисты; в те дни в Турции говорили, будто они ищут на горе остатки Ноева ковчега.
На Памбыг-гедике, у дороги, расположено пять-шесть яйлагов. Щемящая близость трогает мне душу. Однако вокруг открывается странная, непривычная моему глазу картина: на наших яйлагах, знакомых мне с детства, зеленеют луга, журчат родники – на яйлагах Агры сплошные камни. Однако как только спускаешься к Догу Баязит, картина резко меняется; вокруг простирается плодородная зеленая долина, точно такая же как и в Игдире и Сурмали.
На Догу Баязит мы осматриваем дворец Исхак паши, построенный за 99 лет (1685-1784): как чудо он возвышается на горе. Дворец кажется нерукотворным, воздвигнутым самой природой. С трудом разбираем надпись, сделанную на дворцовых могилах арабским алфавитом:
Дом, добро, куда вы делись?
Где добра сего владелец?
Рухнет дом, добро уйдет.
Погости здесь в свой черед*.
______________ * Здесь и далее стихотворные фрагменты приводятся в переводе Сиявуша Мамедзаде.
Внизу, ниже дворца, сохранились остатки Дворца Баязита, руины каменных зданий, опустевших городских кварталов. Отсюда стены, башни баязитской крепости кажутся подвешенными в воздухе. "Чего бы мне это не стоило, я должен подняться на эти стены", – говорю я себе и начинаю карабкаться вверх. Зейналабдин также устремляется за мной – другие наши спутники не решаются.
Как же пройти между этими двойными стенами: в скале есть единственная расщелина, но по ней может пройти только худой человек. "Тряхнем-ка стариной", – говорю я, и с трудом, прижимаясь в расщелине к скале, протискиваюсь вверх. Зейналабдин остается на той стороне, безуспешно пытаясь удержать меня.
Взбираюсь на полуразрушенную башню, повисшую над пропастью, смотрю на панораму древнего города, величественной крепости, и слезы застилают мне глаза. Неужели передо мной крепость Баязит, крепость наших дастанов и сказок, крепость Хана Эйваза, удалого Кёроглу! Ничего не осталось, кроме дворца Исхак паши и прекрасной мечети. И еще стены, столь искусно выложенные вдоль естественных скал. Господи, откуда и как поднимался сюда легендарный Кёроглу на коне, птица с трудом доберется сюда. Стены крепости простираются вдаль, доходят до гребня и огибают его.
Внизу видны широкие долины и новый город Баязит без крепостей, без стен...
Неожиданно срывается сильный ветер, и от башен двойных крепостных стен, по которым крушит, петляет ветер, исходят странные звуки, исторгнутые от этих торчащих, чутких каменных мембран. В этих звуках слышится само время, сама вечность: кажется, возвратились духи наших предков, растворившиеся в этой земле и напоминают о себе гулом подспудной бури. На башне не на что опереться, не за что держаться. Кажется, будто ветер подхватит сейчас и меня, чтобы унести в эту пропасть, сомкнет с бесконечной глубиной веков. Что за наваждение? Медленно, осторожно возвращаюсь назад, точнее спускаюсь вниз по искрошенным высоким башням. Некуда зацепиться ногой. Ветер забивает глаза пылью...
Глубокие пещеры в скалах, величественные крепостные стены, неописуемая красота дворца Исхак паши, изящные каменные узоры, которые можно сравнить разве что с коврами (о золотых воротах этой крепости говорят как о легенде. Царские войска во время военного похода увезли их, как и знаменитые мраморные ворота и цепи Арзрумской джамии), простирающиеся вокруг развалины древнего города, позволяют представить себе былую славу и великолепие Баязита.
Из-под скал, в ущельях бьют родники; в развалинах крепости продолжается удивительная жизнь: то там, то здесь у родников видны группы людей. Приходят семьями, с друзьями, близкими не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы помянуть умерших предков.
В мавзолее Сейид Баба группа пожилых людей читает молитву. Среди этого безмолвия, этих безжизненных гор комплекс мавзолея с его журчащим родником, глубокими арыками, зелеными кущами кажется райским оазисом.
Мы расстаемся с Баязитом. Дорога ведет нас в Азербайджан. Нет, не в Советский, на этот раз в Южный Азербайджан... В Тебриз. Возникает на нашем пути маленькая Агры, но и она остается позади. Теперь мы смотрим на эту легендарную гору с Востока...
Никогда, ни по одной дороге я не возвращался с таким волнением, с такой беспомощностью, с такой безысходностью.
Все мы молчим. Молчание гнетет Ибрагима, он нажимает кнопку магнитофона и гобой Камиля Джалилова начинает свой плач, в ладе "Сейгях"; не разберешь, то ли он упрашивает, умоляет эти дороги-разлучницы, то ли поет колыбельную.
С разных сторон подходил я к Родине. Но везде путь мне преграждали или колючая проволока, или штыки.
Проезжаем мимо деревень. Справа село Гюр-булаг, слева Узун-язы...
Вот еще одни закрытые ворота Азербайджана. Заканчивается дорога Баязит. Начинается дорога Базирган. Колышутся навстречу друг другу два флага. Два разных флага. Над моей землей...
Всего через несколько часов, всего-то несколько часов... Мы могли бы быть в Тебризе. Стоит перемахнуть через возвышенность, и можно въехать в пограничный город Южного Азербайджана – Базирган...
Через день мы приехали в Аралыкский район, который тянется вдоль границы с Советским Союзом, пограничный с Нахичеванью. Машину веду я и медленно читаю названия сел: Сараджлы, Каракоюнлу, Дашбурун, Гёйчали, Байат, Гаджардоганшалы, Гадыгышлак, Сарычобан...
Вновь смотрим на Агры, теперь с противоположной стороны, с Шарура и видим – "с четырех сторон окружили его народы наши, тайна его скрыта в моем языке, моя гора Агры".
Теперь со стороны Агры, с Аралыка, смотрю на Шарур, на Нахичевань, на северный Азербайджан. И странно, впервые не ощущаю смятения... Впервые и эта граница, и проволочные заграждения представились мне как детская игра, как что-то придуманное, нереальное; ведь жители Аралыка говорят на таком чистом нахичеванском диалекте, что кажется, я у себя, в чайхане слышу наши знакомые шутки, а эти села в тополином пуху кажутся муганскими селами...
Так запечатлелась в моей памяти гора Агры, которую я объехал со всех сторон.
...Возвратимся к началу нашего разговора. Согласно мифам тюрки считаются прямыми потомками Адама, Ноя – потомками Яфеса.
Я живу в одной из самых первых обителей сына Адама и огонь, который я размешиваю, в сущности, огонь всемирный, и многие, многие народы пользуются теплом того же огня.
ПЕСНЯ О РОДИНЕ
В сердце каждого человека есть своя песня о Родине. Рано или поздно она прорвется и он пропоет ее. Песня эта может быть спета и в большом концертном салоне, и у скромного родника.
Разве вулкан сообщает кому-нибудь о времени своего извержения?
Вспоминаю я своих младших братишек, которые спозаранку по колено в росе, вслушиваясь в крики жаворонков, повисших в воздухе, бегут за своими ягнятами, разбредшимися по полю. Вспоминаю я милых моему сердцу сельских ребятишек, которые там и тут по холмам, в тени деревьев примостившись вдоль дорог, или у ворот своего двора, затаив дыхание, заворожено глазеют на проносящиеся мимо машины и поезда, уносящиеся в неведомый и притягательный для них большой мир.
Кто знает, может быть, в этот миг они и начинают петь свою песнь о Родине?
Самая великая песня – песня надежды, песня ожидания. Огромные, раскрытые навстречу бесконечному миру, черные, карие, голубые, божественные глаза наших маленьких сограждан говорят о звучащей в их душах, неведомой нам песне, – пусть наивной, но самой прекрасной в мире.
Эту песню пели и как боевой призыв, как громовой клич Кёроглу, пели сабельным звоном, пели родниковым шепотом любящей души, верностью женщины, верностью Нигяр, – подруги и соратницы Кёроглу...
Голос из истории: Во времена апогея арабского халифата великий азербайджанский полководец Бабек с 816 по 838 год своим небывалым, если говорить о соотношении противоборствующих сил, сопротивлением завоевателям поверг в изумление весь Восток. Арабские воины, готовые без колебаний лечь костьми во имя аллаха, пророка, ислама, не знавшие поражений, фанатически опьяненные своим предназначением, своей религиозной жертвенностью, готовые преодолевать любые препятствия, двадцать два года безуспешно пытались покорить Азербайджан, но вынуждены были отступить. Возможно в то время и родилась древняя арабская поговорка, не отдающая предпочтения ни одному из трех воинственных народов Востока: "араб не сможет противостоять турку, турок – византийцу, византиец – арабу". Возможно, поговорка эта возникла до Бабека и его побед, но во всяком случае в этих словах, сказанных самими арабами в период наивысшего подъема арабской империи, когда они любили кичиться своими военными доблестями, есть несомненное признание мужества предков азербайджанцев. Бабек и был выразителем этого мужества! Поговорка эта возникла в те времена, когда еще не произошла известная битва анатолийских турок и византийцев в Малой Азии. Константинополь еще не стал Стамбулом, турецкий меч еще не сокрушил до основания Византийскую империю. Представление о том, что тюрки не способны противостоять византийцам отголосок восточных триумфов Александра Македонского, включая его победы над туранцами. Почти тысяча пятьсот лет спустя новые поколения тюрок сумели взять реванш у потомков македонцев и представление о военном превосходстве византийцев стало анахронизмом.
Дела давно минувших лет... Вернемся к Бабеку, к песне о Бабеке.
Бабек, после смерти Джавидана, 22 года руководил начавшимся в 807 году движением хуррамитов и 22 года никто не мог их сломить. Арабские войска оказались бессильны перед этой горсткой хуррамитов и ало-красное знамя стало символом их несокрушимости. Во многом это определялось мужеством и полководческими способностями самого Бабека. Он сумел разбить шесть арабских армий, общей численностью в 500 тысяч человек и освобожденные земли возвратил крестьянам. Он освободил от арабов почти весь Южный Азербайджан и тем самым закрыл халифату дорогу на Восток. Бабек собирался заключить договор непосредственно с Византией... В Ленкорани мне показали небольшой, поросший лесом холм в нижнем ярусе горной гряды, которая тянется вдоль всего морского побережья, – сказали, что это крепость Бабека. Внутренне я не согласился. Исторические сведения о крепости Безз, связанной с движением Бабека, никак не совпадали с этим холмом, хотя, возможно, это на самом деле была одна из сторожевых башен Бабека. Кроме того, известно, что руины крепости Безз и сегодня сохранились в Южном Азербайджане, на одной из недоступных вершин Карадага. Прекрасную панораму этих гор, присланную из Тебриза, я храню как реликвию. Эти руины среди суровых круч поражают своей величественностью. Холм же, который показали мне в Ленкорани, мог укрыть разве что пару людей.
Бабек ведь не был один. За ним стоял целый народ. Созданное Бабеком необычное воинство – государство стало оплотом борьбы народа, его чаяний духовного и физического освобождения.
В течение двадцати двух лет войн с иноземцами Бабек сумел создать общество, кажущееся настолько утопическим, что в его реальность и сегодня трудно поверить. В обществе этом было объявлено "всеобщее равенство". Общество хуррамитов, принципы его построения мало изучены, а ведь следовало бы глубже разобраться в этом "прообразе будущего", маленькие ростки которого проросли в движении свободолюбивого народа.
Алый стяг, два десятилетия реявший над нашими горами, был песней свободы, героизма, гимном равноправных людей.
Эта песня не оборвалась и тогда, когда Бабека предал за два миллиона дирхемов правитель Шеки* Сахл ибн Сумбат, и пленного героя на белом верблюде повезли в город Самир. Изменилась только тональность песни, ее мелодия и лад. Бабек пел эту песнь, когда видел разрушенные города и веси, на месте храмов огнепоклонников видел попранную землю свою, видел возводившиеся мечети... В белой плащанице своей он представал символом несокрушимого духа. И пел песнь несгибаемости и борьбы, печали и надежды.
______________ * Ныне – село в Сисианском районе Армянской ССР.
Бабек не покидал свою родину. Он уносил ее с собой. Его смертный путь обозначил новые границы Азербайджана – границы чести и славы.
Бабек отказался от всех соблазнительных предложений халифа и был казнен. Сначала ему отсекли руки. Палачи глумливо спросили, глядя на его помертвелое, обескровленное лицо: "Ты побледнел!". И тогда он вымазал лицо кровью обрубленных рук. И его лицо предстало страшным подобием окровавленного стяга. Вдумаемся: в логове врага, на плахе, он обратил в знамя свое прекрасное лицо! И взял верх над мучителями, и смертью смерть попрал!
Своей героической гибелью Бабек пропел самую прекрасную песню, какую только может пропеть человек и гражданин. Это была его лебединая песня – и это была песня бессмертия.
И уже более десяти веков, поколение за поколением, песня эта не сходит с уст азербайджанцев. Имя Бабека носят наши дети, и они растут, осиянные именем его.
На протяжении веков, в принявшем ислам Азербайджане распространялась и внедрялась религиозная литература, в которой о Бабеке говорилось как о кафире – нечестивом иноверце. Но даже и в душах самых набожных азербайджанцев эти проповеди не смогли заслонить подлинный образ народного героя. Ведь Бабек вселил в народ веру в свои силы.
На каком же языке пел Бабек свою песню? Есть авторы, оспаривающие доказуемость его национальной принадлежности. Персидские ученые пытались доказать, что он принадлежит к небольшому народу, который говорил на одном из диалектов фарсидского.
Но известный иранский ученый Сеид Нафиси, являвшийся рьяным ревнителем своего народа, все же был не в состоянии игнорировать истину. Он пишет, что отец Бабека был родом из Тебриза, а мать из селения Билалабад в окрестностях Ардебиля. Бабек плохо говорил на фарсидском... Это слова Сеида Нафиси. Но на каком же языке говорил он хорошо, каков же тогда родной язык Бабека?
И тысячу лет тому назад и сегодня, в Тебризе и в Ардебиле, говорят на языке, от которого произошел современный азербайджанский язык. Ахеменидская, Римская, Парфянская, Селевкидская и Сасанидская империи, способствовавшие широкому распространению иранских языков, не смогли до конца стереть язык, который существовал в Азербайджане до распространения индоевропейских языков.
Любопытны в этом смысле сведения арабских историков. Они пишут, что еще во времена пророка Мохаммеда, когда первые арабские войска пришли в Азербайджан, они встретились здесь с тюрками, основным населением, проживающим здесь. Бабек был представителем именно этого этноса. Именно поэтому он смог повести за собой народ, объединить его под своим освободительным знаменем.
Песнь свою Бабек пропел на тюркском-азербайджанском языке. И мы поем свою песнь на этом языке, на этом языке будут петь эту песню наши дети, внуки, правнуки,
В душе у каждого человека есть своя песня о Родине... Один поет ее в сердце своем, другой запечатлевает ее на земле своей, какой бы суровой и каменистой она не была.
Воспоминания. В первые дни войны будущему отцу моему осколком раздробило руку, которой прикрыл он свое сердце. После лечения в Киеве, а затем в Саратове он возвратился домой в село. Тогда ему было 22-23 года и был он еще холост. Пальцы остались слепленными, ладонь не разжималась, Военком хотел вновь послать его на фронт, пытался разжать ему ладонь, разорвать пленку, стягивающую пальцы, подобно утиной перепонке, но только покалечил едва зажившую руку – отцу пришлось снова лечиться, но пальцы так и не разошлись.
Отец вынужден был остаться в деревне. На нем была большая семья, старые родители, сестры... Братья – на фронте. Надо кормить семью. И он запрягся в работу с изувеченной рукой.
Трудился в поте лица. По прошествии многих лет пальцы постепенно стали разжиматься, ладонь раскрылась. Отец мой сумел вырастить и воспитать четырнадцать детей.
Я любил смотреть, как мой отец пашет и жнет. В горах, среди горных круч, на месте древнего поселения, на пару с соседом, отец разбил огород. Внизу зиял бездонный обрыв и только слышался звук журчащей между скал речки. Выше темнели глухие леса... Мне, мальцу, доставляло особое удовольствие ночевать в этом огороде, над головой были только звезды, вдали, внизу, мерцали блеклые огни разбросанных у подножия гор селений. Казалось, нас подвесили на всю ночь между этими неземными и земными огнями.
Рано утром приходил отец вместе с нашим соседом Агаларом... Агалар-киши был очень нетерпелив. Вскопнет впопыхах одну-другую грядку картофеля, потом заберется в тень: "Выкурю-ка одну сигарету". Отец мой не разгибал спины. Погодя и Агалар-киши присоединялся к нему, усердно включался в работу, но через полчаса или час внезапно останавливался: "Жарко, может перекусим, передохнем?"
Отец не откликался. И так до полудня, и от полудня до вечера, не спеша, не поднимая головы, продолжал работать.
Во время сенокоса подбирались самые искусные косари. Выбирали большой участок и начиналась совместная косьба: казалось единым взмахом косы скашивался целый склон горы. Вошел в ряд косарей, нарушать порядок нельзя! Замешкаешься – идущий сзади врежется в пятки. В воздухе слышится звук работающих кос, опьяняет аромат скошенных трав.
Прекращается гомон молодежи, никаких звуков, кроме косьбы и так час, два, потом замечаешь, кто-то не выдерживает взятого ритма, выходит из строя, в изнеможении валится на скошенную траву. Отец мой был одним из тех, кто оставался до самого конца. Он не торопился, действовал неспешно и в этой выверенной неторопливости ощущалось удовольствие, которое он получал от работы: "Не суетись, делай все с толком"...
Сейчас, когда накоплен опыт жизни, когда с сегодняшнего ее перевала оглядываюсь назад, я понимаю подоплеку этого отцовского спокойствия. Работа была для него другом, собеседником. Если даже ты вспотел, работу не снимешь, как мокрую рубашку, не бросишь как косу под дерево, не уляжешься спокойненько под дерево – работа и жизнь неотделимы, пока есть жизнь, есть работа. А раз так, следует подружиться с работой, понять ее язык, соотнести ее с ритмом собственной души. И отец нес свою лямку, не снимая с плеча, нес с достоинством, неторопливо – он понимал, что бремя это он должен нести до конца жизни. Так было раньше, так будет и впредь!
Когда человек получает удовольствие от своей работы, сама работа становится праздником. Песня моего отца – была его нескончаемой бесконечной работой. День и ночь, без перерыва, не останавливаясь пел он свою песнь, пел земле своей. И земля откликалась на эту песнь, под его песню она засыпала, под его песню просыпалась.
ИЗ УВИДЕННОГО В ПУТЕШЕСТВИЯХ. В Самарканде, ранней весной, после полудня, я уединенно бродил по древнему городищу Афрасияб – зеленеющая по холмам молодая трава, казалось, ничем не отличается по цвету от изумрудных куполов Эль-Регистана, Биби-ханум, Гюр Эмира.
С этих холмов открывался вид на одно из чудес, созданных человечеством, – поразительные памятники Самарканда. За памятниками раскинулся полумиллионный современный город. Взгляд мой притягивал Афрасияб. Я брел по тропинке между могил, и мной овладело странное чувство близости к этой земле. Я понимал, что иду не по обычной земле, а по одной из самых славных столиц тюркского мира. Земля была такой мягкой и податливой, что, казалось, если ступишь чуть сильнее, по колено провалишься в землю. Зеленеющая трава была усыпана многочисленными маленькими цветами, лепестки которых были цвета самаркандских куполов. Казалось древний мир из глубины веков смотрел на меня миллионами глаз, казалось цветы эти что-то говорят мне и стоит обратиться к ним, что-то сказать, они поймут меня, откликнутся...
У холмов пощипывало траву стадо баранов и ягнят. Поодаль резвились мальчишки. Увидев меня, они остановились. Один из них приложив руку к груди, почтительно поздоровался.
Я подумал, что эта воспитанность, эта высокая культура, пожалуй, равны самаркандским памятникам, именно потомки тех, кто их возвел и должны быть столь лас ковы и доброжелательны. Прежде чем продолжить игру, дети долго смотрели мне вслед. Им, наверно, казалось странным, что я один, под вечер, брожу среди этих пустынных холмов.
Где же был здесь город? На этой возвышенности или дальше, вокруг холмов? Под ногами множество цветных фаянсовых черепков. Я знаю, что там, за Афрасиябом, около села, на высоком холме сохранились руины знаменитой обсерватории Улугбека. Много я видел подобных курганов, под которыми погребены целые города. В Азербайджане, Узбекистане, на Украине, в России...
Археологи перекрещивающимися полосами раскапывают место, где был расположен древний город, названный именем правителя. Все углубляются и углубляются в землю. Раскрываются стены древнего города, но они продолжают свои раскопки, снимая слой за слоем, чтобы добраться до основы, исходного слоя.
Я шагаю через раскопанные траншеи, смотрю на изящную кладку кирпичей, положенных руками далеких от нас людей и сейчас трудно отделимых от земли, и странная бесконечная печаль, смешанная с гордостью, обуревает меня...
Выше места, где ведут свои работы археологи, встречаю целую свору собак, лежащих на земле. Я прохожу рядом с ними, но они не обращают на меня внимания. Опустив на лапы свои внушающие ужас морды, полураскрыв глаза, они смотрят куда-то вдаль. И вдруг мне кажется, что и эти собаки понимают, на какой земле они сейчас лежат. Может быть, каким-то чудом достигает их далекий гул древнего города, многоликого, яркого, огромного, поражающего воображение, а теперь запечатленного в памяти этих трав, цветов, камней, земли. Может быть, здесь, на холме они охраняют дух своих далеких предков. Может быть, и они чувствуют биение сердца своих далеких прародителей, доходящее до них сквозь пласты времен.
Древняя столица Согдианы терпеливо, на протяжении многих лет очищается от земли. Вымощенные камнем улицы, кварталы ремесленников, жилые помещения позволяют представить себе живую, бурлящую, многогранную жизнь города, который строился на протяжении почти двух тысяч лет. Особенно поражают стенные росписи ханского дворца. Сейчас восстановлена часть из них, изображающая праздничный ритуал.
Стенная роспись эта – несомненно одно из высоких достижений мировой культуры.
Задумавшись, возвращаюсь назад и, подняв голову, с удивлением вижу, что впереди, в десяти-пятнадцати шагах от меня, по тропинке спокойненько поднимается, размахивая пушистым хвостом, самая настоящая лиса.
Видимо, она давно заметила меня и время от времени оглядываясь на меня своими прищуренными, красноватыми, хитрыми глазами, без особого беспокойства продолжает свой путь. При виде этой лисы, спокойно и безмятежно шествующей передо мной, хотя кругом столько собак, мне становится весело.
Бог ты мой, неужели и у этой лисы есть своя память! Ведь под этими холмами спят не только герои, но и лисы!..
...Дорога, вдоль ущелья Шахи-зинда, где собрано большое количество бесценных произведений зодчества, поднимается вверх, по склону холма. Этот поразительный архитектурный ансамбль включает в себя десять мавзолеев. Поднявшись по тридцати шести ступенькам древней лестницы, оказываешься в необыкновенном мире.
Вправо и влево от вымощенной камнем дороги возвышаются подлинные жемчужины архитектуры, искусства, может быть, не такие объемные как другие памятники Самарканда, но вызывающие такое же восхищение красотой соцветий, изяществом узоров. Какому из них отдать предпочтение? Трудно ответить. Здесь похоронены близкие родственники Тимура, его жена и сестра. Дорога поднимается вверх и неожиданно прерывается полукруглым двориком, венчающим эти необыкновенные памятники. Дверь, открывающаяся вправо, ведет к самому древнему сооружению этого ансамбля – к мавзолею Куссама ибн Аббаса.
Мне вспомнились следующие слова о Самарканде из книги, прочитанной накануне: "Предполагается, что первый мавзолей Шахи-зинда возвел приехавший из Тебриза азербайджанец Уста Али".
Какой памятник создал Уста Али! Не будь того первого мавзолея возможно ли было чудо Шахи-зинда?... О строительстве мечети Бибиханум пишут так: "Двести каменотесов из Азербайджана, Персии и Индии работали на строительстве самой мечети, пятьсот рабочих обрабатывали камень около Пенджкента и посылали его в Самарканд". Сколько подобных Уста Али было среди них!
В вечернем зареве я смотрю на стены из глазурованного кирпича, тысячью оттенков светящихся в лучах заходящего солнца, на волшебную гармонию узоров, их симметрию и законченность, и вдруг ощущаю в своем сердце биение сердца Уста Али. Что заставило его приехать из Тебриза в Самарканд, каким ветром занесло?
Как ни близки наши народы, их языки, культуры, все-таки родина есть родина! Никто по своей воле, без особой нужды не оставляет свой очаг! Земля, история поглотили миллионы и миллионы человеческих судеб. Единственное, что остается – песня, только песня, песня красоты, запечатленная в камне руками Уста Али и тысячи подобных ему мастеров.
Белинский называл архитектуру "застывшей песней". Именно в Шахи-зинда, в Самарканде ощущаешь истинное значение этих слов...
Вспоминаю карту, показывающую влияние Тебризской архитектурной школы, из книги моего друга, архитектора Джафара Гияси "Далекие – близкие страны" (Баку, 1985). Влияние это распространяется от Индии до Балкан. Поклонившись памяти Уста Али, возвращаюсь назад и по дороге чувствую, как сами собой слагаются стихи:
Сплелись следы, взошедшие из тьмы.
Из родственного пыльного тумана.
И я прочел узоры Аджеми
На плитах мавзолея Тамерлана.
Высоких минаретов острова
Плывут, тоскуя, в мареве заката.
Ковров тебризских пестрая канва
Цветет на старых стенах Самарканда....
Вмурована безмерная тоска
Твоя во плоть промчавшихся столетий.
Чтоб родину узреть издалека,
Так высоко вознес ты минареты.
Стезя творца с безбрежностью слилась,
И тесен мир, и нет скончанья жизни.
Твоих письмен таинственная вязь,
Быть может, весть, летящая к отчизне...
Голоса из музеев. Я ходил по Восточным салонам Эрмитажа. Пора белых ночей подходила к концу. До утра по улицам, площадям Ленинграда гуляли люди. Эта оживленность передавалась и в салоны Эрмитажа.
Музеи требуют тишины, сосредоточенности, но сейчас это невозможно. Правда, в восточном салоне народу было поменьше.
Я переходил из зала в зал в поисках следов древней азербайджанской культуры. Надписи под экспонатами мало что могли сказать, ведь согласно сложившейся, хотя и нелепой традиции даже явные предметы азербайджанской культуры относятся к общеиранской.
Глаза мои рассматривают витрины, а мысли уходят далеко к суровым дням войны, к блокаде Ленинграда. В моей детской памяти отчетливо сохранились рассказы моего дяди, который в войну был в Ленинграде. Рассказывал он о садах, улицах, мостах Ленинграда и еще о зеркальных салонах – о парикмахерских, сплошь состоящих из зеркал. Что еще он мог увидеть в те годы в Ленинграде... Он настойчиво убеждал меня обязательно побывать в Ленинграде. И вот я в Ленинграде, и вижу такие его стороны, такой прекрасный лик Ленинграда, который дяде моему пожалуй, и увидеть не пришлось.
Я хожу по Эрмитажу и, кажется мне, что я слышу глухой голос славного директора Эрмитажа, белобородого, мудрого Иосифа Абгаровича Орбели: "Товарищи! В этом году исполняется 800 лет со дня рождения гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви!" В тот вечер, когда над всем Ленинградом нависла зловещая тень великой беды, в полутемном зале тревожные, усталые ленинградцы внимательно слушали своего белобородого академика, и слова о поэзии Низами, ратовавшей за взаимопонимание и единение между народами, утверждавшей достоинство, разум и величие человека, превращались в волны тепла, согревавшие их в этом холодном помещении. Фашисты пытались задушить Ленинград. Однако город на Неве не переставал петь свою песнь. И в этой трагической, но полной мужества и несгибаемости песне, звучали имя, голос, призыв великого Низами.
Может быть, в этот вечер, когда Орбели, противопоставил разрушительному для подлинной культуры фашизму, свет гуманистических идей Низами, на одном из ленинградских заводов, первая азербайджанская женщина-металлург Гювара внимательно следила за огненной плавкой, выплавляя крепчайшую броневую сталь. Пройдет время. Гювара завоюет на этом заводе большой авторитет и уважение, и прямо на работе, во время тушения неожиданно возникшего пожара, сердце ее внезапно остановится. В кармане у нее сгорит билет, который через несколько часов должен был отправить ее в Баку, на встречу с близкими и родными. В земле Ленинграда будет погребена еще одна из бесчисленных жертв войны.
В тот же миг, когда я представил себе Гювару среди полыхающего огня, в одном из залов музея (кажется, в 48-м) я оказался перед огромной медной чашей, размером едва ли не в высоту стены. Это был один из залов, посвященных Средней Азии. По окружности чаши, в традиционной канве нетрудно было прочесть имя азербайджанского мастера из Тебриза "Абдулазиз Тебризли". Фотографию этого кубка я встречал и в одном из наших изданий. Почему-то по книге он представлялся мне миниатюрным, похожим на миску для мороженого. В действительности, эта посуда с трудом вмещалась в комнату; высотой метр шестьдесят, в диаметре два метра. Когда-то она была отлита азербайджанским мастером по распоряжению Тамерлана. Подарил эту огромную чашу мечети Ходжа Ахмеда Ясеви в городе Туркестане на территории нынешнего Казахстана. Изделие, которое создал мастер из Тебриза уста Абдулазиз, пережило империю Железного Хромца. Я рассматриваю древние узоры древние надписи на этой огромной чаше и во мне возникает благодарное чувство к мастеру, чьи искусные пальцы создавали это волшебство – в душе моей отзывается песнь изящества и красоты, воплощенная им, высокая песнь моего далекого предка из тебризского рода, песнь мудрого зрения и высокого духа!..
* * *
Подростком-пятиклассником я жил в Пушкинском районе у дяди по отцу и учился там в школе. Тогда еще не был построен Шахриярский водоем, и река Балгар-чай часто разливалась.
В тот год река вновь вышла из своих 6ерегов. Рушились подмытые глыбы земли, река вбирала в стремительный поток все, что встречалось на пути и, как щепку, несла их дальше. Воды стали бурого цвета, подобно спекшейся крови, и неслись с невиданными для равнины грохотом. Мосты сразу снесло, как будто и не было; по Шахриярской степи к морю полая вода шла сплошным потоком. Казалось, она врезается в землю все глубже, и если вода будет прибывать, земная твердь расколется как арбуз...
Люди всем миром вели безуспешную борьбу с разъяренной стихией. Хуже всего было то, что на крутом берегу остались со стадом работники фермы, и уже несколько дней они были без пищи и воды. Они что-то кричали с той стороны, но разобрать было невозможно, долетали только отдельные слова.