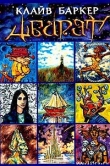Текст книги "Книга жизни"
Автор книги: Сабир Рустамханлы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
В их двери стучались мы в разные времена года, в различные часы дня. И каждое из этих родных гнезд и запечатлелось в моей памяти по-разному: то в цвету абрикосовых, персиковых, гранатовых деревьев, то одиноко приютившимся на зеленом склоне, то стиснутым, зажатым обступившими пятиэтажками, то под тутовыми деревьями, осыпающими нас ягодами, то раздирающим душу своей беспомощностью и беззащитностью, то утопающим в осеннем золоте, вызывающим чувство покоя и умиротворенности, то в белоснежном безмолвии, то бедным, неказистым... то благолепным и ухоженным... Но все они в равной степени родные, в равной степени дорогие...
* * *
Мне кажется, что обращение к детским воспоминаниям не обязывает к однозначным идиллическим тонам, главное для меня в том, чтобы показать значение истоков судьбы, народной духовности. Что и где мы растеряли, отвернувшись от народных этических начал?..
У каждой местности есть свой знак, свои природные атрибуты. Баку известен нефтью и ветром, Гянджа – чинарами, Ленкорань – чаем, Геокчай гранатами, Kyбa – яблоками. Ярдымлы же начинается со своих дорог. Один конец дорог ведет к знойным степям, другой – к снежным вершинам, одни – к голубому Каспию, другие... обрываются на полпути, так и не дойдя до Савалана...
Поезда моих дальних странствий брали разгон с этих горных троп, корабли, которыми я плыл, отчалили от этих стремнин, самолеты – взмывали ввысь с этих вершин. Первые мои радости, первые надежды, первые ожидания остались на этих дорогах, простертых как руки матери вослед упорхнувшему сыну...
Когда-то я искал дороги, которые уводили из дому, сейчас – ищу те, которые возвращают домой...
Через наше село, словно упавшее на дно горной чаши шли дороги, на которые долгие годы я смотрел как на нечто недоступное, ведущее в неведомые дали. Эти дороги манили, влекли, они говорили о тайнах волшебного мира, в который можно по ним попасть! Мне хотелось быстрее вырасти, чтобы махнуть за тридевять земель, перевалить через горы и долы, увидеть воочию, что же таит в себе тот недоступный мир?
Но теперь, когда я устаю от суетного мира, мне хочется вернуться назад, в безмолвие, в тишину моего села. Дороги Ярдымлов, которые тянутся по узкой долине, вдоль реки Вилеш-чай, кажется, ведут туда, где нет никаких признаков жизни. Однако тех, кому знакомы эти дороги, их безлюдье не гнетет. Тропы, сбегающие вправо и влево, не исчезают в темных чащах, а карабкаются по склонам, и достигают дивных сел, как хурджуны – переметные сумы перекинутых через плечи гор.
* * *
Природа – мудрая мать! Каждый раз она чему-нибудь да научит. В каждое время года обновляется песня этих дорог. Каждый раз, когда я слушаю эту песню, неизменно ощущаю: мы всего-навсего частица природы – и больше ничего!
Я люблю раннюю весну и осень наших лесов. Именно в эту пору можно увидеть, что у каждого дерева есть свой цвет, своя судьба. Весной и деревья похожи на сельских мальчишек, шагающих по своей тропе. Пройдет время и им придется встать в общий ряд, делать общее дело!
Вдруг обнаруживаешь, что лесные поляны покрыты бело-розовыми цветами: зацвела алыча. Это – первые шаги весны.
Среди голых деревьев меняется цвет земли. Спешат встретить весну подснежники, фиалки своими нежными ручонками теребят толстые комли деревьев, своими тоненькими голосками, еле слышными песнями хотят разбудить их, пробудить к новой жизни. А потом начинается такая феерия! Темная палитра леса, что ни день окрашивается в новый цвет. Возникает бездна оттенков зеленого цвета. Потом эти оттенки сольются в один плотный зеленый цвет. А осень? Есть ли на свете что-либо печальнее осеннего леса? Первыми оголяются плодовые деревья. Они отдали свои плоды, исполнили долг... им не до себя, не до увядающей красы... Как и нашим матерям! А эти кряжистые дубы похожи на отцов. Натруженные ладони ярко-красные листья огрубели, потяжелели, как подует ветер, они ударяются друг об друга со звоном, будто железные. Опадая с ветвей, они хлестко ударяются о землю, но пока осень окончательно не вступила в свои права, пока деревья полны жизни и не собираются прощаться со своими листьями, они ярко полыхают на склонах гор как последний очаг жизни, как прощальный ее костер.
Сколько оттенков может быть у красного цвета и сколько – у желтого?
Жаль вершины! Поздно добирается до них весна и рано покидает.
В ущельях же времена года часто ломают привычный порядок. Деревья охорашиваясь, подолгу сохраняют листву, стоят в полном убранстве. Глядишь, нагрянули снега, веткам не под силу тяжесть снежного покрова, обламываются!
... Дорога – чудо! Мир, в который окунают нас дороги – тоже чудо. Впервые, я это понял на здешних крутых, петляющих дорогах.
Здесь впервые увидел я звездопад маков ("Маки на склонах – падучие звезды..."), впервые здесь защемило сердце мое несбыточной мечтой превратиться в родник у обочины, в мосточек через пропасть, стать вечным наперсником родных далей, родных людей этой красоты земной...
Мне бы век одолжить у дубов вековых,
Стать мостом через бездну ущелий родных.
Или петь как студеный и чистый родник.
У дорог Ярдьшлы...
В ярдымлинских лесах – плодов и ягод уйма, может быть, именно поэтому раньше в иных селах не было принято держать приусадебные сады. Ведь леса здесь сродни необъятному плодоносному саду.
Отступление: Во дворе нашего старого дома я посадил кусты диких роз, принесенные из леса. Потом эти розы украсили многие дворы. Леса здесь были "двухэтажными": под вековыми дубами расположился "этаж" кустов роз. Аксакалы говорили, что раньше здесь стояло село... в этих лесах есть любые фрукты, и я уже нигде и никогда не встречал столь вкусных диких яблок и груш, мушмулы, черники, лесного ореха, ежевики и земляники, грибов, шляпка за шляпкой выраставших из-под земли и усеивавших окрестные поляны.
* * *
У середины дороги день и ночь шумит водопад. Прямо в саду нашего односельчанина, с пары родников начинается горная речушка. Леса, карабкающиеся на скалы, бесконечная песнь водопада, тоненький горный родник... Кажется, все здесь создано для того, чтобы дарить отдохновение душе! Зимой здесь выпадает обильный снег, покрывающий толстым одеялом поля и леса, и когда в это время года окажешься здесь, хочется раствориться в этом безмолвии, навсегда остаться в нем. С этой природой, с этими лесами, с этими водопадами связаны мои самые счастливые дни с друзьями, наши общие праздники и будни.
* * *
Леса постепенно редеют, долина раздается вширь, и дорога подходит к районному центру, расположенному в узком пространстве, ограниченном горными речками и стиснутом подступившими со всех сторон горами.
Старая дорога, ведущая из Ярдымлов в Мугань, шла вдоль границы и наискосок вела в Джалилабад, в сторону Шахриярской равнины.
Большинство посевных площадей здешних сел осталось по ту сторону границы,
С какой стороны ни подъезжай, в какую сторону ни уезжай, всюду натыкаешься на запретительные знаки, упираешься в колючую проволоку, которая перерезала долины и поля. По горам, до самых вершин, видны сторожевые пограничные вышки – длинной цепочкой они протянулись вдоль гор. С тех пор как помню себя, помню и разговоры о разлуке, о разъединении...
Здесь – обособленный мир... Свои горы, свои реки, своя древняя крепость, свой город и свои села, своя Девичья башня, еще и Юношеская башня, леса, луга, поля и яйлаги, на которых и летом держится снег... И особые люди, с первого взгляда кажущиеся наивными, простоватыми, а в сущности очень искренние и непосредственные, с худой сумой, но с широкой душой...
Запах скошенных трав. В середине мая наши горы – сама красота: ни с чем не сравнить это чудо. Взыграют речки, с гор и холмов грянут потоки, заискрятся на солнце до ряби в глазах. Оживут леса, и их дыхание окатит окрестные села. Аромат лугов, изумрудных полей, скошенных трав опьяняет. Я родился в это время года и, может, потому аромат скошенных трав, аромат стогов соломы мне кажется самым родным, самым близким, – он волнует и будоражит душу.
* * *
Деды наши, деды... Два очага было у них: один в наших горах, другой в Мугани. Для них Мугань была столь же родной, как и наше село. И хотя жизнь их проходила в переездах, они не считали себя кочевниками. Низина и яйлаг были для них как два родника родного края, как две комнаты одной обители... По преданию, наш прадед по отцу перебрался в эти края из окрестностей Ардебиля. В памяти сохранились имена семи-восьми поколений наших предков. Иначе говоря, в памяти жило всего лет двести – об этих годах рассказывали, как о живом близком прошлом, как о живых реальных событиях.
... Первый брак Рустамхан-киши был неудачным. Не сбылась его мечта о собственных детях. Во второй раз он умыкнул девушку в вечер накануне ее свадьбы – это было в теперешнем Джалилабадском районе, в направлении Астанлы. Он спросил у девушки: "Поедешь со мной?" и получив согласие, увез ее на своей лошади – это и была наша прабабушка Гызбес...
К новобрачной своей он пришел только на седьмой день: неделю он провел на охоте, в развлечениях. Пригнувшись, переступил порог и воздел руки к небу: "О, аллах ниспошли мне семерых сыновей". Аллах внял его молитве...
Память поколения. Несколько лет тому назад, семья моей тети по отцу переехала в Джалилабад. Когда через некоторое время я услышал, что их сын похитил обрученную с другим девушку, я не мог сдержать смеха. Ведь девушка, которую он похитил, была из тех же краев, что и его прабабушка. Это в наши-то дни парень умчал девушку верхом на коне, не подозревая, что повторил поступок своего прапрадеда...
Разговор об этом уголке моей родины – о маленькой капельке – я неспроста начал с предков.
Пусть назовут их отжившими, пусть назовут их патриархальными, но у этих далеких сел сохранились свои неписаные нормы морали и, сдается мне, что наша сила и в них. Основной "пункт" этой морали – в уважении к старшим, к отцу и матери, уважении, доходящем до почитания, до поклонения.
Самая лакомая еда нашего детства: донышко молочных кастрюль бабушек наших и еще умадж (блюдо вроде клецек) зимними утрами; самые ласковые песни, самые ласковые звуки нашего детства, волнующие, трогающие душу – стенания тростниковой свирели моего дедушки, утренний намаз, монотонные, убаюкивающие звуки прялки по вечерам и звуки маслобойки по утрам...
Жить бы так – и горе не беда!
Гордились честным, благоприобретенным. Я видывал и тех, кто обменивал сомнительные пачки на честные дедовские рубли, чтобы купить благоприобретенные ковры для своих покойников...
Во всех селах и уголках живут предания, одно прекраснее другого, о праведной и честной жизни, о мужестве и доблести наших дедов.
НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ
В Закаталах, на древнем камне,
вложенном в арку ворот отчего дома
Сулеймана Сулейманова, написано:
"Кто войдет в этот дом пьяным или
принесет нечестно нажитое, пусть
не найдет блага".
Слова – судьба родного очага.
То предков наших клятва и наука,
И к стенке припирает алчность внука.
Одна окаменевшая строка.
Познай величье пращуров своих
С поклоном преступай порог и благодарствуй.
Ворота – святы, и разрушить их
Не легче, чем разрушить государство.
Нас осеняет праведный алтарь.
Вражду пресечь лишь праведной рукою.
Ворота эти – нравственный словарь.
В начале – "честность", с трезвой головою.
Исчезни в мире эти ворота,
Мы захлебнемся кровью до едина,
Нет чистых рук, нет трезвых дум – беда...
Чти надпись эту – как коран старинный.
В пустынях лет теряются следы.
Но надпись эта навсегда нетленна.
Устав души народа, чистоты
Закон хранят и возглашают стены!..
И этот мост обязан преступить
Любой, кто пожелает знаться с нами.
Ту надпись, словно каменное знамя,
Должны над краем нашим водрузить!
Праведность. Завещание деда Камиля – зеркало жизни его поколения. Когда недуг одолел его, он вызвал к себе своего друга и родича, Шахверан-киши из соседнего села, Шахверан-киши тоже был очень высоким мужчиной. У постели больного он выглядел покрытой снегом горой.
Слово опущу, другое скажу. Они были самыми последними, уже совершенно исчезающими "азманами" наших краев. Не наклонившись, не могли пройти в дверь. Однажды трое этих великанов куда-то собрались, а впереди них навьюченные лошади. Было время половодья как ни бились, пройти реку не смогли. Тогда они решили сесть сверху поклажи, причем вдвоем на одну лошадь, так как на другой был большой груз. Посреди реки лошадь споткнулась, и они свалились в разные стороны. Товарищ их, стоявший на берегу, увидел, что они "плотиной загородили реку", а лошадь вот-вот захлебнется. Кричит им: "Эй, окаянные, быстрее вставайте, дайте дорогу воде!".
... Да, что и говорить. Дед Камиль обращается к одному из этих последних "могикан", своему родственнику с последней просьбой:
– Шахверан!
– Джан, слушаю!
– Прости меня, я побеспокоил тебя, попросив прийти.
Большие белые брови Шахверан-киши пуще нахмурились, нависнув над глазами.
– Все, кого я позвал, пришли, да будет им божья благодать, не осталось в сердце у меня не высказанных слов. Ты тоже помоги мне покаяться, очиститься.
– Какой у тебя может быть грех, чтобы просить очищения? Чистым ты пришел в этот мир, чистым уйдешь...
– Совесть грызет меня...
– Говори, облегчи душу.
– Послушай! Не считай меня таким уж безгрешным. Нет рабов божьих, кто был бы совершенно безгрешен. Как-то пара из молодых сельчан украли барана и прирезали его в лесу. Не помню в каком это было году. Я не дотронулся до мяса, но когда хозяин спросил у меня, я не признался. Правда, потом все раскрылось, и он не обиделся на меня... Но все равно, грех этот засел в сердце занозой.....
Эта улыбчивая быль говорит о высоких нравственных принципах наших стариков. Но настораживает пропасть, которая возникла между дедами и внуками. Как случилось, что на место тех людей, чистых, праведных, довольствовавшихся малым, тем, что бог послал, никогда не зарившихся на чужое добро, пришли те, у кого зачастую глаза завидущие, руки загребущие, людишки, для которых нет ничего святого?.. Где разорвалась цепочка нравной преемственности? Где распустилась наша пряжа? Чем навлекли на себя "гнев божий"? Сейчас понятия: "чистота" и "праведность" кажутся смешными и наивными, как рыцарство Дон Кихота. Разве не странно, что вместо уважения и почитания, на подобных людей смотрят как на чудаков, неумех и неудачников?
Может быть, и благодать вся была в руках тех стариков. Осенними днями, когда горы и долины окутывала сонная тоскливая тишина, мужчины нашего села распахивали к засевали косогоры. Картина эта может показаться архаичной, но она на нашей памяти. Косьбу и молотьбу они могли доверить молодым, но вспашка и сев были делом аксакалов. Зерно должны бросать в борозду только опытные, чистые и праведные руки.
Я и сейчас помню, как в страду пахари затягивали зычными голосами песню – "холавар", древнюю, как этот мир, завещанную дедами и прадедами. И еще, помнится, когда они хоронили своих близких, они исторгали стон, от которого волосы вставали дыбом.
Холовар. У каждой поры есть своя песнь. В холаварах – осенних песнях земледельцев – есть заунывная грусть, созвучная грусти самой осени. Землепашец разговаривает с землей, с работающими на ней буйволом, быком. Он просит быка потерпеть и будто извиняется за тяжелый труд, который ему приходится выполнять. В холаварах есть дружеская, братская доверительность обращение: "хо, друг мой, хо". Когда этот звук оглашал горы, казалось, дрожит земля, ворочается под копытами буйвола, под ногами пахаря и постепенно успокаивается, становится покладистой.
И еще песни пахарей напоминали мне колыбельные наших бабушек, наших матерей. "Колыбельная" же наших отцов пелась над огромной колыбелью, имя которой – земля; это была колыбельная каждому зерну, посеянному в борозду. Ведь от этого зерна зависела судьба всего рода и всей земли.
Мне хотелось слиться с этой песней, которая рождена нашим прошлым, духом аксакалов, далекими, отшумевшими мирами. По дороге на яйлаг своеобразным монументом старине, благодатной земле, холаварам, идущим из глубин веков, возвышается камень Холавар
Старик и гора. Когда-то я прочел, что в одной из восточных стран есть странное дерево-художник. На его стволе отпечатывается рисунок окружающей среды.
Когда я думаю о местах, где родился – о прямодушных, открытых людях наших гор, – мне вспоминается это дерево.
Может, таковы и мы, люди? Внутри нас живет образ мира, в котором мы родились.
Природа с непостижимой гармонией, с ювелирным изяществом отпечатала в наших душах неведомые нам узоры: скольким же мы обязаны природе?
... Старинной дорогой возвращались мы в наше сельцо в Хачаюрде. Дорога проходила между огромных дубов, каждый из которых походил на утес, и поднималась в гору. На повороте Ходжа дорога сужается в тропу, по которой может проехать один всадник, проходит тропа всего на сто-сто пятьдесят метров ниже самой высокой в здешних местах вершины. Когда смотришь с этого поворота, то видны все земли Ярдымлы, тянущиеся по трем-четырем долинам рек, гряды гор, которые ряд за рядом спускаются к Каспию, с трудом различимые, смутные краски далекого моря, с другой же стороны – громада Савалана, кажется, тяжелого для самой земли. Панораму эту можно сравнить разве только с обзором с самолета. Но в таком созерцании пейзажа, который раскрывается, когда поднимаешься по горной тропе верхом на лошади, есть свое преимущество: звук лошадиных подков создает ощущение близости к земле, близости к родному краю... ты чувствуешь, что ты на земле, нет ощущения отторженности.
Десять-двенадцать человек, мужчины и женщины, молча ехали на лошадях над пропастью.
Только поэзией, только песней можно передать те чувства, которые испытывает человек, оставаясь лицом к лицу с вершиной. Высокий голос моего дедушки, который и в восемьдесят лет не знал хрипоты, прервал мои размышления. Я впервые осознал, как этот много повидавший человек, жизнь которого близилась к закату, похож на эти горы. И почему-то мне показалось, что это последняя песнь, прощальная песнь, и нет никого на свете, кто понимает эти баяты, как мой дед и как эти горы.
Стали мне кумиром горы.
Грустно в мире сиром, горы.
Снялся стан – пора расстаться.
Оставайтесь с миром, горы.
Маку лишь пылать осталось.
Не сорвал, вздыхать осталось.
Отжила – отбедовала,
Мне теперь стонать осталось.
Милый, горы обе – две
Головою к голове,
Все мы смертны в бренном мире,
Горы вечны в синеве.
Горе горному зверью.
Ждет охотник на краю.
Обожгла огнем судьбина.
Не потухну, не сгорю.
* * *
Наши предки, – кабы не напасть, – жили долго.
Обоих дедов и обеих бабушек я увидел дожившими до преклонных лет.
Благородство, мужество, прямота, честность, преданность, милосердие, одухотворенная любовь к жизни, к природе – такова была их суть и урок, который они стремились внушить своим детям и внукам.
Мой дед по отцу был влюблен в природу, в горы, в камни, в скалы. Я был свидетелем того, как в семьдесят, в восемьдесят лет он каждый раз пешком поднимался и спускался с яйлага.
Он знал каждый родник, каждое дерево в горах и перед смертью просил принести ему воду с такого-то родника и плоды с такого-то дерева у подножия скалы. Почему именно плод с того дерева, вода из того родника? Причину этого я узнал позднее. Понял, что не случайно именно им отдано предпочтение в конце длинного жизненного пути.
И еще они не знали хворобы. Постель больного становилась для них смертным одром. Если кто-либо, занедужив, просил принести воду из "именного" горного родника, все понимали, что к чему, и начинали готовиться к похоронам.
Опираясь всю жизнь на мудрые уставы добра, правды, верности, красоты, отвергая половинчатость – другу друг, врагу враг, – не ведали страха. Даже смерть была для них не концом жизни, а метаморфозой сущего мира. Поэтому свой последний час встречали они бесстрашно, бестрепетно, заранее готовили все необходимое, успевали проститься и сказать последние слова близким и доверенным людям. Сколько раз мы были свидетелями такого мудрого и спокойного прощания с жизнью, сколько удивительных случаев связано с переживанием "последнего срока"!
Мой дедушка по матери жил в небольшом деревянном доме, окруженном айвовыми деревьями, – здесь была его долина, здесь же был его горный яйлаг. Очаг его слыл в самых благодатных на селе.
Дед был цирюльником. В его же обязанности входило и вырывать зубы, и приобщать детей к "мусульманству". Иногда, зажав меня между коленями, выливал он мне на голову ушат холодной воды, жесткими руками массировал мне голову, а потом, не обращая внимания на мои слезы, бритвой начисто обривал мне волосы, приговаривая: "Не отращивай кудри, как девчонка! Чаще будешь стричься, волос крепче станет". А я при этих словах глазел на его плешь...
Детство мое прошло между двумя дедовскими домами. Одно из самых ранних воспоминаний: как первый снег вдоль-поперек дорожками – я и потопаю босой от деда к деду... Будто по дну оврага иду. Снегу нападает выше моего роста, и я ничего вокруг не вижу...,
Ушедшие в мир иной. Дядя Авез был уважаемым аксакалом и любимцем сельчан. Без него не брались за важное дело, без него не удавалось распутать ни один сложный клубок. За несколько дней до своей смерти он вызвал меня из Баку. Я опустился у его ложа на колени и поцеловал в щеку. "А-а, приехал?! Была бы надежда, что мы когда-нибудь еще свидимся, я бы не утруждал тебя дальней дорогой. Но это наша последняя встреча, не обессудь...". Женщины, сидевшие кругом вдоль стен, тихо плакали. Аксакал лежал, лицом к гибле расположению святыни в Мекке. В военное лихолетье он был председателем колхоза, сельчане помнили, как в те тяжелые года он старался помочь всем, был братом, отцом – опорой. Они не замечали, когда ложился он спать, когда вставал – день и ночь он был рядом, с ними, в поле. Пять лет он стоял на страже народного добра и чести. Ни единым словом не обидели солдаток, даже птица как говорится, не залетала в их подворья. Сохой, лопатой и киркой вспахивали, разрыхляли косогоры, засевали их. На каждый трудодень выдавать по четырнадцать-пятнадцать килограммов зерна. В войну эти горные села не знавали голода. Напротив, они приходили на помощь населению равнинных районов – Масаллов, Ленкорани. Не все из степняков, кого голод погнал в горы, сумели добраться, многие погибли от истощения, от стужи, и их трупы обнаруживали весной, когда сходили снега... И вот теперь люди прощались с человеком, который проявлял братскую заботу о них в те тяжелые годы. Я сидел у его изголовья, взяв в свои ладони его худые, длинные пальцы. Глаза его были закрыты, он ничего не говорил, но мне казалось, он говорит со мной последним дрожанием своих почти безжизненных пальцев.
Пришли сельский врач и сельский молла. Старик очнулся, ожил, даже стал подтрунивать над ними. Сначала он обратился к доктору: "По тому, что редко заглядывал, я смекнул, что к чему. Когда какой больной – не жилец на свете уходишь в сторону. И на том спасибо!". Потом повернулся к молле: "То-то покейфуешь ты... Карман твой, похоже, отощал и тебе не терпится, чтобы я поскорее отправился к праотцам". Потом он попросил моллу, чтобы он прямо сейчас, не дожидаясь исхода, начал читать свою молитву, свою "алхамдулиллах", – хочет услышать. Несколько раз казалось, что он уже отошел, ему собирались прикрыть веки, но он останавливал их: "не торопитесь". Когда наступило время, он подозвал моего отца: "Пора, прикрой!..".
Эти прежние старики брались за неимоверно трудные дела так истово, так налегали плечом, с призывом "о, аллах!", будто это заклинание удесятеряло их силы.
Казалось, когда они обращают свои взоры к небу, открываются неведомые, невидимые дороги, их голос достигает далеких миров или с тех далеких-далеких миров в их сердца, в их души нисходит озарение, мощь, благодать.
Порой же мне казалось, что они не такие как все, не земные люди, а посланы с каких-то иных, далеких планет.
Когда они упирались в землю, казалось, она оседала под их тяжестью. И в еде-питье, и в труде, в любви и ненависти они представали великанами.
Тогда еще не распалась общинность. Было крепко ощущение единства, спайки. Еще не заползла в души страсть к деньгам, к богатству, к накопительству. Могли счастливо вкушать свой скудный хлеб. Всем миром строили дом бездомным, бесхлебным помогали, вершили самые трудные дела. Еще не была разорвана связь с природой. Еще не исчезла святость хлеба и святость слова.
Еще люди не знали лжи, вероломства, лицемерия.
Милосердию учили... Как-то в село забрались воры – из пасеки украли пчелиные улья, из хлева – животину. Сыновья хозяйки вернулись со свадьбы заполночь и, узнав о краже, настигли воров, – отобрали краденое, а самих потащили в село и привязали веревкой к балясине, Мать уложила спать разбушевавшихся сыновей, затем отвязала воров, дала им на дорогу припасов, а на место их привязала коров. Наутро сыновья по виду матери смекнули, в чем дело, но не посмели и пикнуть...
Ценили изыск и сноровку. Конного узнавали по коню. Не замыкались затворниками. Мужчины и женщины держались на равных, прямодушно уважительно, как в легендарные времена Деде Коркута. Сельчанки наши не знали чадру. Я вспоминаю молодых овдовевших солдаток (одной из них была моя тетя по отцу). До седин дожили, хлебнули лиха, а детей на ноги поставили и о новом замужестве не помышляли.
Честь берегли: за смертную обиду на смерть пошли бы.
Бог не обделил их силой. Каждую неделю сельчане отправлялись на базар. На площади пехлеван клал на лопатки любого, кто желал потягаться с ним силой и бахвалился: "Кровь горяча, гони силача!". Кто ни выходил в круг, оказывался поверженным. Один из нашенских, Мешади Таги, не выдержал: "Схвачусь-ка с ним!". Товарищи стали отговаривать – мол, приемов не знаешь, не срами нас! Но Мешади Таги стоял на своем. Пехлеван при виде нашего здоровяка подначил: "Браток, ты хоть смыслишь в ухватах-захватах, или так, на рожон лезешь?"
Мешади Таги ни слова не говоря, качал схватку, с тигриной прытью укротил спесивца, хвать за голову, хвать за ноги – оторвал от земли: "Вот тебе, "ухват!", а потом, шмякнув оземь, прибавил: а вот – захват".
О совестливости с улыбкой. Тот же Мешади Таги, однажды, по дороге из Ардебиля заснул, а спутники оставив его, ушли вперед. Проснувшись, он понял, что пешком ему не догнать их. У дороги паслись лошади и он, недолго думая, решил отвязать одну. Но хозяева тут как тут: "Коня украсть вздумал?" Мешади Таги стал клясться, что у него и в мыслях не было такого, мол, собирался догнать ушедших вперед товарищей и отпустить коня, чтобы он вернулся назад. Ему не поверили, накинулись с кулаками. Страсти накалялись. Один замахнулся на него серпом. Таги отразил удар палкой, да так, что серп угодил в нападавшего. Тот возьми и испусти дух, Мешади Таги понял, что дело-табак, и бросился наутек. Наступила ночь, и бедолага, прислонившись к дереву, заснул. Сквозь сон ему чудится голос: "Мешади Таги, Мешади Таги, ты убил безвинного мужчину, а сейчас спокойно спишь?" Открыл глаза, – никого. Снова задремал, и снова проснулся на тот же голос. Поняв, что ему уже не заснуть, ночью же возвратился в село, слег в постель. И простился с миром...
На все у них был свой, собственный взгляд: Сельчанин отправляется навестить в городе сына. Видит, что сын каждый день куда-то отлучается из дому.
– Ты куда? – спрашивает.
– На пробежку.
Сын начинает втолковывать отцу о пользе бега.
Отец смеется:
– Ты знал такого-то в нашем селе? Ходил так осторожно, что попадись ему под ноги муравей и того не задавил бы. Так вот, не спеша, и прожил 104 года...
Уехал отец – приехал дядя. Видя ежеутреннее исчезновение племянника, спрашивает:
– Где ты был?
– Бегал.
Теперь он дядю "просвещает" по части оздоровительного бега...
– Никто не бегает больше зайца, а он живет всего три годика...
Они любили веселье, шутку. Собрались сельчане на базар. Встали ни свет ни заря, с первыми петухами. Миновали одну гору – не рассветает, другую – не рассветает. Что за чертовщина! Среди них был один, острый на язык. Он и говорит: "Одна надежда – на перевал впереди, если уж и там не рассветет, пиши пропало, уже никогда не рассветет, мир так и останется в темноте...".
Во время выборов некий сельчанин стал перед урной для голосования на колени и начал читать молитву. Спрашивают: "Почему ты молишься урне, это тебе не аллах". Мужчина отвечает: "Это и есть аллах! Уже тридцать лет впихиваю сюда свое имя, а выходит – чужое!".
Я ворошу память только одного села. Но в этих краях у каждого свои байки, свои шутки, свои анекдоты. Анекдотам, бытующим в селе Мамулган, сам Молла Насреддин позавидует. Жителей другого села прозвали "солесеятелями". Они, видите ли, посеяли соль и ожидали, что она даст всходы. Есть село, за которым закрепилось прозвище "таскающие туман в мешках". Один из его жителей, которому осточертел туман, крикнул соседу: "Давай соберем мешки со всего села, понапихаем туман в них – и вся недолга!".
Главная мишень их смеха – невежество, наивность, нерасторопность.
Житель села Мамулган пошел в лес: так случилось, что папаха его зацепилась за куст – слетела с головы – искал – не нашел. Наконец, взойдя на бугор, он стал кричать в сторону своего дома: "Эй, жена, эй жена, глянь-ка, папаха моя не вернулась домой?"!
Перед врагом не пятились... В первые советские годы в наши места из-за кордона часто набегал отряд Наджафкули-хана. В Ярдымлах в то время уездным начальником работал молодой интеллигент по имени Самед. Распространили слух, что Самед пустил в расход одного из близких родственников Наджафкули. Слух этот дошел до главаря. При одном из очередных набегов он посылает Самеду весть, чтобы тот не пытался "окружить его милиционерами", если уж такой храбрый, все твердят: "Самед, Самед", вот атаман, и хочет посмотреть, что он из себя представляет. Умысел был прост – вынудить Самеда на встречу и "убрать".
Вызов задел Самеда за живое: никому ничего не сказав, он вскочил на гнедого и помчался навстречу, врагам. Люди Наджафкули затаились в засаде, навели ружья, поджидая отряд Самеда. Тут на гребне показался одинокий всадник. Конь – под стать своему наезднику. Скачет – будто летит. Можно уже и достать пулей. А ружья молчат. Рука у Наджафкули-бека дрогнула, опустил дуло, невольно залюбовался. Самед крикнул: "Наджафкули-хан! Вот я, Самед! Один! Выходи, потолкуем!". Наджафкули-хан медленно поднялся. Тут прогремел выстрел. Стрелял племянник, залегший рядом. Наджафкули, еще не зная, попал он или нет в Самеда, взъярился наставил на племянника ружье; "Ах ты, стервец! Разве можно поднимать руку на такого храбреца?"