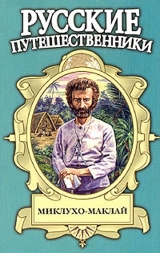
Текст книги "Маклай-тамо рус. Миклухо-Маклай"
Автор книги: Рудольф Баландин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
О русской мысли
Человек, не способный любить с благодарностью свою родину, малую часть Земли и человечества, не может искренне возлюбить всю свою планету и весь род людской. Они будут для него категориями абстрактными, использовать которые удобно в своих личных целях. Подобные космополиты слишком часто оказываются тайными приверженцами какого-то одного народа или племени, каких-то вполне определённых социальных групп и политических партий.
Миклухо-Маклая и самого занимал вопрос: почему он, в своих убеждениях и поступках всегда оставаясь гражданином мира, абсолютно чуждым национализма и расизма, в то же время был приверженцем конкретно русской культуры, с гордостью считал себя её представителем?
На эту тему он, тяжело больной, лёжа на больничной койке, незадолго до смерти диктовал жене «Заметки о природе русского гуманизма». Кстати сказать, диктовать ему приходилось на английском языке (русский Маргарита практически не знала). Она сохранила в своей тетради этот черновой набросок:
«Русская мысль, если говорить о мысли плодоносящей, рождающей новые идеи и новые взгляды на природу вещей, – явление замечательное и потому уже, что оно существует, кажется как будто противоестественным. Ведь мысль, способная ниспровергнуть общепринятое и утвердить что-то новое, – искра, возникающая от столкновения мнений, от сомнения, побуждающего искать истину. Чтобы такие искры высеклись, людям нужна внутренняя духовная свобода и нужно общество, позволяющее свободу мнений. На Руси же, если мы проследим историю Русского государства от Иоанна Грозного до наших дней, за вычетом, может быть эпохи Петра I, не допускалась под страхом смерти или тюремного заключения не только разница во мнениях, но даже попытка усомниться в чём-то, что являлось установленным и принятым в государстве.
Дикая татаро-монгольская орда с её свирепой жестокостью, презрением к духовным ценностям и разделением общества на рабов и вождей принесла и укоренила на века в Русском государстве положение, при котором право думать получили только те из нижестоящих, кто, думая, в мыслях своих угадывал желание вождя...
...Границы Русского государства всегда служили не только оборонительными рубежами, но и как бы второй Великой Китайской стеной, ограждавшей русский народ и подчинённых ему инородцев от «дурного» влияния неугодных русским вождям примеров. И с той же целью была введена строгая система видов на жительство, дабы каждый гражданин постоянно находился под государственным контролем и наблюдением лиц, назначенных отвечать за сохранность установленного единообразия в мыслях и настроениях.
И вот при всех этих порядках, которые ведут лишь к всеобщему отуплению, животворящая русская мысль, вопреки всем насилиям и царящей нравственной тьме, всё-таки произрастает и всему свету на изумление приносит замечательные плоды.
Когда заходит разговор о русской науке и культуре, людей, мало знающих Россию и привыкших смотреть на неё как на одно из самых деспотических государств, бесправный народ которого, казалось бы, не может дать ничего хорошего, поражает в русской мысли её неизменный гуманизм. А она, страдалица, пройдя через все испытания, пробившись сквозь тернии, не может нести в себе зло.
Страдание озлобляет натуры холодные, с корыстной душой и умом либо слабым, либо чересчур однобоким; русский же человек по своему характеру горяч и отзывчив, а если бывает злобен и совершает поступки буйно жестокие, то лишь в отупении или безысходном отчаянии. Когда же ум его просветлён и он видит истоки зла, в страданиях своих он никогда не озлобляется и мысли его направлены не к мести, воспетой и возвышенной до святости в европейской литературе, а только к искоренению зла всеми путями и средствами, может быть и с помощью того же зла. При этом он легко готов принести себя в жертву ради блага других, часто для него безымянных и совершенно чуждых.
Истинно русской натуре чужды не люди чужие, ей чужд эгоизм.
Вот откуда гуманность русской мысли. Не мог же Михайло Ломоносов, долгие годы живший на чёрством хлебе и квасе и достигший достатка в тяжких трудах, не думать о конкретной плодотворной пользе науки для тысячи сирых и жаждущих. Не могли Александр Пушкин и Михаил Лермонтов не сочувствовать гордым кавказцам, на себе испытав боль унижений.
Кроме России, не много мы знаем примеров, где наука и культура, в особенности отмеченные талантом произведения литературы, были бы так едины в своих устремлениях...»
Можно, конечно, уточнить или дополнить некоторые его соображения, но они в основе своей, как мне представляется, верны. Можно было бы вспомнить в этой связи его прежние высказывания о государственной машине, деятельность которой стремится закрепостить, упростить, механизировать общественную жизнь. Казалось бы, это должно было ослаблять, угнетать, упрощать русскую мысль. А вышло наоборот. Почему?
Для приспособленца всегда играет решающую роль окружающая социальная среда, мнения и указания имущих капиталы, власть. Он будет добропорядочным и «прогрессивным», если ему это будет выгодно, если начальство за это наградит или повысит в чине.
В 1863 году об этом писал многомудрый Кузьма Прутков в «Проекте о введении единомыслия в России» (одним из авторов, скрывавшихся под псевдонимом Козьмы Пруткова, кроме братьев Жемчужниковых был граф Алексей Константинович Толстой, покровительствовавший Николаю Ильичу Миклухо-Маклаю). В «Проекте» было ясно сказано:
«Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмётся? На чём основано?» Там же приводились необходимые меры для установления в обществе единого господствующего мнения.
Если в России высказывали такие язвительные замечания по поводу единомыслия и угождения начальству, значит, было немало людей, которые с презрением относились к приспособленцам и стремились жить и действовать согласно своим убеждениям, а не указаниям вышестоящих чинов. И чем сильнее было противодействие «вольнодумству», чем больше приходилось прикладывать усилий, чтобы противостоять господствующему течению мысли, тем упорней и крепче становились мыслители. Силы, в том числе и умственные, крепнут в борьбе, в преодолении трудностей, в напряжённых усилиях, а не вялом существовании, цель которого – пристроиться и удержаться на тёпленьком местечке, по образу и подобию домашнего насекомого.
Вспомним ещё одно высказывание Козьмы Пруткова: «Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза». Вдумаемся: а для чего требуется канифоль? Чтобы затруднить движение смычка по струне. В противном случае если бы смычок смазывали маслом, чтобы облегчить его движение, ослабить сцепление со струнами, инструмент виртуоза стал бы издавать жидкие гнусавые звуки.
Так что поощрение поощрением, но оно ещё вовсе не должно определять движение мысли в определённом, поощряемом, скажем, деньгами, направлении. Результат будет самым плачевным для мыслителя, точно так же, как для обильно умасленного смычкового инструмента.
Русская мысль, так же, как изначально связанная с ней мысль Миклухо-Маклая, крепла и возвышалась в противодействии мощной государственной машине, внося живительную и благородную струю гуманизма в общественную жизнь.
Одиночество
В один из воскресных июльских дней 1866 года чинные обыватели небольшого немецкого университетского городка Йены, шедшие на соседнюю горку отмечать церковный праздник, были ошеломлены. Они увидели возле дороги тело молодого человека в рубашке, залитой кровью.
Вскоре в некотором отдалении от тела собралась небольшая толпа. Все негромко переговаривались в немалом возбуждении и удивлении. Никто не рискнул приблизиться к распростёртому телу, чтобы удостовериться, жив он или мёртв. Кто-то поинтересовался, есть ли тут доктор, мужчины поспешили увести дам, кто-то пошёл сообщить полиции о случившимся.
Немногие из оставшихся вдруг замерли: тело зашевелилось, молодой человек поднялся на ноги, отряхнулся и зашагал по дороге в город. Вслед ему послышались голоса:
– Да он просто пьян!
– Нет, его ранили на дуэли.
– Это у него не кровь, а красное вино!
– Эти студенты ужасные забияки.
– Его надо остановить до прихода полиции.
– Нет уж, нечего связываться с пьяным...
А молодой человек ускорял шаги и свернул в небольшую рощицу на окраине города, чтобы не повстречаться с полицией. Он не был ни пьян, ни ранен. Он, Николай Миклухо-Маклай, студент Йенского университета, был удовлетворён проведённым экспериментом. Измазав ветхую рубашку красной краской, изобразил раненого или убитого и убедился: в обществе цивилизованных европейцев можно лежать, истекая кровью, так и не дождавшись помощи.
Он усмехнулся, припомнив слова Сенеки: «Свидетельства нравов можно получить из малых признаков». За всей этой традиционной чинностью немецких буржуа скрывается настороженное равнодушие к окружающим и неограниченное себялюбие. А за что бы им любить самих себя? И за что любить и уважать их?
Была ещё одна причина чувствовать удовлетворение от проведённого эксперимента. Его отчуждённость, независимость, нежелание пристать к какой-либо студенческой компании вызывали порой насмешки и язвительные замечания со стороны некоторых из наиболее бесшабашных и развесёлых студентов. Замкнутость и нелюдимость раздражали многих, считавших это признаком чрезмерной гордыни и желанием выделиться.
Многое в его поведении объяснялось просто: недостатком средств. В Гейдельберге, где юноша учился на философском факультете два года назад, студенты преимущественно были из состоятельных семей. Они заметили, что этот худой, невысокий и невозмутимый «коллега» щеголяет в одном и том же заношенном сюртуке и потёртых штанах, не говоря уже о стоптанных штиблетах.
Молодые люди считали, что он им не ровня, вот и дичится. А Маклай с презрением относился к этим сытым самодовольным юнцам, стремившимся прежде всего весело проводить время. Его привлекало общество польских политических беженцев, многие из которых, рискуя жизнью, боролись за освобождение своей страны. Его ввёл в их круг бывший воспитатель поляк Валентин Валентинович Миклашевский, заканчивавший юридическое образование. Эти люди были достойны уважения уже потому, что у них были твёрдые патриотические убеждения, они боролись за свободу.
Юный Миклухо-Маклай ощутил в себе польскую кровь и стал брать уроки польского языка. Когда об этом узнала его мать, наполовину полька, она выразила в письме не радость, а огорчение: «Ты пишешь, что берёшь уроки польского языка, да зачем тебе знать этот язык? Лучше английский или французский, чтобы знать его хорошо, там уроки недороги. А польский всё равно ты не будешь хорошо знать, да и зачем он?»
Мать советует ему познакомиться с немецким семейством, развлекаться. А он, узнав, что Чернышевский осуждён и сослан в Сибирь, просит прислать его портрет и адрес, на который можно было бы выслать ему деньги. Екатерина Семёновна отвечает: «...Ты никогда не жил один и не доставал денег и поэтому не знаешь, как трудно добываются деньги и как скоро можно их истратить. Знаю твой характер: ты прежде сделаешь, а потом пожалеешь, может быть, да уже поздно. Не сердись на меня за эту фразу, да это правда. Положим, что люди большею частью так поступают. Деньги для Чернышевского можешь выслать когда хочешь, да всё же нужно быть осмотрительным по возможности...»
Нет, мать не слишком хорошо знает характер сына. Его поступки определяются убеждениями, а их он не меняет. Но и намёки её понятны. В чём-то она права, безусловно права. Впрочем, деньги вдова получает в основном за акции пароходного общества «Самолёт», имеющего доходы от пассажирских рейсов от Твери до Астрахани и по Каспийскому морю. Её сын живёт, в сущности, как мелкий буржуа, иждивенец. Одно лишь его может оправдать: получив образование, Николай станет полезным членом общества...
Кем? Мать желает видеть его инженером, идущим по стопам отца. В таком случае придётся служить чиновником или наёмником у какого-нибудь предпринимателя. Ему будет гарантирована обеспеченная жизнь, о чём и печётся матушка. А ему более всего хотелось бы независимости. Почему бы не стать, подобно Шопенгауэру, вольным философом, размышлять и писать о вечных проблемах бытия человека, общества, природы?
Нет, это – пустые мечтания. Шопенгауэр был вполне материально обеспеченным человеком. Он мог себе позволить независимость суждения и образа жизни. По его признанию, философия не дала ему совершенно никаких доходов, хотя избавила от очень многих трат. А тут приходится думать прежде всего о каких-либо, пусть даже незначительных, средствах к существованию.
Литературный заработок? Но люди, убеждения которых он разделяет, немного заработали: Писарев посажен в Петропавловскую крепость, Чернышевский публично опозорен и сослан. Писать что-то несообразное со своими убеждениями он не может.
Мать думает, будто он безоглядно расходует деньги. А он бережёт каждый талер. Вот и ботинки купил по случаю за полцены у Миклашевского, они ему оказались маловаты, благо мало ношенные. Чёрные нитки и иголки, которыми снабдила его родительница, пригодились – латать прорехи на сюртуке и брюках. Приходится тратиться на молоко, но такова была рекомендация врача: ежедневный приём молока в связи со склонностью к заболеванию чахоткой, сгубившей его отца. Расходы на книги тоже необходимы, чтобы не зачахли мозги...
Помнится, после исключения из Петербургского университета он получил ободряющее письмо от Миклашевского: «Не отчаивайся, друг Коля, кто знает, с какими неудачами придётся тебе столкнуться в будущем. Запомни, главное, что нужно в жизни, – это быть человеком, остальное приложится. Что касается дальнейшего своего образования, то вот тебе мой совет: немедленно хлопочи о заграничном паспорте и выезжай в Гейдельберг... Ты сможешь здесь слушать лекции великого физика Гельмгольца, знаменитых учёных Кирхгофа, Бунзена, Миттермайера и ещё многих других. А если захочешь, переведёшься потом в какой-нибудь другой университет...»
Эти последние слова хорошо запомнились. Пришла пора подумать о том, где учиться дальше. Если уж приходится платить за лекции, то придётся позаботиться о том, чтобы получить определённую профессию, которая даёт возможность заработка.
Наступает время летних каникул, сентябрь 1864 года. Ему бы отправиться из Гейдельберга в Россию, повидаться с родными, с матерью, сестрой, братьями. Но это опасно. Могут задержать: ведь он выехал за границу по подложным документам. Возможно, удалось бы получить прусское гражданство: ведь он принадлежит к роду фон Беккеров. Да разве Пруссия ему ближе и родней, чем Россия?!
Юноша уезжает на каникулы в горы Шварцвальда, устроившись в небольшой почти безлюдной гостинице, отдалённой от больших селений. Здесь можно наслаждаться одиночеством. Надеется избавиться от боли в груди и рези в глазах, укрепить здоровье. Бродит по десять часов по окрестностям, взбирается на горные перевалы.
Горы благоприятствуют возвышенному настроению и серьёзным размышлениям. Благословенное одиночество! Оно позволяет проникнуться гармонией и величием природы.
Какие силы вздыбили эти скалы, прорезали глубокие ущелья и, словно рукой мастера, создали эти великолепные ландшафты? Когда-то, миллионы лет назад, на этом месте расстилалось море. Неспешная и могучая жизнь Земли словно напоминает постоянно человеку о вечности:
...Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
Да разве в природе всё всегда совершается тихо и мирно, постепенно и неспешно? Разве не грохочут лавины и обвалы, не содрогается земля от страшных глубинных ударов, не извергаются и не взрываются вулканы, не происходят грандиозные перевороты, о которых писал Кювье? Какие невообразимые катаклизмы нагромоздили эти горные гряды?!
Не так ли происходит и в душе человека, и в обществе?
«Если природа во всём подчинена высшей целесообразности, – пишет он, – управляется законами естественного развития, а человечество – часть природы, то существуют ли законы общественного развития? Из чего они вытекают? Нельзя же утверждать, что вся наша жизнь – цепь случайностей...
Есть одинаково присущая всем народам потребность в познании и отсюда – в просвещении... Соответствующее нуждам человечества количество и качество дарований, многочисленные совпадения в области изобретений и научных открытий, пороки и добродетели, взаимно уравновешивающие друг друга возникновение и сходство религий, похожие мифы. В конечном счёте отвечающие уровням цивилизаций общественные и государственные формации, неизбежность культурных и следующих за ними социальных революций, решительно меняющих всю политико-экономическую систему мира...
...Открытие законов общественного развития – главнейшая из задач практической философии. Только зная их, вооружаясь не только благими пожеланиями, но наукой, можно приступить к очередному переустройству мира своечасно, вести его с наименьшим ущербом...
Одна теоретическая мысль Платона относительно возникновения государства... представляется бесспорной, именно:
«Потребности граждан, составляющих общество, разнообразны, но способности каждого отдельного лица к удовлетворению этих потребностей ограниченны. Поэтому каждый из нас сам для себя будет недостаточен и имеет нужды во многих... Когда один из нас привлекает других либо для той, либо для иной потребности, имея нужду во многом, мы располагаем к сожитию многих сообщников и помощников, тогда это сожитие получает у нас название города (государства)».
Да, сожитие, но без насилия одного над другим, без олигархий и диктатур. Государство, экономически и политически основанное на обязательной взаимопомощи граждан, когда все заинтересованы в труде одного, а один – в труде всех, – вот цель, достойная борьбы».
Он вспоминал собрания польских революционеров, пламенные и не во всём понятные речи, изобилующие шипящими звуками и направленные не столько против царского деспотизма, сколько против, как говорилось, русской гегемонии, российской власти. Будто власть польской аристократии над народом чем-нибудь лучше принадлежности к великой державе и великой культуре. В таком случае и украинцы, и литовцы, и белорусы и татары, и башкиры и многие другие народы России захотят иметь свои собственные государства. Вернее и честнее сказать, местные национальные господа, паны и князья, беки и ханы захотят владычествовать над своими народами. И это будет всеобщий развал, взаимная рознь и новое ярмо для каждого из народов.
Польские националисты не вдохновили его на революционную борьбу, а, напротив, остудили эти порывы. Миклашевский это понял и не стал больше привлекать Миклухо-Маклая на собрания польских националистов-патриотов.
Революция в России необходима, но совсем другая, влекущая за собой основательный ремонт государственного механизма и замену его отдельных деталей. Задача философа – осмыслить ход и результаты неизбежной культурной и социальной революции, чтобы они принесли максимум благ и минимум бед обществу. Любая теория имеет смысл и оправдание только в том случае, если она помогает людям достойно существовать...
Он бродил по горным дорогам и тропам с неизменным дневником в сумке. Делал зарисовки, записи. Для него наступало решающее время: надо окончательно определить свой жизненный путь, а прежде всего – профессию. Очень заманчиво стать философом и найти законы развития в природе, а затем и в обществе, законы развития Мироздания. Однако по здравому рассуждению это представляется не более чем юношескими мечтаниями. Сколько лет ещё надеется он сидеть на шее семьи, матери? А что потом? Даже став доктором философии, вряд ли получит кафедру... Сможет ли без мучительных запинок читать лекции? И кто возьмётся печатать его труды?
Безусловно, учения коммунистов и анархистов очень привлекательны и пронизаны благородной идеей справедливости. Но что может произойти в случае победы пролетариата? Произойдёт ли в результате революция культурная? Если, предположим, сейчас богатства и власть находятся в руках людей недостойных, алчных, нравственно низких, то не приведёт ли социальная революция к другой крайности: всеобщему равному распределению благ? Нет ли в этом другой опасности?
«Народное государство, – записывает он, – поставившее своей целью непрерывность прогрессивного развития и взявшее за практическое правило распределяющий принцип деления благ, повинно особо поощрять людей пяти категорий: учёных исследователей, инженеров, работников просвещения и медицины, а также офицеров армии и флота как главных охранителей государства. Относительно же лиц, управляющих государством, то, воздавая им должное, однако памятуя, что благородное стремление оправдать доверие народа может и должно быть связано с особым вознаграждением, чрезмерно одарять их не следует. Более того, чтобы всем было известно, во что обходятся народу его управители, о денежном содержании правительства в целом и каждого из его членов в отдельности, а также о содержании лиц, занимающих важные государственные должности, нужно объявлять гласно: суммы же содержания назначать с участием депутаций народа...»
Чем чётче пытается молодой человек обрисовать основные черты грядущего «народного государства», тем определённее убеждается в бессмысленности подобных упражнений. Он не настолько наивен, чтобы поверить, будто такие его откровения всерьёз могут заинтересовать кого-то. У него нет желания заниматься политической деятельностью, входить в какую-либо партию. Маклай не может себе представить, какая сила способна заставить его променять одиночество и хотя бы иллюзию свободы на пребывание в толпе или перед толпой, когда теряешь ощущение своей личности, растворяешься в массе и вынужден подчиняться ей, даже становясь её лидером.
Да и что он знает о жизни общества, государства, отдельных сословий? Только то, что вычитал из книг. Имеет ли право навязывать кому-либо свои скороспелые суждения? Что своего, нового способен привнести в систему знаний о природе и обществе? И не пора ли всерьёз позаботиться о том, чтобы добиваться самостоятельности не только в мыслях, но и в личной жизни, в материальном положении?..
Вернувшись в Гейдельберг, завершает первый курс обучения, сдаёт экзамены сразу за два факультета – философский и юридический, а затем переезжает в Лейпциг, поступив на медицинский факультет. Учится с необычайным напряжением, исступлённо и за год успевает пройти полный курс медицинского факультета. Его не отвлекает никто и ничто. Ему помогало одиночество. В январе 1866 года Николай переезжает завершать учёбу в Йену.
В Йенском университете Маклай специализировался по двум взаимосвязанным направлениям: сравнительной анатомии животных (у крупного учёного Карла Гогенбауэра) и общей зоологии, преимущественно беспозвоночных – у одного из наиболее ярких преподавателей университета Эрнста Геккеля. Последний был сравнительно молодым, энергичным, умным и красноречивым человеком. Он умел вдохновенно рассказывать о чудесах и красотах природы, о радости познания.
Могут показаться странными интеллектуальные метания Миклухо-Маклая: от философии и юриспруденции к медицине, а затем сравнительной анатомии и зоологии. По-видимому, юноша решил отдалиться от общественной деятельности и стать профессиональным учёным, опубликовать несколько научных работ, после чего вернуться на родину.
Его глубоко интересовала теория эволюции вообще и головного мозга в частности. Подступы к этой обширнейшей и малоизученной теме он решил готовить основательно.
Сравнительная анатомия животных с начала XIX века стала очень важным разделом биологии. Не случайно знаменитый французский учёный Жоффруа Сент-Илер назвал свою фундаментальную работу «Философия анатомии». Однако не всем нравились излишние общие рассуждения без надёжной опоры на факты. Карл Бэр предостерегал от «заблуждений, в которые можно впасть, если постоянно принимать за действительность предположения вместо наблюдений».
Миклухо-Маклай учился прежде всего добывать факты. Смиряя бурный нрав, долгие часы проводил в анатомическом зале, корпел над утомительными, а то и скучными однообразными опытами, вечерами просиживал над учебниками и трудно читаемыми трактатами. Он был что называется прирождённым естествоиспытателем, хотя и не обладал крепким здоровьем. Зато у него была недюжинная сила воли, неутолимая любознательность, трудолюбие и глубокий интерес к жизни природы. Юный учёный был лёгок на подъём и умел довольствоваться лишь самым необходимым.
Как вспоминал его знакомый Герман Фоль: «...В Йене у него был только один друг – молодой русский князь Александр Мещёрский, который, несмотря на свой княжеский титул, сильно нуждался, и ещё, быть может, Лев Мечников, с которым они встречались редко, но очень сердечно.
С Маклаем в Йене мы часто виделись в клинике профессора Геккеля, обменивались разного рода впечатлениями... В противоположность мне он был самоуглублённо молчалив, чуждался женского пола, хотя йенские девицы осаждали его настойчиво, не прикасался к вину и с великим отвращением ежедневно выпивал литр молока.
Среди студентов Йенского университета он был личностью заметной и, на мой взгляд, одной из наиболее эрудированных. Обладая феноменальной памятью при лихорадочной жажде познания, в Гейдельберге сумел за год сдать экзамены за два факультета... потом в Лейпциге также через год стал законченным врачом и приехал к нам в Йену, имея намерение заниматься тоже на двух факультетах сразу. В два года и сравнительной анатомией и зоологией он овладел на уровне магистра каждой из названных наук и мог получить кафедру, но на все уговоры отвечал упрямым «нет».
...Вот одна деталь, изумившая всю нашу клинику. У нас умирала от саркомы девятнадцатилетняя девушка, которая перед смертью, видимо, влюбилась в Маклая и со слезами просила, чтобы он, когда она умрёт, сделал из её черепа абажур для настольной лампы. Успокаивая несчастную, он дал обещание её дикую просьбу исполнить. Но никто из нас, слышавших это обещание, и не подумал принять его всерьёз. Каково, однако, было наше удивление, когда мы узнали, что своё слово он сдержал!»
Миклухо-Маклай всегда был человеком чести, был верен своему слову и не терпел никаких сделок с совестью. Избегал лёгких путей в науке, ибо увлечён был поисками истины. К великим целям нет лёгких подступов.
Геккель в эту пору подходил к зениту своей славы. Он издал свой знаменитый труд «Общая морфология организмов», где обосновал положение о соответствии между индивидуальным (от зародыша) развитием организма и эволюцией вида. Это положение получило название «основного биогенетического закона». И хотя вскоре стало выясняться, что обоснование этого закона не такое простое, как считал Геккель, проблема была плодотворной и своевременной (она сохраняет актуальность до сих пор).
Понятно, что Миклухо-Маклай считал немалой своей удачей возможность стажироваться у такого учёного. Да и Геккель выделил его из числа своих учеников, сделав ассистентом и взяв в научное путешествие на Канарские острова.
Из Лиссабона они отбыли на остров Мадейру, ознакомились с его роскошной природой и переправились на Тенерифе. Здесь соратники совершили трудное восхождение на знаменитый Тенерифский пик (3716 м), впрочем, без какой-либо заметной пользы для науки. Стационарные наблюдения вели на небольшом островке Лансерот, куда постоянно врывались сухие ветры из Сахары. Исследовали преимущественно морских беспозвоночных. Миклухо-Маклай помимо губок изучал рыб, обращая особое внимание на сравнительную анатомию головного мозга и плавательного пузыря.
Обилие зловредных насекомых стало немалым испытанием для путешественников. Геккель по окончании экспедиции отправился в Европу, а Миклухо-Маклай с другим студентом, уже упомянутым Германом Фолем, рискнули совершить пеший переход в столицу султанства Марокко, несмотря на то, что мусульмане были настроены враждебно к иноверцам, подозревая в них шпионов.
На следующий год Николай Николаевич отправился с зоологом А. Дорном в Мессину, на остров Сицилию, продолжая изучать сравнительную анатомию морских животных. Он сочувственно воспринял (и позже старался воплотить в жизнь) идеи Дорна о создании морских биологических станций, где можно было бы исследовать жизнь моря в естественных условиях.
Из Мессины Миклухо-Маклай на собственные средства, а также на свой страх и риск перебрался к берегам Красного моря. Фауна этого района была почти не изучена, а она могла существенно измениться в ближайшие годы благодаря введению в строй Суэцкого канала и возможности проникновения в Красное море многих обитателей моря Средиземного.
Николай писал брату Сергею: «Путешествие моё не совсем безопасно. В Джидду наезжает тьма арабов, отправляясь в Мекку; в это время они особо фанатичны, и, кроме того, приезжают из таких стран, которые обыкновенно не терпят столкновений с европейцами... Страшная жара и нездоровый, в особенности для приезжающих, климат – все эти обстоятельства с прибавлением самых скверных и неверных путей сообщения, с моим незнанием арабского языка... делает мою экскурсию зависимой от случая».
Если его не убьют, он может умереть от болезней. Путешествие чрезвычайно опасное, можно рассчитывать только на свои силы и удачу.
Пришлось по возможности изменить внешность: обрить голову, покрыть тёмным гримом лицо, облачиться в арабский костюм и подражать поведению мусульман. Микроскоп, термометр и записную книжку тщательно скрывал, зарисовки и записи делал украдкой. Недостаток средств способствовал естественному слиянию с местным населением, терпящим постоянную нужду: наряд его быстро обветшал и пропылился насквозь, лицо почернело от загара, тело высохло от недостатка пищи и постоянных болезней, в особенности лихорадки и дизентерии. На парусных барках, петляющих между рифами, на грязных переполненных пароходиках и пешим ходом по раскалённым пескам продвигался исследователь вдоль побережья Красного моря.
Он не пожелал ограничить себя сугубо научными изысканиями. Его интересует и волнует всё, в частности жизнь местного населения. С возмущением пишет: «Рынки невольников, несмотря на запрещение, находятся под носом у египетских властей».
Отмечая удручающую нищету населения, предполагает её причину: «Эта неподвижность, апатия, нежелание даже шевельнуть пальцем для лучшего удовлетворения самых первых жизненных потребностей ещё более поддерживается и освящается религиею, которая приучает смотреть на всё как на предопределённое свыше и изменить которое человек не в силах». В то же время: «Ни один из путешественников, долго и объективно наблюдавший жителей в местностях, прилегающих к берегам Красного моря, не отказывал им в природных умственных способностях».








