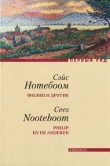Текст книги "Семья Тибо (Том 3)"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 46 страниц)
Боясь простудиться, он хотел встать, но вдруг внимание его привлекли странные акробатические упражнения мальчика: Жан-Поль пробовал взять штурмом холмик примерно двух метров высоты; слева и справа холмик спускался к земле пологими скатами, взобраться по которым не представляло особого труда; посредине он подымался круто, но именно по этому склону и пытался влезть Жан-Поль. Несколько раз он с разбегу добирался до половины холма, но соскальзывал и скатывался вниз. Сильно ушибиться он не мог, – склон был покрыт мягким слоем сосновых игл. Малыш был поглощен своим занятием: на всем свете существовали только он и этот холм, на который он решил взобраться. С каждым разом он взбирался все выше и с каждым разом скатывался с все большей высоты. Он тер ушибленные коленки и лез снова.
"Энергия у него наша: настоящий Тибо, – подумал удовлетворенно Антуан. – У нашего отца властность, желание господствовать... У Жака буйство, мятежный дух... У меня упорство. А здесь? Во что выльется та сила, которую носит в своей крови этот ребенок?"
Жан-Поль снова бросился на штурм с такой яростной отвагой, что почти добрался до вершины. Однако песок осыпался у него под ногами, и казалось, он опять скатится вниз... Но, нет! Ухватившись за кустик травы, он каким-то чудом удержался, подтянулся на руках и взобрался на верхушку холма.
"Держу пари, что он сейчас оглянется, посмотрит, слежу ли я".
Антуан ошибся. Мальчик повернулся к нему спиной и, очевидно, совсем забыл о нем. С минуту он постоял на верхушке холма, крепко упираясь в землю маленькими ножками. Потом счел, по-видимому, себя удовлетворенным и спокойно спустился вниз по отлогой стороне, даже не оглянувшись на завоеванный холм, прислонился к дереву, снял сандалию, вытряхнул из нее камешки, а потом снова аккуратно обулся. Но он знал, что не сможет сам застегнуть пряжку, поэтому подошел к Антуану и молча протянул ногу. Антуан улыбнулся и покорно застегнул сандалию.
– А сейчас мы с тобой пойдем домой. Ладно?
– Нет.
"Он как-то особенно, по-своему, говорит "нет", – подумал Антуан. Женни права. Это, пожалуй, действительно не простое нежелание выполнить то или другое требование взрослых, а отказ вообще, преднамеренный... Нежелание поступиться хотя бы крупицей своей независимости во имя чего бы то ни было!"
Антуан поднялся.
– Пойдем, Жан-Поль, будь умницей. Дядя Дан нас ждет. Идем!
– Нет!
– Ты же должен показать мне дорогу, – продолжал Антуан, желая смягчить положение (он чувствовал себя довольно нелепо в роли гувернера). – А по какой аллее нам идти? По этой? Или по этой? – Он хотел было взять мальчика за руку. Но Жан-Поль уперся ногами в землю, а руки заложил за спину.
– Я сказай – не пойду!
– Хорошо, – ответил Антуан, – Ты хочешь остаться здесь один? Оставайся! – И с безразличным видом направился к дому, розовая штукатурка которого пламенела в предзакатных лучах между стволами деревьев.
Не успел он сделать и тридцати шагов, как услышал за собой топот, Жан-Поль догонял его. Антуан решил заговорить с ним как можно веселее, как будто между ними ничего не произошло. Но мальчик обогнал его и, не останавливаясь, дерзко крикнул на ходу:
– А я домой! Потому сьто я сам хоцу!
XII. Вечер в Мезоне. – Последний разговор с Женни
Ужины на даче проходили оживленно благодаря присутствию весело болтавших Жиз и Николь. Довольные, что трудовой день окончился, а может быть, и тем, что здесь они были далеко от заботливого, но слишком бдительного ока г-жи де Фонтанен, они вспоминали дневные происшествия, делились впечатлениями о вновь прибывших раненых, с пылом юных пансионерок в мельчайших подробностях рассказывали о своих занятиях.
Хотя Антуан немного устал к вечеру, он с удовольствием слушал, как они с серьезным видом обсуждали различные методы лечения, одобряли или порицали врачей, старательно употребляя специальные медицинские термины. Несколько раз они обращались к его авторитету, и он, улыбаясь, высказывал свое мнение.
Женни почти не вмешивалась в разговор: она возилась с Жан-Полем, который обедал за общим столом. Даниэль, по обыкновению, был молчалив (особенно в присутствии Женни и Николь) и только раза два заговаривал с Антуаном.
Николь принесла с собой вечернюю газету. Там сообщалось о многочасовых обстрелах Парижа. Пострадало много зданий в Шестом и Седьмом округах. Насчитывалось пять убитых, в том числе три женщины и грудной ребенок. Гибель этого младенца вызвала в союзной прессе единодушный взрыв негодования против тевтонского варварства.
Николь с возмущением спрашивала, как мыслима подобная жестокость.
– Эти боши! – вскричала она. – Они воюют, как дикари! Мало им огнеметов и удушливых газов! Подводных лодок! Но убивать ни в чем не повинное гражданское население! Это уже выше человеческого понимания! Это чудовищно! Для этого нужно окончательно потерять всякое нравственное чувство, всякую человечность!
– Убийство ни в чем не повинного гражданского населения кажется вам, очевидно, значительно более бесчеловечным, более аморальным, более чудовищным, чем уничтожение тысяч и тысяч молодых людей, которых посылают на передовую? – язвительно спросил Антуан.
Николь и Жиз растерянно переглянулись.
Даниэль отложил в сторону вилку. Он молчал, опустив глаза.
– Будем последовательны, – продолжал Антуан. – Упорядочивать войну, пытаться ее ограничить, организовать (гуманизировать, как теперь говорится), безапелляционно заявлять: "То-то и то-то варварство! То-то и то-то аморально!" – значит, предполагать, что существует какой-то иной способ ведения войны... Какой-то вполне цивилизованный способ. Вполне моральный!
Он замолк и взглянул на Женни, желая проверить, какое впечатление произвели на нее эти слова. Но она стояла, склонившись над Жан-Полем, и поила его молоком.
– Тот или иной способ убивать может быть более или менее жестоким, продолжал он, – может применяться чаще одной стороной, чем другой, но разве в этом чудовищность войны?
Женни поставила на стол чашку таким резким движением, что чуть не опрокинула ее.
– Чудовищно другое, – сказала она, стискивая зубы. – Чудовищна пассивность народов! Ведь их миллионы! Они – сила! Всякая война зависит только от их согласия или от их отказа! Чего же они ждут? Им достаточно было сказать "нет!" – и мир, которого они требуют, тотчас же стал бы реальностью.
Даниэль медленно поднял веки и кинул на Женни короткий, загадочный взгляд.
Воцарилось молчание.
Антуан не спеша закончил свою мысль:
– Чудовищно не то или другое, чудовищна сама война!
Несколько минут никто не решался заговорить.
"Люди требуют мира, – повторял про себя Антуан слова Женни. – Так ли это?.. Они требуют его, когда он уже нарушен. Но когда войны нет, их нетерпимость, их воинственные инстинкты делают мир непрочным... Возлагать ответственность за войну на правительства и на политиков – это, конечно, разумно. Но не надо забывать, говоря об ответственности, и человеческую природу... В основе всякого пацифизма лежит следующий постулат: вера в нравственный прогресс человека. Я лично верю в это, или, иными словами, чувством мне необходимо верить в это; я не могу принять мысль, будто человеческое сознание не способно совершенствоваться, и совершенствоваться бесконечно. Я должен верить, что человечество сумеет когда-нибудь утвердить порядок и братство во всей планете... Но для того, чтобы произвести эту революцию, недостаточно доброй воли или мученичества отдельных мудрецов. Нужны века, быть может, тысячелетия эволюции... (Чего подлинно великого можно ожидать от человека двадцатого столетия?) И вот, как бы я ни старался, это прекрасное будущее не может утешить меня в том, что мне приходится жить среди хищников современного мира".
Антуан заметил вдруг, что все за столом молчат. Атмосфера стала напряженной, предгрозовой. Он пожалел, что вызвал эту внезапную бурю, и решил переменить разговор.
Он повернулся к Даниэлю:
– А как ваш друг, помните, такой странный тип... Кажется, пастор, да вы знаете... Что с ним?
– Пастор Грегори?
При этом имени глаза всех присутствующих загорелись лукавым огоньком.
Николь сказала нарочито грустным голосом, который никак не вязался с веселым выражением ее лица:
– Тетя Тереза так беспокоится о нем: с самой пасхи он в санатории в Аркашоне...
– Судя по последним письмам, он плох, даже, кажется, не встает с постели, – добавил Даниэль.
Женни заметила, что пастор находился на фронте с первого дня войны.
Потом разговор снова оборвался.
Чтобы прервать молчание, Антуан спросил:
– Он пошел добровольцем?
– Во всяком случае, – уточнил Даниэль, – он рвался туда всеми силами. Но не подходил ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. Тогда он вступил в американский санитарный отряд. Он пробыл на английском фронте самое ужасное время, зиму семнадцатого года... Переносил раненых... Не вылезал из бронхитов. Начал харкать кровью. Пришлось его эвакуировать чуть ли не силой. Но было слишком поздно.
– Последний раз мы видели его в шестнадцатом году, он приезжал к нам во время отпуска, – сказала Женни.
– Уже тогда он был неузнаваем... – вставила Николь. – Прямо привидение. Длинная борода, как у Толстого... Или как у волшебника из сказки!
– И он по-прежнему отказывался применять лекарства? И пользовал больных только заклинаниями? – насмешливо спросил Антуан.
Николь расхохоталась:
– Да, да... Держал по этому поводу безумные речи. Он целых два года перевозил умирающих на маленькой санитарной машине, что не мешало ему преспокойно твердить: смерти не существует.
– Николь! – окликнула ее Жиз. Она страдала от того, что Николь высмеивала пастора в присутствии Антуана.
– Впрочем, он и слово "смерть" никогда не произносит, – продолжала Николь. – Он говорит "иллюзия смерти"...
– А в последнем письме к маме, – подхватил, улыбаясь, Даниэль, – он написал удивительную фразу: "Скоро мое существование будет продолжаться в полях невидимых".
Жиз с упреком взглянула на Антуана!
– Не смейся, Антуан... Пусть он смешной, все-таки это святой человек...
– Ну что ж, может быть, он и святой, – согласился Антуан. – Но каково было несчастным томми, которые попадали в его святые лапы. Никому не пожелаю такого санитара!
Обед пришел к концу.
Женни сняла Жан-Поля со стульчика и встала сама. Остальные последовали ее примеру и перешли в гостиную. Но Женни не осталась с ними: было уже поздно, и она торопилась уложить сына.
Жиз устроилась в глубине комнаты на низеньком стульчике и начала молча вязать; отбывавшим из госпиталя на фронт солдатам она вручала, как подорожную, пару носков собственной вязки. Даниэль взял с рояля комплект "Вокруг света" и уселся на диване за круглый стол, на котором горела керосиновая лампа, единственная в комнате.
"Что это он, нарочно? – думал Антуан, глядя, как Даниэль, склонившись над книгой, прилежно, словно пай-мальчик, переворачивает страницы. – Или в самом деле увлекается этими старыми картинками?"
Стоя на коленях перед камином, Николь разжигала огонь. Антуан подошел к ней.
– Давно я не видел, как горят дрова...
– Вечерами еще свежо, а потом так веселее! – Она поднялась. – Помните, здесь, в Мезоне, мы с вами встретились в первый раз. Я помню так ясно. А вы?
– И я тоже.
И он вправду помнил далекий летний вечер, когда, уступив настояниям Жака и тайком от г-на Тибо, согласился пойти с братом к "гугенотам". Вспомнил, как удивился, встретив там Феликса Эке, хирурга, который был старше его на несколько лет; вспомнил Женни и Николь в аллее роз; Жака, только что поступившего в Эколь Нормаль; сам он был тогда молодым врачом, и одна только г-жа де Фонтанен церемонно называла его "доктор"... Какие все они были молодые! Как верили в свою молодость и в жизнь, не ведая, что готовит им будущее, ни на минуту не подозревая о близкой катастрофе, которую им подготовляли государственные деятели Европы и которая одним махом смела их маленькие личные планы, оборвала жизнь одних, перевернула жизнь других, внесла в существование каждого горе, траур, развалины, взбаламутила мир на долгие, долгие годы.
– Тогда Феликс начал ухаживать за мной, – мечтательно продолжала Николь. В этих словах прозвучала неподдельная грусть. – Он отвез меня на своем автомобиле... На обратом пути мотор сломался, и мы всю ночь просидели в Сартрувиле...
Даниэль медленно поднял глаза и, не поворачивая головы, бросил исподтишка на Николь беглый взгляд, который, однако, не укрылся от Антуана. Слышал ли он их разговор? Может быть, образ прошлого взволновал его, огорчил? Или, возможно, эта болтовня просто ему надоела? Даниэль снова взялся за чтение. Но через минуту зевнул, закрыл книгу и не спеша попрощался со всеми.
Жиз отложила в сторону вязанье:
– Вы идете к себе, Даниэль?
В полумраке ее волосы казались еще пушистее, лицо смуглее, белки глаз блестели ярче. Скорчившаяся на низеньком стульчике, освещенная пламенем очага, Жиз вызывала в памяти образ далекой страны ее предков – Африки. Силуэт туземной женщины, сидящей на корточках перед костром в пустыне.
Она встала:
– Ваша лампа в коридоре. Пойдемте, я зажгу!..
Они вместе вышли из гостиной. Антуан машинально проводил их взглядом, потом обернулся к Николь, которая, стоя у камина, пристально глядела на него. Они были одни. Николь улыбнулась странной улыбкой.
– Даниэлю следовало бы жениться на ней, – произнесла она вполголоса.
– Что?
– Ну да! Это будет чудесно, разве нет?
Мысль была столь неожиданна для Антуана, что некоторое время он молчал, нахмурив брови, уставившись в угол. Николь расхохоталась звонким воркующим смешком:
– Вот уж не думала, что это вас так поразит! – Она пододвинула кресло к огню и уселась, положив ногу на ногу в небрежной, даже слегка вызывающей позе. И стала молча разглядывать Антуана.
Антуан сел рядом.
– Вам кажется, что между ними что-то есть?
– Я этого не говорю, – живо произнесла она, – Во всяком случае, сам Даниэль об этом никогда не думал.
– А Жиз и того меньше, – вырвалось у него.
– Жиз и того меньше, вы правы. Но она явно интересуется им. Она выполняет все его поручения в городе, покупает ему газеты, chewing-gum[30]30
Жевательную резину (англ.).
[Закрыть]. Окружает его тысячью забот, которые он принимает, впрочем, с видимым удовольствием. Вы, очевидно, не заметили, что только на нее одну его дурное настроение не распространяется?
Антуан молчал. Мысль о возможности замужества Жиз сначала неприятно поразила его: он еще не совсем забыл прошлое, – то место, которое она, правда недолго, занимала в его жизни.
Но, поразмыслив немного, решил, что никаких препятствий к этому браку нет.
Николь потихоньку смеялась, и на щеках у нее образовались две ямочки. Однако в веселости ее чувствовалось что-то нарочитое, неестественное. "Уж не влюблена ли она сама в своего кузена?" – подумал Антуан.
– Ну согласитесь же, доктор, что моя мысль вовсе не так нелепа, продолжала настаивать Николь. – Жиз посвятит ему всю свою жизнь; преданность именно такой девушки, как она, может скрасить его существование... А Даниэль... – Николь медленно откинула голову назад, золотистые косы коснулись спинки кресла, и между влажными губами мелькнула полоска белых зубов. Она посмотрела на Антуана, плутовато прищурившись. – А Даниэль принадлежит к тем мужчинам, которые охотно позволяют себе любить... – У нее вырвался еле уловимый жест досады. За перегородкой заскрипели ступеньки старой, рассохшейся лестницы. – Вроде моего тифозного, около которого я дежурила прошлую ночь! – воскликнула она, меняя тему разговора с явно неестественной быстротой и лукавством, которые заставляли призадуматься. Уже пожилой человек, призыва девяносто второго года. – В комнату вошли Женни и Жиз, и Николь затараторила еще быстрее: – Когда он бредит, слов понять нельзя. Должно быть, потому что он из Савойи. Каждую минуту он зовет: "Мама!" – каким-то детским голосом. Прямо ужасно!
– Да, – сказал Антуан и почувствовал глупую гордость оттого, что сумел так ловко попасть ей в тон. – У меня тоже бывали подобные случаи. Но не заблуждайтесь: это, к счастью, бессознательная жалоба, инстинктивно возникающая из прошлого... Многие умирающие кричат "мама!", но мало кто из них действительно думает в это время о своей матери.
Женни принесла с собой коричневую шерсть, намереваясь смотать ее в клубок.
– Кто мне будет помогать сегодня? Ты, Николь?
– Я просто засыпаю, – призналась Николь, лениво улыбаясь. Она взглянула на часы. – Уже около десяти.
– Давай я, – предложила Жиз.
Женни отрицательно покачала головой:
– Нет, дорогая, ты тоже устала. Иди ложись.
Поцеловав Женни, Николь подошла к Антуану.
– Извините меня, мы уходим в госпиталь в семь часов, я всю ночь не спала.
Жиз тоже подошла проститься. У нее щемило сердце при мысли, что Антуан уезжает завтра, и что они до отъезда так и не успеют побыть наедине, и не будет больше той близости, которая установилась между ними в Париже. Но, боясь расплакаться, она ничего не сказала о своих чувствах и молча подставила для поцелуя лоб.
– Прощай, Негритяночка, – прошептал он нежно.
Жиз поняла, что он угадал ее мысли, что он тоже мучительно переживает их разлуку; и от этого разлука показалась ей вдруг не такой ужасной.
Стараясь не глядеть на Антуана, она вышла из комнаты вместе с Николь.
"Странно, что она не попрощалась с Женни", – подумал Антуан. Но не успел он решить, что же произошло между ними, как Женни быстро подбежала к дверям, остановила на пороге Жиз, положив ей руку на плечо.
– Боюсь, что я не так укрыла маленького, Закутай ему чем-нибудь ножки, хорошо?
– Розовым одеялом?
– Нет, белым, оно теплее.
И они расстались, опять не попрощавшись.
Антуан стоял посреди комнаты.
– А вы, Женни, разве не идете спать? Не оставайтесь ради меня, пожалуйста!
– Мне не хочется спать, – заявила она, опускаясь в кресло.
– Тогда будем работать. Я постараюсь заменить Жиз. Давайте моток.
– Ни за что на свете!
– Почему же? Разве это так трудно?
Он взял шерсть и сел возле нее на низеньком стульчике. Женни с улыбкой повиновалась...
– Вот видите, – сказал он, сделав несколько неверных движений, – теперь у нас дело пошло на лад.
Женни была удивлена и восхищена тем, что Антуан оказался таким простым, таким сердечным. И ей стало стыдно, что она, знавшая его так давно, раньше не замечала этих черт. Разве сейчас он не единственная верная ее опора? Антуан так сильно закашлялся, что отложил в сторону моток. "Только бы он выздоровел, – подумала она, – только бы он был здоров, как прежде!" Ради ее сына нужно было, чтобы Антуан выздоровел.
Когда приступ кашля прошел, он, снова берясь за работу, сказал без предисловий:
– Знаете что, Женни? Мне страшно приятно видеть вас такой. Я хочу сказать... Такой стойкой... такой спокойной...
Не подымая глаз от клубка, она задумчиво повторила:
– Спокойной...
И все же это была правда. Женни сама иной раз удивлялась, какой умиротворенностью было проникнуто ее горе. Обдумывая слова Антуана, она сравнивала теперешнее свое состояние с той полосой смятения, жестокой пустоты, через которую она прошла три с половиной года тому назад. Вспомнила, как в начале войны, не получая никаких известий от Жака и предчувствуя самое страшное, она то бурно предавалась отчаянию, то смирялась, страдая от бесконечного одиночества, но еще больше от присутствия людей, убегала от матери, из дома, будто в поисках чего-то жизненно ей необходимого, что ускользало, ускользало от нее, хотя, казалось, стоило протянуть руку – и оно уже здесь; иногда целыми вечерами она бродила по улицам преображенного мобилизацией Парижа и с упорством пилигрима вновь и вновь возвращалась в те места, по которым водил ее Жак: к Восточному вокзалу, к скверу у церкви св. Венсан де Поля, на улицу Круассан, в кафе возле Биржи, где она так часто поджидала его, сворачивала на узкие улочки Монружа, заглядывала там в зал для собраний, где однажды Жак поднял против войны негодующую толпу. Наконец усталость, ночь приводили ее, обессиленную, домой. Не сдерживая стона, она бросалась на ту самую кровать, где Жак держал ее в объятиях, засыпала на несколько часов и, просыпаясь, встречала новый день, еще один день печали... Конечно, по сравнению с тем временем теперешняя ее жизнь была бесконечно "спокойна". За эти три года все изменилось вокруг нее, в ней самой. Все – и даже образ Жака, который она хранила в сердце своем... Удивительно, до чего самая пылкая любовь бессильна против работы времени! Когда Женни думала о Жаке, она никогда не представляла его таким, каким бы мог он стать теперь; ни даже таким, каким он был в июле четырнадцатого года. В ее сознании возникал не прежний Жак, юный, горячий, вечно меняющийся... Она видела образ другого Жака, застывшего, недвижимого. Жака, который сидит, чуть повернувшись к ней; упершись рукой в бедро, а яркий отблеск света, падающего через широкие окна студии, лежит у него на лбу. Того, что изображен на портрете, денно и нощно бывшем у нее перед глазами.
И вдруг она поняла и ужаснулась. Она представила себе, что Жак неожиданно возвращается; и странное дело – почувствовала не только радость, но и смятение. Не стоило лгать себе. Если бы Жак четырнадцатого года был внезапно возвращен ей, явился каким-то чудом перед сегодняшней Женни, то, пожалуй, место, которое она свято хранила для него в душе, – верила, что хранит, – она не смогла бы вернуть ему неприкосновенным.
Женни подняла на Антуана взгляд, полный отчаяния. Но он ничего не заметил. Широко расставив руки, сжав кулаки, он старался натянуть моток как можно туже. Следя за сматываемой ниткой, он мерно подавался то вправо, то влево, буквально не смея отвести глаз от мотка. Он чувствовал себя немного смешным. До боли сводило плечи. Он упрекал себя за то, что необдуманно предложил свои услуги; а теперь от долгого сидения с поднятыми руками на низеньком стульчике с минуты на минуту усиливалась одышка; он знал, что ему вредно быть так близко от огня, и что, раздеваясь у себя в холодной комнате, он обязательно простудится...
Женни хотелось снова поговорить с ним о себе, о Жаке, о мальчике, – как нынче утром в спальне. Эти минуты необычной для нее откровенности были так сладостны, что она не переставала ощущать их целый день. Но вот опять она почувствовала себя скованной. В этом-то и заключалась ее внутренняя драма в этой неспособности к общению, в том, что она была обречена на вечную отчужденность. Самому Жаку не смогла бы она открыться вся, без недомолвок. Сколько раз упрекал он ее за то, что она "непроницаема". Эти воспоминания жгли ее, владели ею с прежней силой. Сумеет ли она подойти к своему сыну, когда он вырастет? Не оттолкнет ли его от себя, сама того не желая, своей сдержанностью, своей кажущейся холодностью?
Бой часов заставил их обоих одновременно поднять голову, и вдруг они поняли, что молчат уже несколько минут.
Женни улыбнулась.
– Знаете, остальные мотки придется оставить на завтра. Кончим только этот. Надо идти. – И, быстрым движением сматывая начатый клубок, она объяснила: – Не то Жиз заснет, и я ее разбужу... А она очень нуждается в отдыхе...
Антуан вспомнил две одинаковые постели и понял, почему Жиз не попрощалась с Женни на ночь. Они жили в одной комнате. Обе они спали под портретом Жака, рядом с детской кроваткой. И, представив мрачное детство, которое провела Жиз в доме г-на Тибо, он почувствовал радость: "Бедняжка Жиз нашла себе наконец семью". Слова Николь пришли ему на память. Выйдет ли она за Даниэля? Он, сам не зная почему, не верил в это. Впрочем, она может быть счастлива и без замужества. Может найти смысл жизни и радость жизни в близости Женни и Жан-Поля. Этим двум существам, в которых для нее оживал Жак, она отдаст всю свою нерастраченную нежность, свою преданность верного пса. А с годами еще больше станет походить на мулатку, темнокожая, с седыми волосами, станет старенькой и доброй "тетей Жи"...
Закончив мотать клубок, Женни поднялась, уложила шерсть в ящик, засыпала тлеющие поленья золой и взяла со стола большую керосиновую лампу.
– Дайте я снесу, – сказал Антуан не особенно уверенным тоном.
Он так хрипло и прерывисто дышал, что Женни решила избавить его от хлопот.
– Нет, благодарю. Я ведь привыкла. Я всегда ложусь последней.
У дверей она остановилась и, высоко подняв лампу, оглядела комнату, желая удостовериться, все ли в порядке. Медленно скользнув взглядом по старой гостиной, она повернулась к Антуану.
– Нет, я не хочу воспитывать его среди этой обстановки, – сказала она решительно. – Как только кончится война, я переменю жизнь. Уеду отсюда.
– Уедете?
– Я хочу покинуть все это, – повторила она твердо и убежденно. – Хочу уехать отсюда.
– Но куда? – Вдруг ему показалось, что он догадался. – В Швейцарию?
Женни ответила не сразу.
– Нет, – произнесла она наконец. – Об этом я, разумеется, думала. Но после Октябрьской революции все, кто были настоящими друзьями Жака, уехали оттуда в Россию... Одно время я сама подумывала о России... Но я решила, что Жан-Поль должен воспитываться во Франции. Я останусь во Франции, но уеду от мамы, уеду от Даниэля. Устрою жизнь по-своему. Быть может, где-нибудь в провинции. Все равно где, мы поселимся вместе с Жиз. Будем работать. И воспитаем маленького таким, каким он должен быть, каким хотел бы видеть его Жак.
– Женни, – взволнованно сказал Антуан, – надеюсь, что к тому времени я снова смогу работать, и моим долгом будет...
Она отрицательно покачала головой.
– Спасибо. От вас, в случае необходимости, я, не колеблясь, приняла бы помощь. Но я хочу сама зарабатывать. Я хочу, чтобы мать Жан-Поля была независимой женщиной, женщиной, которая своим собственным трудом завоюет себе право самостоятельно мыслить и действовать так, как она считает нужным... Вы порицаете меня?
– Нет, нисколько.
Женни поблагодарила его взглядом. Она, очевидно, высказала все, что у нее было на душе, отворила дверь и стала первая подыматься по лестнице.
Она вошла вместе с Антуаном в отведенную ему комнату. Поставила на стол лампу, посмотрела, все ли приготовлено на ночь. Потом протянула ему руку.
– Я хочу признаться вам в одной вещи, Антуан.
– Слушаю, – сказал он как можно ласковее.
– Ну вот... Я не всегда относилась к вам так, как отношусь сейчас.
– И я тоже, – ответил он, улыбаясь.
Увидев эту улыбку, она нерешительно замолчала. Ее рука лежала в руке Антуана. Взгляд стал серьезным. Наконец она решилась:
– Но сейчас, когда я думаю о будущем мальчика... Вы понимаете... я чувствую себя увереннее, когда думаю, что вы будете с нами, что ребенок Жака вам не чужой. Я нуждаюсь в советах, Антуан... Я хочу, чтобы Жан-Поль унаследовал все качества своего отца, не имея... – Она не посмела кончить фразу. Но тотчас же гордо выпрямилась (Антуан почувствовал, как дрогнули в его руке тонкие пальцы Женни). И, подобно всаднику, властно посылающему на препятствие непокорного коня, она, передохнув, заставила себя продолжать: Не думайте, Антуан, я не закрываю глаза на недостатки Жака. – Она снова замолчала, потом, как будто против своей воли, добавила, отводя глаза в сторону: – Но я забывала о них, когда он был со мной. – Ее ресницы затрепетали. Она не сумела найти нужных слов. И только спросила: – Вы утром позавтракаете с нами? Значит... – Она попыталась улыбнуться. – Значит, мы еще увидимся утром... – Высвободив свои пальцы из руки Антуана, она прошептала: – Спокойной ночи, – и ушла, не оборачиваясь.
XIII. На приеме у доктора Филипа
– Доктор Тибо! – радостно доложил старый слуга.
Филип в ожидании Антуана что-то писал. Он легко поднялся с места и своей подпрыгивающей, развинченной походкой пошел навстречу Тибо, остановившемуся у порога. Прежде чем взять руку Антуана в свою, он бросил на него быстрый внимательный взгляд, по привычке часто моргая живыми блестящими глазками. Голова его еле приметно тряслась. Он приветствовал гостя насмешливой улыбкой, которая помогала ему скрывать свои истинные чувства:
– Вы просто великолепны, друг мой, в небесно-голубом. Ну, что слышно?
"Как он постарел!" – подумал Антуан.
Филип сгорбился, и ноги, казалось, с трудом несли его длинное тощее тело. Лохматые брови, козлиная бородка окончательно побелели. Но в движениях, взгляде, улыбке чувствовалась юношеская живость, какая-то даже озадачивающая шаловливость, пожалуй, не совсем уместная для человека его лет. Филип носил старые, военного образца брюки, красные, с черными лампасами, и сильно выцветшую на отворотах куртку; и этот гибридный наряд достаточно точно символизировал его полугражданские, полувоенные функции. В конце 1914 года его назначили председателем комиссии по упорядочению санитарной службы армии, и с тех пор он неустанно боролся против недостатков системы, возмутительно скандальной в его глазах. Известность в медицинском мире обеспечивала ему полную независимость. Он восстал против официально установленных порядков, разоблачал злоупотребления, тормошил администрацию; и большинство удачных, хотя, к сожалению, запоздалых реформ, проведенных за эти три года в санитарной службе, во многом были результатом его мужественной и упорной борьбы.
Не выпуская из рук руки Антуана, Филип ласково тряс ее и, слегка причмокивая, бормотал:
– Ну, как?.. Ну, что?.. Сколько лет!.. Как дела? – Потом подтолкнул Антуана к письменному столу. – О стольком нужно поговорить, что прямо не знаешь, с чего начать...
Он усадил Антуана в кресло, которое предназначалось для пациентов, но сам не занял, как обычно, своего места за письменным столом, а взял стул, сел на него верхом и, придвинувшись к Антуану, начал пристально его разглядывать.
– Ну, друг мой! Поговорим о вас. В каком вы состоянии после этой истории с газами?
Антуан встревожился. Десятки раз ему приходилось видеть на лице доктора Филипа это напряженное внимание, эту профессиональную серьезность, но никогда еще они не были направлены на самого Антуана.
– Здорово меня потрепало, как на ваш взгляд?
– Немножко похудели! Но ничего страшного!
Филип снял пенсне, протер его, снова надел аккуратным движением, придвинулся к Антуану и сказал, улыбаясь:
– Ну, рассказывайте!
– Итак, Патрон, я принадлежу к тем, кого у нас почтительно именуют тяжелоотравленными, а это не очень-то весело.
Филип нетерпеливо шевельнулся на стуле.
– Ну, ну, ну... Начинать полагается с начала. Ваше первое ранение? Каковы его последствия?
– Последствия были бы ничтожны, если бы война для меня окончилась прошлым летом, до того, как я имел удовольствие познакомиться с ипритом... В конце концов, я и наглотался-то его не так уж много. И, по сути дела, вовсе не обязательно быть в таком состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Но слишком очевидно, что действие газа обострилось вследствие состояния правого легкого, которое после ранения потеряло свою нормальную эластичность.