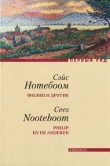Текст книги "Семья Тибо (Том 3)"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц)
Он поднялся по ступеням, вышел во двор, уселся на скамейку, залитую солнечным светом. Между лопатками мучительно ныло. И все же это длинное путешествие по железной дороге не так уж утомило его; ночью удалось полежать несколько часов. Но переезд с Лионского вокзала в стареньком такси по неровной булыжной мостовой буквально доконал его.
"Прямо детский гробик, – думал он. – Такая маленькая!" Он вспомнил, как Мадемуазель семенила по их квартире на Университетской улице, увидел ее фигурку, скромно примостившуюся на самом кончике стула перед инкрустированным секретером. "Моя фамильная мебель", – вот и все, что она привезла в дом г-на Тибо, который ей предстояло вести. Здесь, в потайном ящике, она держала деньги, которые ежемесячно выдавал ей г-н Тибо на хозяйство, там хранила все свои реликвии, держала сбережения. Сюда же она складывала сушеные ягоды и счета, бумагу для писем и палочки ванили, огрызки карандашей, выброшенные г-ном Тибо, проспекты и рецепты, иголки, пуговицы, крысиный яд, пластыри, саше, пропахшие ирисом, бутылочки арники, ключи от всего дома, и молитвенники, и фотографии, и огуречный крем для смягчения кожи рук; когда она отпирала секретер, приторный запах крема, смешанный с ароматами ириса и ванили, слышался даже в передней. Очень долго в глазах мальчиков, Антуана и Жака, этот письменный стол обладал всеми чарами сказочных сокровищ. Позже Жак и Жиз окрестили стол мадемуазель де Вез "галантерейно-бакалейным", потому что он был, как те деревенские лавчонки, где можно найти все, что душе угодно...
Шум шагов заставил его поднять голову. Люди в черном распахнули вторую створку двери и стали раскладывать венки прямо на земле, во дворе. Антуан поднялся.
Служба кончилась. Две монахини в тиковых передниках, волоча за собой большую груженную овощами корзину на колесиках, прошли мимо, потупив глаза, и скрылись в одном из строений в глубине двора. Во втором этаже раздвинулись шторы, и немощные старушки в ночных кофтах появились у окон. Другие, пободрее, выходили из часовни и, ковыляя, выстраивались по обе стороны паперти. Фисгармония умолкла. Серебряный крест, белый стихарь выплыли из полутьмы. Показался гроб, его несли двое мужчин. Сзади шли певчие, за ними старенький священник, за ним аббат Векар.
Жиз тоже поднялась по ступенькам и показалась в дверях, освещенная солнцем. За ней шагал г-н Шаль. Процессия остановилась, и факельщики, выступив вперед, стали убирать крышку гроба венками. Жиз смотрела на гроб глазами, полными слез. В выражении ее серьезного, повзрослевшего лица было что-то новое, поразившее Антуана: в мыслях Жиз всегда представлялась ему пятнадцатилетним подростком. "Она меня не видит. Она и не подозревает, что я здесь", – думал он и испытывал какую-то неловкость оттого, что может на свободе разглядывать ее, а она даже не догадывается о его присутствии. Он забыл, что у нее такой смуглый цвет лица. "Это, должно быть, от белой каемки на лбу..."
На г-не Шале были черные перчатки, в руках он держал какую-то допотопную шляпу; он вытягивал шею и вертел во все стороны своей маленькой птичьей головкой. Вдруг он увидел Антуана и быстро поднес руку ко рту, как бы желая заглушить крик. Жиз отвела глаза от гроба, и взгляд ее упал на Антуана. Она смотрела на него секунды две, будто не узнавая, потом бросилась к нему и зарыдала. Он неловко обнял ее. Но похоронная процессия снова двинулась в путь, и Антуан осторожно высвободился из объятий Жиз.
– Пойдем вместе, – шепнула она. – Не оставляй меня одну.
Она вернулась на прежнее место. Антуан последовал за ней. Г-н Шаль глядел на них с остолбенелым видом.
– Ах, это вы? – пробормотал он как бы сквозь сон, когда Антуан протянул ему руку.
– Кладбище далеко? – спросил Антуан у Жиз.
– Наш склеп в Левалуа... Есть кареты, – ответила она тихо.
Кортеж медленно пересек двор.
Катафалк, запряженный парой лошадей, ждал на улице. Местные жители, взрослые, дети, выстроились у края тротуара. К старым извозчичьим дрогам было прилажено что-то вроде закрытого кузова на три сиденья, высоко, как паланкин на спине слона. Лезть туда пришлось по ступенькам. Места предназначались для Жиз, для г-на Шаля и распорядителя похорон; но распорядитель уступил свое место Антуану, а сам вскарабкался на сиденье рядом с кучером в треуголке. Экипаж тряхнуло, и он покатился, подпрыгивая на неровной мостовой. Оба священника ехали следом в траурной карете.
Антуан с трудом взобрался на сиденье и тут же почувствовал боль в бронхах. Сразу же начался жестокий приступ кашля, и с минуту он сидел, зажав рот платком, низко наклонив голову.
Жиз поместилась между Антуаном и г-ном Шалем. Она переждала приступ и тронула Антуана за руку.
– Как хорошо, что ты приехал... Я тебя совсем не ждала!
– По нынешним временам нужно ждать всего, – рассудительно вздохнул Шаль. Он придвинулся ближе и с любопытством присматривался поверх очков к кашлявшему Антуану. Затем покачал головой. – Простите. Я не сразу вас узнал. Вы так изменились... Не правда ли, мадемуазель Жиз?
Антуан не мог подавить неприязненное чувство. Тем не менее он постарался ответить как можно любезнее:
– Да... Я изрядно похудел. Иприт!
Жиз повернулась к нему, вдруг испугавшись его замогильного голоса. В первые мгновения, там, во дворе, ее тоже поразил вид Антуана, но тогда она не успела его как следует разглядеть. Впрочем, ничего не было удивительного в том, что он изменился за эти пять лет разлуки; да еще эта военная форма. Мысль, что его болезнь может быть гораздо серьезнее, чем она считала, внезапно пришла ей в голову. Она знала, что Антуан отравлен газами, и только. Знала, что лечится он на юге. "Я на пути к выздоровлению", – гласили его письма.
– Иприт? – самодовольно, с видом знатока повторил Шаль. – Чудесно. Газ, который был впервые применен под Ипром. Его называют также "горчичным"... Последнее слово техники. – Он по-прежнему с любопытством разглядывал Антуана. – Вас, должно быть, здорово пробрал этот газ... Но зато вы получили военный крест. И с пальмовыми ветвями, поскольку мне известно. А это большая честь.
Жиз взглянула на китель Антуана. В своих письмах он ни словом не обмолвился о награждении.
– А врачи? – решилась она спросить... – Что они говорят? Долго тебе еще оставаться в клинике?
– Выздоровление идет медленно, – признался Антуан. Он попытался улыбнуться. Хотел что-то добавить, глубоко вздохнул и замолчал: лошади трусили по мостовой, и от толчков у него захватывало Дух.
– В нашей конторе изобретений мы продаем все необходимое для военных, и противогазовые маски тоже, – выпалил одним духом Шаль, любезно осклабясь.
Жиз, желая доставить ему удовольствие, спросила:
– А как идет ваша торговля, господин Шаль? Хорошо?
– Да идет помаленьку, идет... Как и все в нынешние времена, мадемуазель Жиз! Приходится приспосабливаться. У нас забрали на фронт всех изобретателей; а на фронте, черт побери, они ничего путного не делают... Иногда, конечно, кому-нибудь приходит в голову интересная мысль. Например, наше "Лото Антанты". На днях выйдет... Портативное... Картинки на мотив военных операций: Марна, Эпарж, Дуомон71
[Закрыть]... Большой успех у фронтовиков... Приходится приспосабливаться, мадемуазель Жиз...
"Зато ты нисколько не переменился", – подумал Антуан.
Из Пуан-дю-Жур в Левалуа катафалк ехал Внешними бульварами. Радостный и сияющий вставал воскресный день. Уже пригревало солнце. У фортов разгуливали солдаты. Парижанки в светлых платьях направлялись через ворота Дофина в Булонский лес с детьми, с собачками; вдоль тротуаров стояли тележки, полные цветов. Как когда-то...
– А от... чего она... умерла? – спросил Антуан. Голос его прерывался от толчков.
Жиз круто повернулась к нему:
– Отчего? Бедная тетя... Она, как говорится, вся изболелась. Желудок, почки, сердце. Целыми неделями у нее не работал желудок. В последнюю ночь сердце внезапно сдало. – Она помолчала. – Ты представить себе не можешь, как изменился ее характер за последнее время, с тех пор как она переехала в Убежище... Ничем, кроме себя, не интересовалась. Ее режим, ее здоровье, ее сберегательная книжка. Тиранила сиделок, монахинь. Да, да! Жаловалась на всех: ей казалось, что ее преследуют. Даже обвинила свою соседку, что та ее обокрала: вышла целая история... Тетя по суткам не пила: думала, что сестры хотят ее отравить.
Жиз снова замолчала: никто не произнес ни слова. Молчание она истолковала превратно – приняла его за упрек. Потому что в последние дни ее мучила совесть: она спрашивала себя, все ли сделала, что должна была сделать для тетки. "Ведь она воспитала меня, – твердила про себя Жиз, – а я ушла от нее при первой же возможности; и в Убежище я ее почти не навещала".
– В Мезоне, – снова заговорила она, повысив немного голос, как будто желая оправдаться, – мы так поглощены вашим госпиталем... Пойми, мне нелегко было выбраться. Последние месяцы особенно; я ее почти не видела. А потом настоятельница мне написала, и я тут же приехала. Никогда не забуду... Бедная тетя... Сидела в самом углу комнаты, где висели ее платья, – на чемодане, в рубашке и в белой холщовой юбке, чепец сбился набок. Одна нога в чулке, другая голая. Она высохла вся, как скелет. Лоб торчит, щеки ввалились, шея тощая... Но удивительно – нога у нее была совсем молодая, даже юная: нога как у девушки... Она ничего не спросила – ни про меня, ни про кого. Сразу начала жаловаться на своих соседок, на монахинь. А потом открыла свой секретер, помнишь его? Ей захотелось показать мне ящичек, где она хранила свои сбережения, "чтобы оплатить все расходы". И тут она начала говорить о своем погребении: "Ты меня больше не увидишь. Я скоро умру!" А потом сказала: "Но ты не бойся, я скажу настоятельнице, чтобы она все-таки высылала тебе деньги на рождество". Я попробовала было пошутить: "Тетя, ты уже лет десять твердишь, что скоро умрешь". Она рассердилась на меня: "Я хочу умереть! Я устала жить!" И потом взглянула на свою ногу: "Посмотри, какая у меня крошечная ножка. А у тебя всегда были лапищи, как у мальчишки". Прощаясь, я хотела ее поцеловать, но она меня оттолкнула: "Не целуй меня. От меня плохо пахнет, старостью пахнет..." И тут заговорила о тебе. Я была уже у дверей; она меня окликнула: "Знаешь, у меня выпало шесть зубов. Прямо рву их, как редиску!" И так весело рассмеялась своим смешком, помнишь? "Шесть зубов. Скажи об этом Антуану... Если он хочет меня увидеть, пусть поторопится".
Антуан слушал. Слушал с волнением: с недавних пор его стали интересовать рассказы о болезнях, о смертях. Кроме того, болтовня Жиз позволяла ему молчать.
– Это было твое последнее посещение?
– Нет. Я приезжала еще недели через две. Она написала мне, что соборовалась. В комнате было темно. Тетя не могла выносить дневного света... Сестра Марта подвела меня к постели. Тетя лежала, скорчившись под пуховиком, совсем крошечная... Сестра попыталась вывести ее из оцепенения: "Это ваша любимица Жиз!" Пуховик зашевелился. Не знаю, поняла ли она, узнала ли меня. Вдруг она сказала очень четко: "Как это долго!" – а через минуту: "Что слышно о войне?" Я стала ей рассказывать, но она не ответила, очевидно, не понимала. Несколько раз перебивала меня: "Ну? Что же нового?" А когда я хотела поцеловать ее в лоб, она меня оттолкнула: "Ты меня растреплешь!" Бедная тетя... "Ты меня растреплешь!" – последние ее слова.
Шаль утер глаза платком. Потом аккуратно сложил платок и неодобрительно пробормотал сквозь зубы:
– И не нужно было... Не нужно было трепать ее волосы!
Жиз быстро опустила голову, и невольная улыбка, юная и лукавая, прошла, как отблеск, по ее лицу. Антуан уловил эту улыбку, и Жиз вдруг стала очень близкой: захотелось назвать ее, как прежде, Негритяночкой и поддразнить, как в былые времена.
Карета въехала в ворота заставы Шамперре и остановилась для совершения необходимых формальностей. На площади стояли зенитные пушки, пулеметы и прожекторы, закамуфлированные чехлами, возле них расхаживали часовые.
Когда кортеж снова двинулся и выехал на шумные улицы Левалуа, Шаль вздохнул:
– Ах! А все-таки она была счастлива в Убежище, наша славная Мадемуазель! Того же и себе желаю, господин Антуан: мужскую богадельню, но, конечно, благоустроенную... Там будет спокойно... Не придется ни о чем больше думать... – Он снял очки, вытер их. Без очков он щурился, и взгляд у него оказался кроткий и восторженный. – Я оставлю им ренту, которую получил от вашего отца, – продолжал он, – у меня будет кров над головой до конца моих дней... Смогу понежиться в постели, смогу подумать о своих делах... Я побывал тут в одной богадельне, в Ланьи. Но по нынешним временам этот район небезопасен, слишком на Востоке. А с этими бошами ничего нельзя знать. Да и бомбоубежища настоящего там нет... Значит, это вообще не настоящее убежище. А по нынешним временам нужны настоящие убежища.
Он произносил "по нынешним временам" жалобным голосом, заслоняя лицо руками в черных перчатках, как будто оборонялся от слишком зловещих предзнаменований. Шведские перчатки были не по руке, и ссохшиеся кончики потертых пальцев противно закручивались, как завитки раковины.
Антуан и Жиз молчали. Им уже не хотелось улыбаться.
– Ни в чем нельзя быть уверенным, нигде нет покоя, – продолжал Шаль жалобным голоском. – Только во время ночной тревоги... когда есть надежное убежище. Тогда спокойно... В доме номер девятнадцать, напротив нас, есть хорошее убежище. – Он помолчал с минуту потому, что Антуан раскашлялся. Потом добавил: – Видите ли, господин Антуан, ночи в убежище – по нынешним временам это лучшее, что может быть.
Карета ехала вдоль длинной стены.
– Должно быть, здесь, – сказала Жиз.
– А отсюда ты куда? – спросил Антуан.
Он крепко налегал плечами на спинку тяжелой колымаги, чтобы смягчить толчки, от которых у него ломило все ребра.
– К тебе, на Университетскую улицу, конечно... Я там уже с позавчерашнего дня. Карета довезет нас до дому. Деньги уже заплачены.
– Лучше попытаемся найти хорошее такси, – сказал Антуан, улыбаясь. Взгромоздившись в паланкин, он боялся вылезти из него, боялся и оставаться в нем. Поэтому он твердо решил добраться до дому каким-нибудь иным способом.
Жиз удивленно взглянула на Антуана. Но ничего не спросила.
Впрочем, карета уже въехала в ограду кладбища.
III. Антуан возвращается к себе
– Ну, теперь держатся все. Можешь посидеть так десять минут?
– Хоть двадцать, если тебе угодно.
Антуан сидел верхом на стуле перед маленьким письменным столом в своей комнате на Университетской; на голой спине у него было восемь банок.
– Смотри, – сказала Жиз, – не простудись.
Она взяла свою накидку сестры милосердия, которую при входе бросила на стул, прикрыла ему плечи.
"Какая она добрая, милая, – подумалось ему, и он не без волнения ощутил, что где-то в глубине таится прежняя нежность к ней, согревавшая сердце. – Почему я чуждался ее последние годы? Почему не писал ей?" Он вспомнил вдруг свою розовую комнату в Мускье, где шесть girls задирали над зеркалом ноги, вспомнил общий стол, заботливые, но грубые руки Жозефа. "Как хорошо бы остаться здесь, а Жиз ухаживала бы за мной".
– Я не закрою двери, – сказала Жиз. – Если я тебе понадоблюсь, кликни меня. Пойду приготовлю кормежку.
– Нет, нет, только не кормежку, – резко ответил он, – нет, хватит кормежек за эти четыре года.
Жиз улыбнулась и вышла из комнаты, он остался один.
Один, – ощущая прелесть вновь обретенного уюта и воплотившейся мечты о женской нежности, озаряющей изголовье.
И один на один с запахами, – они охватили его сразу, как только он вошел в переднюю и машинально повесил кепи на тот самый крюк, на который раньше вешал шляпу; и потом, жадно раздув ноздри, он с ненасытным любопытством принюхивался к запахам своего дома, которые, казалось, совсем забыл и, однако, узнавал сразу: еле уловимые, неясные, почти не поддающиеся определению и как будто исходившие разом от обоев, ковров, занавесей, от кресел и книг, чуть ощутимо наполняющие весь этаж пронзительным духом затхлости, сукна, мастики, табака, кожи, лекарств...
Возвращение с кладбища, откуда они по дороге заехали на Лионский вокзал за чемоданом, показалось ему нескончаемо долгим. Боль в боку стала нестерпимой, одышка усилилась; и, вылезая у подъезда из автомобиля, совсем разболевшийся, он горько упрекал себя за то, что предпринял эту поездку. К счастью, он захватил с собой все необходимое, и после укола одышка поутихла. Потом под его наблюдением Жиз поставила восемь банок; они уже начали действовать, бронхи прочистились, дышать стало легче.
Сложив худые руки на спинке стула, он сидел неподвижно, нагнув голову, выпрямив торс и почти нежным взором оглядывая знакомые вещи. Он не мог и предполагать, что так взволнуется при виде своей квартиры, своего небольшого письменного стола. Ничто не переменилось здесь. В одну минуту Жиз сняла чехлы с мебели, расставила кресла по местам, открыла ставни, до половины опустила шторы. Ничто не изменилось, и, однако, все поражало своей неожиданностью: эта комната, где некогда он проводил все свое время, была ему одновременно и близкой и чужой, как воспоминания детства, возникающие неожиданно и с предельной ясностью галлюцинации, вдруг, после долгих лет полного забвения. Взгляд его с любовью скользил по прекрасному бежевому ковру, по кожаным креслам, дивану, подушкам, по камину, где стояли часы, по книжным полкам. "Неужели было время, когда меблировка квартиры казалась мне жизненно важным делом?" – думал он. Он знал наперед название каждой книги, будто только накануне перебирал их, – хотя за четыре года ни разу не вспомнил о своей библиотеке. Каждая вещица, каждый предмет – круглый столик, черепаховый разрезательный нож, бронзовая пепельница с драконом, ящичек для сигарет напоминали ему какой-нибудь момент его жизни; он помнил, где и когда их купил, мог назвать имя благородного пациента, оправившегося после болезни, развитие которой Антуан и сейчас описал бы; предметы напоминали разное: жест Анны, какое-нибудь замечание Халифа, слова отца. Ибо этот кабинет служил когда-то туалетной комнатой г-ну Тибо. Стоило Антуану закрыть глаза, и снова он видел перед собой громоздкий умывальник красного дерева, зеркальный шкаф, медный таз для ножных ванн, деревянную машинку для снимания сапог в углу... И если бы эта комната оказалась такой, какой Антуан знал ее в годы детства, он, возможно, удивился бы меньше ее внешнему виду, чем теперь, когда она была обставлена по его собственному вкусу.
"Странно, – подумалось ему. – Когда я входил в подъезд, мне уже показалось, будто я иду не к себе домой, а к Отцу".
Он снова открыл глаза и увидел на низеньком столике возле дивана телефон. И внезапно молодой человек, который столько раз брал в руки эту трубку, представился ему – цветущий, гордый своей силой, властный, вечно в движении, неугомонно счастливый тем, что он живет и действует. Между ним и этим молодым человеком лежали четыре года войны, бунта и раздумий; он пережил долгие месяцы страданий, внезапную потерю здоровья, преждевременную старость, которая каждую минуту напоминала о себе. Вдруг почувствовав, что теряет силы, он прислонился лбом к спинке стула. Настоящее отступало перед прошлым. Отец, Жак, Мадемуазель – их нет больше. Прежняя жизнь семьи предстала перед ним такой, какой он ее видел, когда был молод и здоров. Что бы он не дал, чтобы вернуть это прежнее! Сожаление о том, что ушло, слилось с его теперешней печалью. Он чуть было не позвал Жиз, лишь бы не оставаться одному. Но пока у него еще хватало сил справляться с собой. Посмотреть правде в глаза. Все дело в здоровье. Прежде всего – выздороветь. Он решил, не откладывая, серьезно поговорить со своим учителем, доктором Филипом: они вместе придумают лечение "более эффективное и радикальное". Те методы, которые применяются в Мускье, окончательно его обессилят. Даже странно, что он стал таким немощным, Филип... Жиз... Мысли его смешались. Увезти Жиз в Мускье. Выздороветь. Внезапно он задремал.
Когда через несколько минут он проснулся, Жиз сидела на ручке кресла и глядела на него. Она хмурила брови – сосредоточенно, отчасти даже с тревогой. Он увидел ее простое, ничего никогда не умевшее скрывать лицо и все понял.
– Я стал совсем уродом, правда?
– Нет, просто похудел.
– С осени я потерял девять кило.
– А сейчас тебе лучше?
– Значительно.
– У тебя голос немного... глухой. (Из всех происшедших с ним перемен Жиз больше всего поражал этот слабый, сиплый голос.)
– Сейчас еще ничего. А иногда, особенно по утрам, я совсем не могу говорить.
Помолчали, потом она вскочила с кресла.
– Снимать?
– Ну, снимай!
Жиз пододвинула стул, села рядом с Антуаном, просунула руку под накидку, чтобы его не простудить, и осторожно стала снимать банки. Она клала их одну за другой себе на колени, потом, взявшись за кончики передника, встала и унесла, чтобы ополоснуть.
Он поднялся; убедившись, что дышать стало гораздо легче, он осмотрел в зеркало свою костлявую спину, покрытую лиловыми кругами, и стал одеваться.
Когда Антуан вышел в столовую, Жиз уже накрывала на стол.
Он оглядел просторную комнату, два десятка стульев, стоявших в ряд у стены, буфет с мраморной доской, за которым в былые времена царил Леон, и сказал:
– А знаешь, как только война кончится, я продам дом.
Жиз недоуменно обернулась и, продолжая расставлять тарелки, пристально поглядела на Антуана.
– Продашь дом?
– Я ничего не хочу оставлять из этих вещей. Ничего. Сниму маленькую квартирку, простую, недорогую. Я...
Он улыбнулся. Он и сам еще не знал хорошенько, что он сделает, но в одном был уверен: вопреки всему, что казалось таким реальным еще нынче утром, он никогда не вернется к прежнему образу жизни.
– Эскалоп, лапша с маслом, клубника. Угодила? – сказала Жиз. Она отказывалась понимать неприязнь Антуана к этой жизни, которую он сам устроил полностью по своему вкусу. Лишенная воображения, она не слишком интересовалась планами на будущее.
– Ты совсем захлопоталась, милая хозяюшка, – заметил Антуан, оглядывая стол.
– Через десять минут все будет готово. Вот только салфетки найду.
– Я сам поищу.
Чуть ли не всю бельевую занимала складная кровать, – ее так и не сложили, не прибрали. В ямке матраса Антуан увидел четки. На стульях в беспорядке лежала одежда.
"Почему она не ночует в угловой комнате?" – подумал он.
Антуан открыл дверцы одного шкафа, затем второго, третьего. Все три шкафа были набиты новым бельем. Тут были простыни, наволочки, купальные халаты, тряпки, фартуки. Стопки белья – не распакованные еще и перевязанные красной тесемкой. Он пожал плечами. "Какая нелепость. Оставить только самое необходимое. Все прочее на продажу!" Однако он притянул к себе стопку салфеток и вытащил две.
"Знаю почему! Она просто не хотела ночевать в той комнате, потому что там жил раньше Жак..."
Он шел по коридору медленным шагом, рассеянно ощупывая стены, выкрашенные масляной краской, приоткрывая двери и с любопытством заглядывая в комнаты, будто осматривал чью-то незнакомую квартиру.
В передней он остановился перед двустворчатой дверью, которая вела в его приемную. Он колебался. Наконец повернул ручку двери. Ставни были закрыты. Мебель, покрытую чехлами, сдвинули к книжным шкафам. Комната казалась поэтому еще больше. Солнце пробивалось между щелями ставен, и в рассеянном свете кабинет был похож на огромную провинциальную гостиную, куда хозяева заходят только по случаю приезда гостей.
Ему вспомнились последние дни июля 1914 года, газеты, которые приносил Штудлер, споры, тревоги... И посещения Жака. Кажется, Жак приходил к нему вместе с Женни? Не в самый ли день мобилизации?
Прислонившись к косяку, он потихоньку внюхивался в здешний запах – это был все тот же запах, но более стойкий, более крепкий, чем в других комнатах, а также какой-то другой, душистее... Посредине стоял большой, министерский письменный стол, накрытый простыней и оттого похожий на детский катафалк.
"Что они здесь нагромоздили?"
Наконец он решился войти и приподнял простыню. Весь письменный стол был завален пачками газет и брошюрами. Сюда с первых же дней войны консьержка сносила кипы справочников, множество каталогов, газет, журналов, а также проспектов, которые присылали ему лаборатории.
"Чем же здесь все-таки пахнет?" – повторял он про себя. К привычному запаху примешивался какой-то другой, тяжелый, немного напоминавший аромат бальзама.
Антуан машинально разорвал бандероль с каким-то медицинским журналом, перелистал его. И вдруг он подумал о Рашели. Почему не об Анне? Ведь он не вспоминал о Рашели уже многие месяцы. "Что с ней сталось? Где она теперь? Должно быть, в тропиках со своим Гиршем, далеко от Европы, далеко от войны". Он отложил на камин несколько брошюр, чтобы взять их с собой в Мускье. Сейчас в этих журналах засели сплошь старые врачи, не подлежащие мобилизации. Им-то лафа! Вот они и пользуются и печатают всякую заваль!.. Он пробегал глазами оглавления. Изредка попадалась статья, присланная из фронтового госпиталя: какой-нибудь молодой врач, урвав свободный час, описывал интересный случай из своей практики. Главным образом хирург... Хоть в чем-то война пошла на пользу: хирургия двинулась вперед. Он копался в этой куче, вытаскивал наудачу какую-нибудь брошюрку и бросал на камин. "Если бы только я мог дописать статью насчет заболеваний дыхательных органов у детей, Себийон, конечно бы, ее напечатал в своем журнале".
Пакет, оклеенный разноцветными марками, не похожий на другие, привлек его внимание. Антуан взял его в руки и понюхал; снова он почувствовал этот странный аромат, который уже привлек его внимание, а теперь разбудил любопытство; поводя ноздрями, он прочел на конверте фамилию отправителя: "Мадемуазель Бонне. Госпиталь в Конакри. Французская Гвинея". Марки были проштампованы мартом 1915 года. Три года назад. В недоумении вертел он пакет в руках, взвешивал на ладони. Лекарство? Духи? Он разорвал бечевку и высвободил из бумаги ящичек прямоугольной формы из какого-то коричнево-красного дерева, плотно забитый гвоздями. "Хм. А как же он открывается?" Антуан поискал глазами какой-нибудь инструмент. Чуть было не отложил ящичек, но вспомнил, что в кармане у него нож, привезенный еще с фронта. Лезвие со скрипом скользнуло по краю ящичка; легкий нажим – и крышка подалась. Одуряющий запах коснулся его ноздрей, запах восточного курения, ладана, мирры, запах знакомый, но которого он, однако, не мог узнать. Осторожно, кончиками пальцев он раздвинул слой опилок: показались маленькие желтоватые шарики, блестящие, но запыленные. И вдруг прошлое ударило ему прямо в лицо: эти желтые зерна – ожерелье из янтаря и мускуса! Ожерелье Рашели!
Он держал ожерелье между пальцами и бережно перетирал зерна. Взгляд его затуманился. Рашель... Ее белоснежная шея, завитки на затылке... Гавр, ее отъезд на "Романии" ранним утром... Но откуда это ожерелье? Кто такая мадемуазель Бонне из Конакри? Март 1915 года... Что все это означает?
Услыхав шаги в коридоре, он быстро спрятал ожерелье в карман. Жиз искала его, пора было завтракать. Она остановилась на пороге, втянула воздух.
– Как странно пахнет!
Антуан накинул простыню на груду брошюр и лекарств.
– Они ведь сюда свалили все лекарства.
– Ты идешь? Все готово.
Он пошел за ней. Ладонь чувствовала, как теплеют в кармане холодные зерна. Он думал о золотисто-белой коже Рашели.
IV. Антуан и Жиз завтракают вдвоем на Университетской улице
Когда они уселись рядом в конце длинного стола, Жиз набралась храбрости:
– А теперь поговорим серьезно о твоем здоровье.
Антуан поморщился. Он вообще сам охотно говорил о себе, о своей болезни, о своем лечении, но ему было приятно, чтобы его просили рассказывать, и поэтому он не спешил отвечать на ее вопросы. Он сразу заметил, что вопросы были неглупые. Оказывается, их маленькая Жиз, к которой он всегда относился как к ребенку, за три года работы в госпитале набралась кое-каких знаний. С ней можно было поговорить о медицине. И это еще больше сблизило их. Видя, как внимательно она слушает, Антуан подробно описал свой "случай", все фазы, которые прошла его болезнь за последние месяцы. Если бы Жиз отнеслась к его рассказу легкомысленно или наговорила ему кучу ободряющих слов, он, возможно, преувеличил бы свои опасения. Но она слушала с таким напряженным вниманием, смотрела таким озабоченным, испытующим взглядом, что он перешел на самый успокоительный тон и заключил:
– В конечном счете я выкарабкаюсь. (Он и в самом деле в глубине души думал так.) Как скоро, правда, неизвестно, – с надеждой добавил он, улыбаясь. – Выкарабкаться-то я выкарабкаюсь... Только вот – поправлюсь ли совсем? Вообрази, что я останусь калекой, с больной гортанью или с поврежденными голосовыми связками, смогу ли я работать тогда, как прежде? Пойми, мне мало одного сознания, что я останусь жить. Меня нисколько не прельщает перспектива вести существование получеловека. Я должен быть уверен в том, что буду так же здоров, как прежде! Но это как раз менее вероятно!
Жиз перестала жевать, чтобы лучше слушать, лучше вникнуть в его слова. Она не мигая смотрела на него круглыми, удивленными глазами, детскими и преданными, как у существ примитивных. Нежность, внимательность, которых он был лишен в течение последних лет, казались ему сейчас особенно сладостными. Он засмеялся тихо, с надеждой:
– Менее вероятно, но не невозможно. При упорстве нет ничего невозможного!.. До сих пор я добивался всего, чего сильно желал. Почему же мне не удастся на сей раз?.. Я хочу выздороветь. И выздоровею.
При последних словах он повысил голос, закашлялся и вынужден был замолчать. Приступ был очень сильный и длился несколько минут, а Жиз тем временем, склонившись над тарелкой, украдкой наблюдала за ним. Она пыталась успокоить себя: "Он добьется того, чего захочет. Он будет лечиться. Он выздоровеет".
Когда Антуан перестал кашлять, она повернулась к нему. Он знаком показал, что хочет помолчать.
– Выпей воды, – сказала Жиз, наливая воду в свой стакан. И, не в силах удержать вопрос, который уже давно готов был сорваться с ее губ, она спросила:
– А сколько дней ты пробудешь с нами?
Он ничего не ответил. Именно этого вопроса хотелось ему избежать. На самом деле его отпустили на четыре дня. Но он решил сократить отпуск. Ему вовсе не улыбалась перспектива провести в Париже четыре долгих дня, довольствоваться случайным уходом, без конца уставать.
– Сколько же? – повторила она, обратив к нему вопросительный взгляд. Неделю? Шесть дней? Пять?
Он отрицательно покачал головой. Глубоко вздохнул, улыбнулся и только тогда ответил: