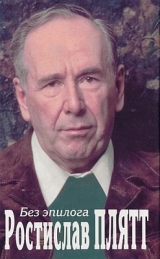
Текст книги "Без эпилога"
Автор книги: Ростислав Плятт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Любовь Орлова
Когда на спектакле нашего театра «Милый лжец» Любовь Петровна произносила реплику своей героини Патрик Кэмпбелл: «И мне никогда не будет больше тридцати девяти лет, ни на один день!» – в зрительном зале вспыхивали аплодисменты на каждом спектакле. И в адрес не персонажа, а актрисы – за ее неувядаемость!
Однажды, во время наших гастролей в Виннице, в свободный от «Милого лжеца» день, Любовь Петровна давала свой творческий вечер в помещении здешнего театра. Я был там. Когда Любовь Петровна появилась на сцене, начались положенные аплодисменты. Любовь Петровна, улыбаясь, поклонилась зрителям и, приветливо оглядывая зрительный зал, медленно двинулась из глубины сцены к рампе. Аплодисменты между тем росли, ширились, наконец все в зале встали.
Я никогда этого не забуду – Любовь Петровна не произнесла еще ни слова, а аплодисменты гремели, авансом, так сказать, в благодарность за то, что она есть.
Ей были свойственны азарт, риск и творческая смелость. В 1946 году, когда еще шли съемки комедии «Весна», где Любовь Петровна снималась в двух ролях, решился вопрос о постановке в нашем театре пьесы Симонова «Русский вопрос» с ее участием в центральной женской роли Джесси. Работа в «Весне» задерживалась. Любовь Петровна была вынуждена пропустить тот период репетиций, который мы называем «застольным», работала над ролью дома и явилась в театр, когда репетиции уже были перенесены на сцену.
Отчетливо помню, как Любовь Петровна появилась в дверях зрительного зала, осмотрелась, затем, широко шагая в черных спортивных брюках, пересекла партер, поднялась на сцену и с ходу включилась в работу. Можно сказать, что она бесстрашно окунулась в незнакомое – не забудьте, что она не была артисткой драматического театра. Ее театральное прошлое исчерпывалось пребыванием в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где она жила в атмосфере опереточного спектакля, танцев и пения. И вот драматическая роль Джесси.
Поначалу Любовь Петровна репетировала несколько наивно, кадрами, это был уже кинорефлекс, но постепенно она все глубже и тоньше проникалась внутренним миром роли, крепко ухватила ее нерв и к премьере вышла победительницей. «Русский вопрос» шел тогда в Москве в четырех театрах, кроме нашего: во МХАТе, в Малом, в Театре имени Вахтангова и Театре имени Ленинского комсомола. Конкуренция была солидная. Но когда появились обзорные статьи, лучшей Джесси была названа Орлова – так звонко и радостно началась ее жизнь актрисы драматического театра, позднее не омрачавшаяся никогда. Так сыграла она у нас вслед за Джесси Лиззи Маккей в одноименной пьесе Сартра, ибсеновскую «Нору», Лидию в спектакле «Сомов и другие» Горького, Патрик Кэмпбелл в «Милом лжеце» и последнюю по времени «Странную миссис Сэвидж». Она многое еще собиралась сделать…
Мы, ее партнеры по спектаклям, – уверен, что могу говорить от имени всех партнеров, – вспоминаем ее не только как замечательную актрису, но и как великолепного товарища, веселого, доброго, на редкость отзывчивого человека и труженика, скромного, несмотря на всю ее «звездность». Да, мы часто и не без оснований берем в иронические кавычки слово «звезда» применительно к среде искусства, но Любовь Петровна была действительно и по праву «звездой», причем не холодной. Знаете, как говорят – «холодный блеск далеких звезд». Это не про нее. Она светилась радостью, красотой, весельем и счастьем, и этот ее свет бесконечно радовал и согревал людей. Я думаю, что ей достаточно было сняться в трех фильмах Александрова – в «Веселых ребятах», «Цирке» и «Волге-Волге», – чтобы занять свое неоспоримое место первой «звезды» советского экрана. Надо ли говорить, как любит наш народ юмор, танец, песню, а Любовь Петровна аккумулировала в себе все эти качества, как подлинно синтетическая актриса. Но ведь еще был «Светлый путь», та же «Весна» и еще много самых разных фильмов, где ей удалось показать сверкающие грани своего дарования. Популярность ее в народе была легендарна. Я много ездил с Любовью Петровной по нашей стране, да и за рубежом был свидетелем ее триумфов, а когда выступал без нее, отдельно, то при встрече с кинозрителями привык слышать не только личные просьбы: «Расскажите об Орловой», но и рассказы про Орлову, творимые уже самими зрителями.
Так легенда об Орловой продолжается и будет жить.
Михаил Названов
Вспоминая Мишу Названова, я часто думаю о том, какими богатыми данными одарила его природа и как великолепен бывал он на сцене, когда пользовался этими своими данными хитро и… экономно.
В самом деле, он обладал всем, что требуется, выражаясь старинно, для амплуа героя-любовника, любимца публики. Рост, голос, и не только драматический, но и вокальный, интересное лицо, осанка, пластичность.
А я любил те его образы, где перечисленное не играло решающей роли, ибо глубоко убежден в том, что интереснее всего он раскрывался как актер характерный.
Мне не довелось видеть его ранние работы на сцене нашего Театра имени Моссовета, такие, как, например, боец Остапенко во «Фронте» Корнейчука или фашист Розенберг в «Русских людях» Симонова, но само сопоставление этих ролей, сыгранных одна за другой крайне выразительно, по отзывам прессы и товарищей по театру, говорит о многом. В частности, о его владении характерной речью. Отмечалось, что и украинский, и немецкий акценты он передавал виртуозно. Легко представляю себе это, ибо сам отчетливо помню его в «Олеко Дундиче», где он играл заглавную роль. Я имею в виду сцену бала, лучшую, на мой взгляд, его сцену в роли. Дундич, пробравшись в самое логово врага, в ставку генерала Мамонтова, вынужден на балу прикидываться душкой-офицером. Он чарует полковых дам французским прононсом и блеском светских манер. И вдруг резкое переключение, и мы видим, как красный командир, легендарный Дундич, расправляется с врагом революции полковником Ходжичем.
Я уже не помню, как назывался его персонаж в спектакле «Московский характер» по пьесе Софронова, но сам образ до сих пор помню. Миша играл молодого талантливого инженера, этакого рассеянного увальня-очкарика, тихого, с затрудненной речью, нескладного, но крайне обаятельного своей собранностью на чем-то для него главном. И, наконец, опять-таки полярный этому образу великолепный Гульд в симоновском «Русском вопросе». Названов нашел в этой роли какой-то особый динамизм, можно сказать, «танковый» ход авантюриста, подминающего под себя все на своем пути. Шумный и в то же время собранный, подтянутый и нахальный; какой-то отвратительно великолепный румянец лица с холодным блеском светлых глаз, с массивностью фигуры, дышавшей непередаваемым апломбом; веселый и очень злой хищник, опасный хищник. Да, Гульд был сыгран Мишей с подкупающим артистизмом и абсолютной точностью прицела, а это было крайне важно в таком острополитическом спектакле, каким являлся «Русский вопрос».
Сразу по выходе премьеры Названов был приглашен на эту же роль в кинофильм «Русский вопрос», и его Гульд еще долго жил на экране.
В дальнейшем наши пути разошлись, но все перечисленное всегда живет в моей памяти как черты чего-то по-настоящему интересного в творчестве актера.
Андрей Попов
Странно… И Андрей Алексеевич, и я – оба принадлежали к числу актеров, много работавших и в кино, и на радио, и на телевидении, но в работе не встретились ни разу. Может быть, для наших режиссеров мы были, что называется, одной и той же краской – не знаю. И на театральной сцене мы никогда не встречались, и тем не менее он занимал в моей жизни определенное место – я любил его. И любил нежно.
Он был на десять лет моложе, но я не ощущал этого, так как увидел его на сцене уже зрелым мастером. Стало общим местом говорить о его интеллигентности, но это было его врожденным качеством – отцовские гены проступали в нем отчетливо.
М. И. Кнебель в своей статье о нем в журнале «Театр» очень точно пишет, какие качества нужно иметь актеру, чтобы звучать в чеховской роли. Андрей Алексеевич, конечно, был идеальным исполнителем чеховских ролей, но для меня он был по сути своей еще и чеховским человеком. Я часто играю вот в какую игру, в уме, разумеется: «Сегодня можно прийти в гости к Антону Павловичу на его ялтинскую дачу. Кого можно взять с собой, чтобы сделать хозяину приятное и себя не осрамить? Попов, Попов, конечно же Попов, первая кандидатура! Я убежден, что он понравится Антону Павловичу и своей сдержанностью, и душевным изяществом, и своим очаровательным, скрытым юмором».
Когда я смотрел его в чеховских ролях, в «Дяде Ване», в «Чайке», в «Иванове», меня всегда восхищала его подлинность: он был точно «оттуда», из чеховского мира, и многие рядом с ним казались ряжеными. «Оттуда» была его манера общаться, его пластика, строй его речи. Ощущение стиля играемого автора всегда казалось мне ценнейшим актерским качеством; Андрей Алексеевич обладал им вполне, и это делало его органичным и обаятельным в самых разных ролях.
Он любил играть Грозного в спектакле Центрального театра Советской Армии «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого в постановке Л. Хейфеца, и играл его до конца своей жизни, совмещая это с работой во МХАТе. Роль трудная, многоплановая, с трагедийными взрывами, а играл он ее, я бы сказал, легко, без видимого «пота». Легко не в том смысле, что он облегчал рисунок роли или подгонял роль к себе, нет, но чувствовалось, что он «чует» душу роли, живет в ней свободно, раскованно и легко одолевает ее трудности.
Случилось так, что, посмотрев вторично Грозного (первый раз я был на премьере), на другой день я обнаружил в программе телепередач михалковского «Обломова», фильм, мною еще не виденный, и с удовольствием стал его смотреть, забыв, что Андрей Алексеевич играет в нем Захара, слугу Обломова. Он меня сразил! И не потому только, что тут начисто не было и следа от вчерашнего царя, но какую он изобрел фигуру! Нечто большое, гориллообразное, с сутулившимся туловищем и длинными руками, лысое, хриплое, непрерывно что-то бормотавшее под нос, хотя в этом бормотании угадывались не совсем цензурные слова в адрес хозяина. Ну, словом, монстр! Но этот поповский Захар при всем том светился добродушием и юмором. И главное, он опять был «оттуда», из своей каморки в обломовском доме…
А его петербургского ростовщика из водевиля того же названия, показанного по телевидению, я бы рекомендовал молодым актерам в качестве наглядного пособия – как надо играть водевиль. У Попова, как всегда, было точное попадание в жанр, и, когда он пел свои куплеты и яростно отплясывал положенный ему танец, становилось ясно, что только так он может выразить обуревавшие его чувства, что просто слова тут бессильны.
И – вспоминаю по контрасту – поручик Назанский из экранного варианта купринского «Поединка», одна из ранних работ Андрея Алексеевича, оставлявшая сильнейшее впечатление. Я не могу забыть, с какой щемящей тоской говорил Попов монолог Назанского – эту исповедь опустошенной души, прекрасного, но спившегося человека.
Вероятно, в душе каждого из нас бывают моменты, когда с горечью вспоминаются какие-то упущенные возможности и возникают запоздалые «почему?». Почему тогда-то я не сделал того-то и т. д. и т. п. А время между тем ушло. Вот и живет в моем сознании такое «почему?», целиком связанное с Андреем Поповым, – почему мы встретились так поздно? А ведь мы встретились. И произошло это за несколько лет до его смерти. Но кто же из нас мог тогда думать о ней? Мы вдруг сблизились и стали бывать друг у друга, и водочку вместе пили, и даже выпили на брудершафт…
Впрочем, вдруг – это не точное слово. Очевидно, мы подсознательно тянулись друг к другу, и наше сближение было органичным и обещало хорошую дружбу в будущем. Узнав Андрея поближе, я убедился, что правильно угадывал его на расстоянии и оценивал его качества. Все было так, только не было у нас одного – нашего будущего. Пришла смерть.
Михаил Ромм
Для меня встреча с Роммом – нечто гораздо более крупное, чем просто встреча с мастером кинематографа, у которого мне довелось трижды сниматься, хотя это само по себе уже было для театрального актера событием. Но не в этом дело. Огромность его личности, творческого потенциала вызывала желание саморевизии, пересмотра приемов, отречение от нежно любимых штампов, желание зорко вглядываться в жизнь. Словом, я бы сказал, перекатить себя в какой-то другой эстетический ряд. И никогда не было с его стороны наставлений, что делайте так, живите так. Нет, никакого не было с его стороны указующего перста, просто факт общения с ним был знаменателен. Это в памяти о Ромме для меня главное, а рабочие моменты и всякие воспоминания, как и что делать, – все ушло от меня.
Вспоминаю Ромма на съемочной площадке в кино. Он не был учителем для актеров в буквальном смысле этого слова, но когда он строил кадры, создавалась какая-то волшебная атмосфера раскрепощения актера, в которой легко и споро работалось. Он блестяще чувствовал пластичность, выразительность мизансцен, знал цену слова, он был полноправным соавтором сценариста, автора, и все его подсказы всегда оказывались точными. У него было ценнейшее качество – умение мобилизовать всех вокруг того фильма, который грел его, заразить им каждого из исполнителей и этим решить проблемы, находя единственный выход.
Должен сказать, что он никогда не был режиссером-деспотом. Он с восторгом принимал удачи, актерские находки, а неудачи тут же с сокрушительным юмором отсекал. И вот действительно для меня Ромм и юмор – понятия нерасторжимые. Я бы пожелал каждому режиссеру-комедиографу, чтобы на его съемочной площадке царила та легкая, веселая, иронически-юмористическая атмосфера, которая в высшей степени была свойственна стилю работы Ромма, даже когда он отрабатывал самый драматический кусок. И я бы сказал, что этой атмосферой веет частично со страниц книги Ромма. Причем «частично» я сказал потому, что в этой книге есть и страницы горькие, страницы раздумий, есть страницы-исповеди. Но открывающая книгу Ромма статья, которая называется «Как я стал кинорежиссером», с подзаголовком «Автопортрет», датированная 1944 годом, написана, я бы сказал, в фельетонной манере. Эта статья должна стать настольной для каждого начинающего молодого режиссера, потому что она удерживает человека от торжественности.
Это дело вкуса, я не люблю торжественных людей. Думаю, в этом смысле неизмеримы юмор и ирония Ромма.
Надо сказать, что я всегда любил наблюдать, как где-то в уголках губ Михаила Ильича начинал набухать юмор, перед тем как он выдавал что-то острое и смешное, как раскатисто он хохотал, с каким аппетитом проглатывал понравившуюся ему остроту.
Мой кинодебют у Ромма в маленьком эпизодике в фильме «Ленин в 1918 году» – для искусствоведов это ценности не представляет – важен потому, что тут речь идет о Ромме. Это было в 1938 году, я уже был актером с десятилетним стажем. Меня никто никуда не приглашал, это начинало волновать.
И вот однажды звонок: «Говорят с «Мосфильма». Я с трепетом взял трубку и слушаю. Слышу, что меня приглашают сниматься в небольшом эпизоде, который не имеет ни имени, ни фамилии в картине Михаила Ильича Ромма «Ленин в 1918 году». «Но, – добавил курсивом говорящий мне женский голос, – вы будете разговаривать на экране с товарищем Сталиным – Геловани». Я согласился.
И вот меня повезли на «Мосфильм», где я познакомился с Роммом, с актером, исполнявшим роль Сталина, М. Геловани. Мы прорепетировали и сняли этот кусочек. Действительно, эпизод был крохотным, но все-таки фамилия была, это был военспец Иванов, белый офицер, тихо вредящий в одном из штабов Красной Армии. И действительно, я разговаривал на экране с товарищем Сталиным в исполнении актера Геловани, который снимал меня с должности. А кто же еще разговаривал в фильме с товарищем Сталиным, кроме меня? Может быть, Щукин или артист Охлопков – Василий – не знаю.
Ромм приглядывался ко мне, я уловил, что его как-то удивляет моя длиннющая фигура. Он усвоил к этому времени мое длинное имя Ростислав Янович, тут же усек, что я очень зажат, потому что у меня – актера с десятилетним стажем – дебют в кинематографии.
Через час знакомства он уже кричал мне: «Я буду называть вас Ян Казимирович, так удобнее!» – и все захохотали, я захохотал тоже, и стало легко и свободно.
Позднее он звал меня Слава или Яныч. И я был счастлив.
Короче говоря, фильм вышел на экраны, послужил положенное ему число лет на экране. Мой военспец Иванов тоже прожил положенное ему число лет на экране. Так было до 1953 года, когда по понятным причинам во второй половине года фильм демонтировали и Геловани – Сталина вместе с моим военспецом вырезали из картины.
Таким образом, в 1938 году я познакомился с Роммом и, отснявшись в своей крохотулечке, остался наблюдать великую работу Щукина.
И тут начинается новая новелла, которую много позднее, заливаясь хохотом, рассказывал мне Ромм.
Борис Васильевич Щукин – скромнейший человек и великий актер. У него была одна подлежащая утолению потребность: во время киношной колготни, репетиционной усталости выпить стакан хорошо сваренного чая, и поэтому в коридоре, когда снимался Щукин, на плиточке грели чай. И вот как снежный ком стал разрастаться конфликт между пожарной частью и Роммом. Пожарник, очередной сегодня дежурный, увидев плиточку, подходил и ее выключал, Ромм, воровато оглядываясь, улучив момент, под каким-то брезентом ее включал. И оба были правы – пожарник соблюдал правила, Ромм охранял творческое самочувствие Щукина. Конфликт перешел куда-то на пятый этаж – в дирекцию «Мосфильма» – и к высшему пожарному начальству Москвы.
Наступил день, когда стало известно, что высшее пожарное начальство едет на студию «Мосфильм» унимать Ромма.
Вот что рассказывал Михаил Ильич после этого визита:
«Я снимаю ответственнейшую сцену, когда Ленин, раненный пулей Каплан, лежит в кровати и стонет, а хирург, которого замечательно играл А. Е. Хохлов, пытается определить место пули. Щукин, как всегда, репетирует, вызывая невольно слезы и у меня, и у партнеров. Я уже готовился включить мотор, как вдруг слышу по коридору голоса и вижу, что неприятель движется: уже где-то в отдалении павильона заблестели каски, ордена, слышен звон шпор, грозный топот. Я говорю, что делаю минутный перерыв, а потом снова будем снимать. Но тут Щукин взмолился и сказал – снимайте сейчас, потому что я в нерве. Я включаю мотор. Полнейшая тишина. Щукин изумительно играет. Затем я командую: «Стоп!» – обращаюсь лицом к пожарной команде, к пожарному начальству и вижу, что все замерли и на глазах у них слезы. И гремит голос брандмайора: «Кто запретил в этой картине пить чай и греть его в павильоне у Ромма для такого артиста, как Щукин? Немедленно снять запрет». Ну-с, словом, виктория, пасхальная ночь, все целуются.
Но бюрократия не дремлет. Где-то в кабинетах мосфильмовской дирекции уже стучит машинка, печатают приказ за номером таким-то, из которого следует, что на съемках фильма «Ленин в 1918 году» в павильоне номер такой-то разрешается нижепоименованным товарищам: Сталину – Геловани, Ленину – Щукину, Ромму – постановщику и товарищу Иванову пить чай, нагревая его на плитке. Ромм мне говорит: «Я сильно задумался над последней строчкой. Наконец, Слава, я понял, что это вам – военспецу Иванову – разрешается тоже пить чай в нашей высокой компании за те несколько слов, которые вы сказали Сталину – Геловани».
Я не знаю – и сейчас уже не узнаешь, – что присочинил здесь Михаил Ильич, отправляясь от имевшего место факта, но по крайней мере раза три я слышал этот рассказ в исполнении Ромма, причем в очень разных по составу аудиториях, и он каждый раз обрастал новыми для меня живописными подробностями.
Мне бы не хотелось, чтобы друзья Михаила Ильича и близкие ему люди подумали, что я по неведению сочиняю наивную сказочку про очень веселого Ромма, не зная, какой подчас трудной, совсем не безоблачной была его жизнь. Просто я часто встречался с ним в его солнечные дни, и мне хотелось крупным планом показать эту его тягу к юмору, такую обаятельную у такого гневного и резкого художника.
У меня какие-то странные, двойственные воспоминания о съемках картины «Убийство на улице Данте» – и радостные, и печальные. Радостные потому, что у меня была там хорошая роль. Печальные потому, что Ромм там был не тот, который, – скажем, был на съемках «Мечты», на мой взгляд, лучшего его художественного фильма. Он отпылал к теме «Убийства на улице Данте». Потом мы читали и слышали грустные слова Ромма о том, что сценарий «Убийства на улице Данте» пролежал одиннадцать лет без движения, что, когда он был создан, он действительно заглядывал вперед. Но от замысла до момента съемок в 1954–1955 гг. этот сценарий уже был весь опрокинут в прошлое, и аппетит к нему у Ромма пропал. А я-то помню, как в 1945 году он фантазировал на темы фильма, общался с предполагаемыми исполнителями. Он тогда кричал: «Ну давайте репетировать у вас в театре, на «Мосфильме» неудобно, давайте пока в театре, ведь найдется у вас какое-нибудь свободное фойе, мы же можем придумать к началу съемок шикарную картину, это будет гениально!»
Каждый крупный художник часто находится в состоянии нервного творческого напряжения, и не нужно охранять его от такого напряжения. Но художника стоит охранить от нервных потрясений другого толка. К сожалению, люди об этом вспоминают слишком поздно. И грустно думать, что режиссер ранга Ромма десять – одиннадцать лет должен был дожидаться реализации своего замысла.
Все мы можем к этому прибавить, что знаем, какой кусочек здоровья был украден у Ромма. Мы очень часто разговариваем на тему партийности в искусстве. Но эти всегда правильные, зачастую интересные разговоры произносятся иногда вялыми ртами. На мой взгляд, Ромм был эталоном партийности в искусстве, в искусстве и в жизни, для него это было нераздельно, причем партийности не декларированной, а состоявшейся. Это его партийная совесть толкала его в бой вместе со всеми единомышленниками в тех случаях, когда надо было бы не высовываться, когда полезнее было бы не ввязываться. Это его партийная совесть заставила его принять ответственнейшее поручение – создать картину о Ленине в рекордно короткий срок. Это его партийная совесть вызвала к жизни такой фильм, как «Обыкновенный фашизм». Вы помните, какая пронзительная личная нота звучит в этом фильме – его гнев, его негодование, его голос. Он необычайно был увлечен чтением авторского текста в этом фильме.
И как-то в эти дни, когда озвучивали фильм, я встретил его у дверей «Мосфильма», у дверей ателье, откуда он выскочил взъерошенный, с лицом бесконечно усталым, но сиявшим. Он закричал: «Яныч! Теперь, когда я влез в вашу актерскую шкуру, я понял, каким кошмарным трудом вы все занимаетесь. Ну, ей-богу, если я доживу до момента, когда буду снимать фильм с актерами, я буду режиссером-ангелом, я не буду вас обижать». Он клеветал на себя, так как актеров он обожал всегда. В той же книге есть его статья о Щукине, о Ванине, гимн актерам. И мы платили ему тем же: но, к сожалению, не актеры решают судьбу режиссера в кинематографии.
Я записал ряд фрагментов из новеллы Моруа и запомнил для себя строки, посвященные памяти умерших. Они звучат так: «Им нужна была наша улыбка при жизни, а не слезы после смерти. Мы же часто отказываем живым в нежности, которую, раскаявшись, напрасно предлагаем их теням».
Это я на тему об охране государственных памятников, государственных ценностей, одной из которых безусловно был Михаил Ильич Ромм.








