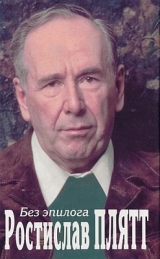
Текст книги "Без эпилога"
Автор книги: Ростислав Плятт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Классика и мы [2]2
Стенограмма выступления в Доме актера, 1960 г.
[Закрыть]
Мне хочется остановиться на пяти вопросах: ставить или не ставить «Лешего»; немного о своей работе в «Лешем»; о современных поисках в чеховских спектаклях; о прессе, вернее, об отсутствии ее; и, наконец, о зрителе на чеховском спектакле. Этот последний вопрос меня очень волнует, тут далеко не все звучит оптимистично.
Я так был занят с момента вчерашнего совещания, что не успел основательно связать все свои мысли, а успел лишь сделать более или менее судорожный конспект, которому постараюсь следовать, чтобы не забыть главного.
Должен сказать, что я вообще не собирался выступать на данном совещании. Во-первых, потому, что я не видел ни одного чеховского спектакля, во-вторых, потому, что особо богатых и свежих мыслей о своей работе над ролью, интересных для сегодняшней аудитории, у меня как-то не набегало. Но вот по мере того как шло вчерашнее совещание, у меня начались позывы к выступлению. И прежде всего потому же, почему вчера на ваших глазах В. П. Марецкую смыло какой-то волной с ее места и вынесло вот сюда, на трибуну, где она произнесла панегирик Чехову, – как только прозвучали соображения о нецелесообразности показывать «Лешего». Я хочу эту ноту продолжить не потому, что Чехов нуждается в панегириках, а потому, что… даже работа над Чеховым забракованным явилась для нас, актеров, чрезвычайно радостной, волнующей, пронизанной большими творческими радостями. Мне хочется еще раз сказать здесь об этом, чтобы нас не считали пасынками в семье чеховских премьер юбилейного года. Мы получили от этой работы много, независимо от достигнутых результатов, и, работая, не думали о недоборах пьесы, мы просто брали все прекрасное, что можно было оттуда взять, и трудились увлеченно.
Мне вспоминаются фанатический энтузиазм Л. М. Петрейкова, затеявшего все это предприятие, и великолепные репетиции Ю. А. Завадского, позднее принявшего спектакль в свои руки… О том же, что получил от этого спектакля зритель, я скажу позднее.
Бессмысленно тратить время на аналогии, сравнивая «Дядю Ваню» и «Лешего», – это вопрос литературоведческий. Скажу только, что, когда, будучи уже в гуще работы, я перечитывал «Дядю Ваню», исключительно интересно было следить за тем, как за годы, пролегающие между двумя этими пьесами, менялся Чехов, мужая и вырастая как художник, мастер, драматург; интересно было наблюдать, кого из персонажей «Лешего» берет он с собой в далекий путь к «Дяде Ване», кто трансформируется, кто отмирает по пути, как, скажем, Орловский и Федор… Часто возникало желание что-то из «Дяди Вани» взять и перенести в «Лешего». А вот обратного желания не возникало. Мне так, например, хотелось в 3-м акте, когда Войницкий кричит: «Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного!» – прибавить: «Ты морочил нас!» Чудесная фраза, которой в «Лешем» нет. Я чуть было это и не сделал, надеясь, что в суматохе сойдет, но потом удержался от соблазна. (Смех в зале.)И вот, несмотря на все это, я хочу добавить к выступлению З. С. Паперного, напомнившего здесь, что автор «Лешего» был уже и автором «Скучной истории», еще одно: если вы возьмете процент текста «Лешего» целиком, до запятой, перенесенного в «Дядю Ваню», то увидите, что этот процент огромен. Стало быть, Чехов в какое-то свое качество здесь верил. И трудно предположить, что зрелый Чехов, поры его знаменитых пьес, обратился бы к чему-то из своего литературного хозяйства периода «Платонова». Все это и говорит в пользу «Лешего». Любопытно, между прочим, вот что: роль Войницкого в «Лешем» наиболее тождественна по тексту с тем же образом в «Дяде Ване» и наименее тождественна по своей судьбе. Паперный уже говорил об этом. Выстрел в себя в «Лешем» и два выстрел а – оба впустую – в Серебрякова в «Дяде Ване». Кстати сказать, я так душевно привык к своему самоубийству, что иногда думаю: если бы мы начали, допустим, репетировать «Дядю Ваню» и живой Антон Павлович сидел бы на репетициях я, может быть, взмолился бы – не стоит ли меня и здесь застрелить? Стоит ли продолжать жить, пусть даже в этом великолепном 4-м акте?
Теперь о моей работе над Жоржем Войницким. Естественно, что мне вчера было очень приятно слышать добрые слова, произнесенные в мой адрес М. Н. Строевой и З. С. Паперным. Все мы – актеры, критики, театроведы, режиссеры – очень любим похвалу и не любим критику. Это аксиома. Правда, иной раз критику приходится слушать и даже внимать ей, но не путайте этот процесс с любовью к ней. (Смех в зале.)Одобрение моей работы в данном случае имело для меня более широкое значение – оно как бы утверждало меня в праве на роль, которой я вначале очень боялся; это был как бы бой с материалом, казавшимся мне чужим, и этот бой мне очень хотелось выиграть, хотелось не в начале работы, а в ее срединной стадии, когда я уже приобрел вкус к ней. Почему я говорю об этом? Дело в том, что я с юношеских лет преданно и нежно люблю Чехова, и, помню, в анкетах, которые в свое время раздавались на предмет выяснения литературных вкусов, с пунктом «назовите ваших любимых писателей» я всегда называл в первую голову Чехова. Естественно, что, став актером, я захотел его играть. И все как-то не получалось… Наконец, в 1944 году я сыграл «Тапера» – инсценированный рассказ Чехова, но юбилейный этот спектакль скоро сошел.
(Голос с места: А Дорна?)
Дорна я играл с удовольствием, но – вы, очевидно, поймете меня – нет в этой роли «взрывной волны», какой-то эмоциональной «приманки». Нельзя сказать – «мечтаю о Дорне», это не та роль. А мечтал я всю жизнь о трех ролях: Тузенбахе, Гаеве и Шабельском. Бывают у нас, актеров, иногда какие-то предвзятости, иной раз трудно, объяснимые при выборе для себя работы. «Вот это – моя роль, а это – не моя, на эту я могу посягать а на, эту – нет…» Иногда эти соображения логичны, обоснованны, а часто – случайны, сочинены тобой или вызваны окружающей обстановкой. Применительно к чеховской драматургии я всегда боялся своей резкой внешности, нерусского вида – мне хотелось выглядеть как-то «полояльнее». Правда, в распоряжении всякого актера имеется гримировка, но она ведь должна с изяществом применяться в чеховских пьесах, где столь изящны и тонки люди. Тузенбах меня никогда не смущал – он все-таки Кроне-Альтшауэр, – но мечты о нем умерли с возрастом, потому что ему до тридцати лет. По смыслу роли нельзя воевать с этой цифрой. Как видите, не только у женщин-актрис бывают такие казусы. (Смех в зале.)Относительно же Шабельского и Гаева – это доступная мечта для характерного актера. А вот о дяде Ване я не мечтал никогда. Мне казалось, что это исключено для меня, что это исконно русская, в чем-то бытовая роль – словом, не моя. И вот когда так или иначе возник вопрос о постановке «Лешего» и я получил Войницкого, я то и дело слышал соображения о том, что я органически не вписываюсь в деревенский пейзаж, что от меня не повеет запахом поля, ржи и т. д. и т. п. «Ну как же – деревья, избы, веточки, дождь, и Плятт?..» (Смех в зале.)
Я очень всем этим мучился, разделяя подобные соображения. Я, как характёрный актёр, могу играть самые полярные роли, но не эту, думалось мне. В одно только я поверил, когда состоялось распределение ролей и выяснилось, что С. Г. Бирман будет играть Войницкую, в то, что сына Бирман я, во всяком случае, сыграть смогу, имея в виду некоторые особенности нашего профиля. (Смех, аплодисменты.)И как это ни наивно, утешало меня еще то, что это – Жорж. Жорж, а не дядя Ваня, так по-русски звучащий, как пишет об этом образе М. Ф. Романов в своей милой, задушевной заметке, опубликованной в том, юбилейном номере журнала «Театр». Да, Жорж – это было для меня легче. Вот сидит режиссер спектакля Л. М. Петрейков. Он подносил мне в день по ложке, нет, по стакану «бальзама», уверяя, что я – единственный в мире Жорж Войницкий, что только мне его и играть. И т. д. и т. п. Я, конечно, не верил, но слушал с наслаждением. Чтобы мне легче было репетировать, я пытался найти в роли какую-то позицию для себя. Я слышал: Плятт органически не вписывается туда-то и туда-то… Хорошо! А вписывается ли органически Войницкий?! Говорили – деревенская роль, бытовая русская роль… А что, если посмотреть на Войницкого как на человека, двадцать пять лет искусственно прикрепленного к земле? И не только в связи с его иллюзорными мыслями о том, что он отказался от наследства в пользу сестры и засадил себя сам в добровольную ссылку. Может быть, эта деревня для Войницкого такая же ссылка, как для Лаевского в «Дуэли» его кавказское захолустье?! Простите мне приблизительность аналогии; может быть, это не точно, может быть, я фантазирую, но мне казалось, что мечты Лаевского – скорее, скорее уехать на север, болтать со студентами, слушать интеллигентную живую речь, разговоры о новых певцах, франко-русских симпатиях (видите – в то время тоже!), видеть культурную жизнь – все эти мечты вполне могут быть мечтами Войницкого… И знаменитая чеховская фраза о шелковых галстуках дяди Вани, о том, что «помещики же одеваются лучше нас», – она ведь о чем, по-моему: не помещики вообще, а вот этот самый дядя Ваня, поэтически нежный, такой, по существу, городской, с его мечтой о Петербурге или Москве, городском нерве, об alma mater. Вслушайтесь в его крик перед смертью в «Лешем» или перед возможной смертью в «Дяде Ване»: «…из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский…». Заметьте, не Дарвин, скажем, не Мичурин или Лысенко, нет! Шопенгауэр, Достоевский… И его монолог в 3-м акте – это вопль о погибшей жизни утонченного интеллигента, может быть, одного из самых утонченных в чеховской драматургии…
Вот так строилось все это у меня в душе, и я почувствовал возможность с этим выступить. Более того, я стал думать, что такой разговор о Жорже и о дяде Ване правомочен не только применительно к моим личным актерским интересам, но и шире. Кстати, об «издержках» «Лешего». Там ведь немного другое нервное напряжение, чем в «Дяде Ване», – из-за надвигающегося выстрела. Застрелиться вдруг нельзя. Что-то уже должно быть накоплено актером к началу 3-го акта. И тут Чехов допускает странный просчет. Вскоре после начала акта Соня передает Елене Андреевне любовное письмо Жоржа к ней. Может быть, даже и не любовное, неизвестно! Две-три реплики, и все на эту тему замирает. Как же так? Для меня, например, эта тема настолько важна, что я, наверное, опять попросил бы Антона Павловича, будь он с нами, либо вымарать все о письме, либо развить. Иначе это выглядит опиской автора. И вот, играя 3-й акт, приходится что-то брать на себя – будто бы незадолго до открытия занавеса мною было написано это письмо, затем скомкано, брошено… На отношениях с Еленой Андреевной поставлен крест! А Соня, стало быть, нашла письмо и передала… Вот, может быть, такой вариант… Все это приходится проигрывать в душе, и вряд ли зритель догадывается, чем я в начале акта «беременен» как актер; но я начинаю акт именно с этим, а когда, слушая звуки рояля, говорю «это она играет, Елена Андреевна…» – мысленно добавляю «навсегда потерянная для меня!». Поэтому мне страшно трудно по сей день играть свою сцену с Еленой Андреевной в 3-м акте, сцену, написанную с оттенком какого-то балагурства. Трудно потому, что если принять в душу тему письма, то текст должен тут появиться другой. Но автора нет с нами, и я ограничился попытками уговорить режиссуру эту сцену вымарать. Однако мне не вняли, и до сих пор этот момент в роли остается для меня «белым пятном» на карте жизни Войницкого. Вот видите, какие неожиданные авторские огрехи – у Чехова! – попадаются в «Лешем» и, конечно, немыслимы в «Дяде Ване». И тем не менее как хорошо, что состоялась встреча нашего театра – третья по, счету – с Чеховым в этой, пусть несовершенной пьесе!
Теперь – по поводу того, что цитировала вчера Александра Яковлевна Гатенян. Это, кажется, из заграничных отзывов на ту тему, что у них Чехов звучит негативнее, а у нас ассоциируется с молодостью, оптимизмом, победой. Безумно обоюдоострая формула! Ибо, зная об этих долженствованиях советского театра, многие из его деятелей прямо в обязательном порядке «высветляют» Чехова. Я сам отдал этому невольную дань уже в разгар работы над Войницким. Вот передо мною роль; сижу, оглядываю ее, как шахматную доску (модная сейчас тема в дни матча Ботвинника и Таля!), а не пропустил ли я какой-нибудь ход, ведущий к «посветлению» роли? Нет, кругом мрак! И единственный лучик в этом мраке – вспыхнувшая было любовь к Елене Андреевне, напрасная любовь… Я могу понять, что советский актер, сегодня играющий Трофимова с его светлой душой, или Тузенбаха, или Вершинина, должен с полной силой выявить их оптимизм, и, конечно, тогда тирады этих персонажей сегодня будут звучать совсем иначе, чем в начале XX века. Но Войницкий?! Не могу не вернуться к уже упоминавшейся мною заметке М. Ф. Романова в юбилейном номере «Театра». Такой самостоятельный, большой художник, как Романов, пишет о работе своей над дядей Ваней: «Играю не нытика, не неврастеника, а милого, доброго, красивого мечтателя и работягу. Его обманули в конкретной цели его работы, но он ни на мгновение не сомневается в необходимости самого труда». Не понимаю, не могу понять! Не нытик, не неврастеник – правильно! Милый, добрый, красивый – пожалуйста! Может быть, работяга. Но остальное?! Хорошо, допустим, я – в несколько иной атмосфере «Лешего» и поэтому тут спорю. Хватаю томик Чехова, открываю финал «Дяди Вани», вчитываюсь, и прежде всего щемящая тоска охватывает меня. Да, у него есть несколько фраз: «Работать! Работать! Работать!» Но для того, чтобы забыться. Разве это пафос труда? Ведь покорно склонившийся над счетами, плачущий дядя Ваня выглядит жертвой. Тут можно говорить о необходимости влачить каторжную жизнь, от которой в «Лешем» его избавляет выстрел. Так, на мой взгляд неожиданно, даже Романов не избежал поисков света там, где не нужно.
В 1953 году я видел в Болгарии спектакль «Три сестры», поставленный Н. О. Массалитиновым. Там были превосходные исполнители мужских ролей; например, если не ошибаюсь, Атанасов —. Чебутыкин. Но женщины играли тоску, в погашенных тонах. Может быть, здесь Массалитинов оказался в плену чеховских настроений по своим московским воспоминаниям начала века – не знаю. Во всяком случае, они со вкусом тосковали – ведь мы очень любим играть на сцене тоску, – и вот это-то и было несовременно! Сегодня, играя Чехова, можно радоваться по-чеховски там, где следует, бунтовать по-чеховски там, где можно, а если уж нужно тосковать, то – с протестом, с недоумением, с негодованием, яростью – оттого, что приходится тосковать. Вот интенсивность тоски на сцене – это наше сегодняшнее в Чехове. Охаянный вчера Малюгиным за свою рецензию о «Чайке», К. Л. Рудницкий выступил в том же номере «Театра» с очень интересной, на мой взгляд, статьей о чеховской драме. У него есть там такая примерно фраза: «Будем откровенны: приписывать этим людям силу (имеется в виду тенденция зачислять в лагерь сильных, например, Астрова, Войницкого, Соню. – Р.П.) —значит затевать безнадежный спор с Чеховым».
Мне кажется, это очень верно сказано. Оставим и свет, и силу Трофимову, ибо ему нужно сказать «здравствуй, новая жизнь!». Но с позицией Войницкого я ни капельки света принять не могу, кроме дрожащего, потухающего света его несчастной любви.
О прессе. Я даже острее, чем вчера Л. А. Малюгин, поставлю этот вопрос, и вот почему. Когда мы, актеры, алчем прессы, это не значит, как думают некоторые, что нам не терпится прочитать свои фамилии. Тем более что бывают и неприятности. Не в этом дело. Нам нужно знать, что думают о нашем труде. А что происходит теперь, товарищи? Поймите же, что две рецензии об «Иванове» и одна о «Чайке» во МХАТе – ведь это почти ничего. Я вот провел февраль в Ленинграде, совершенно не зная, что делается в Москве на фестивале чеховских премьер. А мог бы узнать из газет, из рецензий. Вчера столько говорили о Бабочкине! Борис Андреевич, я даже не знал, что вы играете! Отсутствие прессы о чеховских спектаклях придает юбилею Чехова характер какого-то кампанейского мероприятия! 29-го справили, и ладно! А дальше? Достойно ли это нашей страны, родины Чехова?! Но вопрос о прессе более широк. Надо поговорить и о том, почему и куда ушла традиция быстрого, но не обязательно безграмотного отклика на театральную премьеру, традиция, существовавшая всегда, в том числе и в советской печати 20-х и 30-х годов. Это сложный вопрос, и тут надо бить в набат!
Театр и зритель
Тема вечная и очень важная. Вечная потому, что каждая эпоха рождает тут свои проблемы. Важная потому, что надо научить зрителя воспринимать искусство, а в этой области сделано пока очень мало.
Я думаю, дорогие наши зрители, иной из вас с недоумением взглянул бы на человека, который в ответ на ваше сообщение, что вы с женой вечером идете в театр, сказал бы: «Ага, значит, работать идете!» А между тем с того момента, как начинает гаснуть свет в зрительном зале, и до окончания спектакля вы, вольно или невольно, вовлечены в работу, ибо вы сопереживаете нам, помогая нам, иногда мешая, иногда сопротивляясь, а потом вновь отдаваясь всем своим существом или какой-то частью себя, – словом, вступает в действие магия театра. Не смущайтесь, что соединяю контрастные слова – «работа» и «магия». В данном случае они сочетаемы.
Конечно, все сказанное происходит в тот вечер, когда мы – театр – на высоте: когда пьеса сильна, спектакль мощен и нам есть что поведать зрителю. Хотим мы быть такими всегда, и не вина наша, а беда, если не всегда это удается! Но как бы то ни было, без вас мы не существуем: нельзя у себя в комнате сыграть спектакль. Если ежевечерне по ту сторону рампы не сопереживают нам тысяча с лишним человек (это самая хорошая цифра для драматического театра), наше искусство просто не состоялось.
Вот почему такие неоспоримые положения, как то, что художник творит для народа, что народ – высший судья искусства, нашим цехом воспринимались не как отвлеченные формулы, а самым конкретным, насущным образом.
Огромна ваша роль в окончательном формировании спектакля – ведь с вашим приходом в зрительный зал начинается новый, главнейший этап в жизни спектакля – его дозревание, так сказать, на зрителе; он корректируется с учетом тех видимых и невидимых сигналов, токов, что идут от вас на сцену. Ведь не только смех и аплодисменты – зрительская реакция. А тишина? Да одной тишины можно насчитать несколько вариантов, ибо есть тишина зрительской заинтересованности. Увы, есть тишина от скуки. И, наконец, та волшебная тишина высшего порядка, которая возникает в зрительном зале в ответ на совершающееся на сцене чудо. В момент актерского преображения, потрясения, ради нескольких минут которого идет иногда трехчасовой спектакль. И это тоже магия театра!
Вас, зрителей, надо уважать – во имя этой бесспорной истины сложилась, к примеру, традиция выхода на поклоны, когда мы по окончании спектакля кланяемся вам, благодаря за приход ваш и прощаясь с вами.
Но, конечно, никакие поклоны не помогут, если, допустим, возникло у вас отрицательное впечатление от слабой пьесы, небрежной игры, небрежного грима, плохо произнесенного текста, грязных декораций и прочих неурядиц, которые недопустимы в театре, но все же нет-нет да случаются. Мы боремся с этим со всей возможной строгостью, прислушиваясь к претензиям вашим устным, письменным, на зрительских конференциях и т. д. Меньше обсуждается вопрос об уважении зрителей к театру, и мне необходимо сказать об этом несколько слов именно сейчас, когда я рассказываю вам о том, сколь много вы для нас значите. Итак, прежде всего: с каждым ли из вас, зрителей, мы дружим? Кто вы – сегодняшняя тысяча человек, сидящая перед нами? Сколько среди вас тех, кто любит и понимает театр, а сколько зрителей случайных? Это не праздные вопросы. Если мы законно гордимся ростом культурного уровня нашего советского зрителя, если мы верны вот этой формуле – «Народ – высший судья искусства», значит ли это, что каждый зритель – непререкаемый авторитет в области искусства, нашего, в частности? Ведь как само искусство, так и восприятие его может быть талантливым и менее талантливым, бездарным может быть! Причем известно, что самые безапелляционные суждения, и не только в искусстве, а во всех областях жизни, исходят сплошь да рядом от людей наименее сведущих! Кто, например, тот зритель, которого я надолго запомнил, кланяясь как-то после спектакля «Милый лжец» в нашем театре? Я запомнил его потому, что он выделялся тупой неподвижностью в группе оживленно аплодирующих людей. Он-то не унизил свои ладони хлопками, и весь его напыщенно-снисходительный вид как бы говорил о том, что он осчастливил нас своим посещением. Я не хочу больше его видеть в зрительном зале! И не потому, что он не хлопал – ему просто мог не понравиться спектакль, – а потому, что он снизошел до театра! Счастье, что вот таких, вольно или невольно мешающих нам, мало.
В нашем репертуаре был спектакль «Леший» – это первый вариант всем вам, очевидно, знакомого «Дяди Вани» Антона Павловича Чехова. Я играл в нем Жоржа Войницкого – прообраз будущего дяди Вани. Роль, я бы сказал, высокого напряжения, особенно в «Лешем», где Жорж Войницкий кончает самоубийством. И мне был необходим сопереживающий зритель! Как никогда! И перед каждым спектаклем я обязательно в щелочку рассматривал зрительный зал, пытаясь по лицам и поведению зрителей определить, кому же я сегодня в первую очередь смогу доверить свои самые сокровенные чувства и мысли со сцены? А с кем сегодня буду вынужден сражаться, биться за Чехова?! Вот, может быть, эти двое – мои? Нет, нет, уже вижу – они случайные. А вот эти двое, наверное, шли в Театр сатиры; им хотелось посмеяться, а почему-то попали к нам – благо рядом. И ведь объективно это могут быть прелестные, веселые люди, но сегодня, здесь, мои враги, – они будут мешать мне, если я не сумею «переделать» как-то их на Чехова! А вот мои! Я уверен – они купили билеты специально на «Лешего», они пришли на Чехова! По виду это совсем не какие-то особые, «чеховские» люди. Он – в военном, она – может быть, инженер или партийный работник, не знаю, но они мои, чувствую! И вот те – мои, и вот те… Не знаю, сколько раз я попал в точку в этих своих гаданиях, сколько раз ошибался, но мне просто необходимо было вообразить себе вот такую аудиторию. Ведь тончайшая поэзия чеховской драматургии требует предварительной настроенности зрителя на специальную «волну» – без помех.
Зрители, пришедшие именно на Чехова, в ходе спектакля не слышны или слышны по-особому – это от них идет та сосредоточенная тишина, о которой я говорил. Слышны другие, случайные зрители, жаждущие смешного. Это они заливисто хохочут, когда за кулисами раздается выстрел в момент моего самоубийства, думают, что это в неположенном месте лопнула электролампа, и затихают, когда племянница моя скажет: «Дядя Жорж застрелился!» Это они в полной дружбе со мной на протяжении 1-го акта, где я несколько раз острю и говорю смешные фразы, и это им я же мешаю во 2-м акте – как отчетливо всегда это чувствовал, – потому что там я сижу ночью у свечи в тяжелом раздумье, требуя от зрителя сопереживания. Таким образом, вопрос о воспитании зрителя – один из важнейших.








