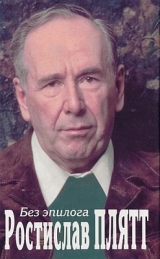
Текст книги "Без эпилога"
Автор книги: Ростислав Плятт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Головин переулок
Театр Завадского понемногу становился популярным. Годы его расцвета – 1933-й, 34-й, 35-й. В нашем репертуаре появилось несколько пьес советских авторов: «Армия мира» Ю. Никулина, «Ваграмова ночь» Л. Первомайского, «Опыт» К. Тренева. А три наших премьеры – «Волки и овцы» А. Н. Островского, «Ученик дьявола» Б. Шоу и «Школа неплательщиков» Л. Вернейля – пользовались шумным успехом. Попасть на них считалось «престижным» именно потому, что попасть было трудно – билеты расхватывались моментально.
Кроме Марецкой и Мордвинова большой успех выпал на долю О. Н. Абдулова, замечательного актера (о нем речь впереди), игравшего в «Волках и овцах» Лыняева, в «Ученике дьявола» – генерала Бэргойна, в «Школе неплательщиков» – Фромантейля.
Я уже говорил о том впечатлении, которое произвел на меня Мордвинов – Мурзавецкий, ведь «Волки и овцы» вышли в том году, когда я уходил из театра. Вернувшись, стал играть его в очередь с Мордвиновым. Искать свой рисунок мне не хотелось, да и надобности в этом не было – все было абсолютно по мне. Иногда у меня мелькала мысль, что, может быть, Завадский, строя роль, где-то подспудно имел в виду и меня, а не только раннего Мордвинова. Как бы то ни было, совершенно освоившись в роли, сыграв много спектаклей и имея успех, я тем не менее чувствовал, что играю хуже Мордвинова – вот что значит первый состав! Мне повезло: после случая с Мурзавецким я никогда не находился в положении дублера. Но если мне доводилось кого-либо вводить в свою роль, я относился к этому с полной добросовестностью, помогая чем и как мог.
Хорошей школой для меня явилась «Школа неплательщиков». Это был знаменитый спектакль Завадского, украшенный сценографией А. Тышлера и музыкой Д. Шостаковича – вот какой подобрался букет имен! Казалось, легкомысленная комедия Вернейля того не стоила, но был в ней некоторый социальный заряд, который Завадскому удалось развить и создать злой спектакль о разложении нравов буржуазного общества. Некий предприимчивый молодой человек Гастон Вальтье (его играл я) открывает школу, задача которой обучать почтеннейших буржуа искусству увиливания от налогов. Мы знакомимся с клиентами этой школы – среди них кокотка, поэт, предприниматель и даже министр!
Тышлер очень изящно оформил спектакль: сценическая площадка была с трех сторон окружена легкой конструкцией из блестящих металлических трубок, которые, пересекаясь, образовывали как бы клетку, с четвертой стороны открытую для зрителей. На сцене находился мой письменный стол, уставленный телефонами, а также – небольшое количество очень элегантной мебели из светло-желтой соломы, сплетенной таким образом, что спинки кресел по бокам заканчивались воздетыми кверху, как бы в мольбе, человеческими ладонями.
Это легкое ироническое оформление давало простор для интересных мизансцен. Существует образное выражение «хоть на стенку лезь», обозначающее, как известно, крайнюю степень нервного состояния человека. Завадский решил это выражение «материализовать» и предложил мне в том месте роли, где я, подозревая жену в измене, сильно возбужден, полезть на стенку, что я и сделал, кинувшись на конструкцию и повиснув на металлических прутьях. Эта мизансцена радовала зрителей, чудесно принимавших спектакль. Он легко и изящно игрался всеми исполнителями. Прелестно играли Норочка Полонская – мою жену, П. П. Павленко – банкира Шапелода, Н. И. Бродский – моего секретаря Жиру, Б. Н. Лифанов – поэта, Г. В. Гетманов – министра. О Марецкой и Абдулове я уже не говорю. А что же я, центральный исполнитель? Я, попросту говоря, не поспел к премьере. Премьерный поезд уже двинулся к зрителю, а я все еще бежал за ролью, не успевая вскочить в нее – уж очень она была велика и трудна. Я доделывал ее уже на публике, а так как «Школа» прошла четыреста раз, то к сотому примерно спектаклю я уже звучал в роли, приобретая «аллюр», необходимый комедийному премьеру во французской комедии. Позднее, когда какие-то люди хвалили меня в этой роли, я точно знал, что это не зрители премьеры, а те, другие, подальше, к сотому спектаклю. Любопытно, что мой жизненный гардероб пополнился за счет «Школы» – у нас в театре обычно премировали юбиляров сотого спектакля отрезами на костюм, а так как дублеров у меня не было, то по крайней мере три костюма за счет господина Гастона Вальтье я сшил.
По мере роста нашей популярности опять возник вопрос о новом помещении. Появились всякие обещания и ничего конкретного. Начинались наши длительные гастроли, обычно на Украине (Донбасс, Харьков, Киев). Мы играли на больших сценах хороших театров и «развращались». Нас никак не тянуло домой, в подвал. И на театральных капустниках мы грустно распевали сочиненные мною куплеты на мотивы музыки, звучавшей в наших спектаклях:
Или:
Не дали, хоть и обещали,
И теперь уж, верно, больше не дадут.
Пропали мы в сыром подвале,
В горе и печали – будет нам капут!
Дирекция театра обивала пороги необходимых инстанций, усиленно хлопотали за нас появившиеся у нас меценаты, и, наконец, свершилось: нам дали прекрасное театральное помещение на улице Воровского. Но, увы, дали пополам с Театром Каверина, чтобы день играли они, а день – мы. Стало ясно, что это не выход, а временное облегчение. И вот тогда-то из Комитета по делам искусств нам сообщили, что Театр Завадского переводится на постоянную работу в Ростов-на-Дону, вливаясь в труппу Ростовского драматического театра имени Горького! Бомба! «Театру Завадского доверяется почетная задача: привить мхатовскую культуру периферийной труппе» – вот такая «красивая» формула была придумана для нашего переезда, но мне кажется, что истинная причина была менее помпезной – нас, бесприютных, просто хотели сбыть с рук. И летом 1936 года мы выехали в Ростов-на-Дону.
Ростов
На меня, ростовчанина по рождению, свидание с родиной не произвело особого впечатления. Во-первых, я был увезен из Ростова годовалым ребенком и, стало быть, никаких воспоминаний не осталось, а во-вторых, все эмоции и мысли были обращены к театру, где надо было жить и играть, к встрече с ростовской труппой, с которой предстояло нам слиться.
Что касается помещения, беду мы почувствовали сразу: увидели громадное здание, напоминавшее гигантский трактор (очевидно, по замыслу архитектора), а внутри массу лишнего пространства, так бы я выразился. Непомерно широкие коридоры, колоссальные фойе, зрительный зал на 2300 мест, больше, чем в Большом театре, ну и соответственная сцена! Мрамор, бархат, плюш – полный «шик-модерн». Все это было как-то «не по делу», и складывалось впечатление, что задача строителей – не создание удобного драматического театра, а желание щегольнуть размахом – глядите, мол, какой мы в Ростове театр отгрохали, а?!
Когда мы уже обжились и дело дошло до капустников, я организовал комический хор. Как вы могли уже заметить, я в те годы баловался веселыми стишками и написал для этого хора вокальный номер, который назывался так: «Советская популярная массовая песня об архитектуре сцены Ростовского драматического театра имени М. Горького». И там пелись на мотив «Широка страна моя родная» такие слова:
Широки партера пол и стены…
Рампы как велосипедный трек,
Мы другой такой не знаем сцены,
Где так плохо слышен человек!!!
Был такой период гигантомании в деле театрального строительства. Вот тогда, очевидно, и изгадили Театр Красной Армии, расположив там никому не нужную гигантскую сцену, которую Алексей Дмитриевич Попов называл «полигон», и еще где-то в Сибири нечто театральное отгрохали, забывая при этом, что в театре драматическом хороши и удобны зрительные залы на 800, 900, ну от силы на 1200 мест.
В те годы наши друзья и наши недруги любили гадать, выживет или нет хрупкий студийный организм, вынутый из тепличной атмосферы своего подвальчика и брошенный на самую большую театральную сцену Союза. Скажу сразу: мы выжили, но Театр Завадского в его московском варианте по окончании ростовской эпохи перестал существовать.
Первой нашей премьерой в Ростове стала «Любовь Яровая». В процессе репетиций мы пытались укротить сцену, подчинить ее своим задачам. Пришлось искусственно уменьшать ее пространство, сдвигая кулисы, так и этак перевешивать задники, уменьшая ее глубину, хитрить с оформлением, изобретать мизансцены с учетом отвратительной акустики – вся эта техническая возня отнимала много времени, но иного выхода не было. Помню, как мы боролись с акустикой. Для того чтобы состоялся диалог двух актеров, стоявших на противоположных концах сцены и не кричавших друг другу, а нормально говоривших, додумались вот до чего: тот, кто кончал свою реплику, подавал каким-либо жестом сигнал партнеру, что пора говорить ему. Жест всегда был виден, а текст далеко не всегда слышен, вот и нашли «выход».
«Яровая» прошла хорошо, с московскими гостями, с широкой прессой. Москва нас ласкала за то, что мы, «не бунтуя», согласились на Ростов. Поэтому гости из Москвы бывали у нас часто, а к концу первого сезона приехал сам Юзовский и просмотрел весь ростовский репертуар.
Вот что касается репертуара, тут мы безусловно выиграли по сравнению с Головиным переулком, где наши постановочные возможности были сильно ограничены.
«Мещане», «Враги» Горького, грибоедовское «Горе от ума», «Разбойники» Шиллера, «На берегу Невы» Тренева, «Тигран» Готьяна, пушкинский спектакль («Маленькие трагедии»), «Павел Греков» Войтехова и Ленча, «Слава» Гусева, та же «Яровая», «Отелло» и «Укрощение строптивой» – не думаю, что на сцене нашего подвальчика могли бы состояться все перечисленные премьеры. И труппа пополнилась рядом интересных актеров. Из ростовских вспоминаю в первую очередь любимца города Г. Е. Леондора, A. M. Максимова, Ю. А. Банковского, молодых тогда Илюшу Швейцера, В. Шатуновского, П. Лободу, Е. Нерадова, Ю. Левицкого. Юра Левицкий позднее перебрался в Москву, теперь он народный артист РСФСР, работает в Московском театре имени Гоголя. Москва была представлена не только труппой Завадского, с нами приехали: Е. А. Тяпкина, М. Е. Лишин, П. И. Леонтьев, по сезону у нас прослужили В. И. Честноков и П. А. Константинов.
Какое-то время мы приглядывались друг к другу и существовали мирно, но где-то к концу первого сезона произошел взрыв. Накопились какие-то противоречия. Завадского стали упрекать в пристрастии к ученикам. Подробностей не помню, но помню бурное «выяснение отношений» на собрании в театре, которое началось вечером и закончилось под утро. Очевидно, всем надо было «выпустить пар», а в результате все закончилось миром и общим согласием.
Я хочу рассказать об угробленных мною ролях. Я говорю об этом сейчас не из кокетства – смотрите, мол, какой я объективный, честный, – а потому, что во всех случаях есть поучительность: я был наказан одним и тем же – попыткой спастись только внешним рисунком, голой формой. Это не надо путать с формой тех моих ролей, которые я признаю: там я щеголял не Бог весть каким, но органически найденным рисунком. Здесь же я «пыжился» в ролях, которые не пошли у меня начисто. По порядку будет так: нотариус Вольторе в пьесе Г. Вечоры «Мое» по «Вольпоне» Бен Джонсона – 32-й год, Болингброк в «Стакане воды» Скриба, сыгранный в Ростове в 37-м году, и Скалозуб в «Горе от ума» в Ростове же в 38-м году.
Итак, Вольторе. Я не помню уже, как это получилось, но был какой-то зоологический принцип в поисках зерна наших ролей – не думаю, чтобы это шло от Юрия Александровича, но кто-то это сделал. Я должен был играть Вольтере в образе ястреба и ходить в зоопарк и смотреть, как прыгает ястреб. Так я и прыгал потом на сцене. Я и до сих пор, когда бываю в зоопарке, с отвращением огибаю клетки с ястребами. Ужасное воспоминание моей театральной юности!
Когда репетировался Болингброк, мне было двадцать девять лет – мало для данной роли, но ведь через год в том же Ростове я сыграл фон Ранкена; тоже роль не для молодого, но в ней успел, а в Болингброке – не успел, не нашел своего ключа к роли. Я пыжился, надувался, пытаясь дать маститую фигуру умудренного годами вельможи, масштабного человека, играющего государственными судьбами. Должно было быть первоклассное владение диалогом, и это тоже не состоялось у меня тогда. Любопытно, что, когда «Стакан воды» поставили в филиале Театра имени Моссовета уже в 44-м году, я, может быть, там играл хорошо только сцену с герцогиней, а в общем опять не вышло дело. Хотя теперь Болингброка я мог бы сыграть лучше, но так вот и не задалось.
Третья роль – Скалозуб – тоже была полна «пыжения». Вначале я получил роль Репетилова, тогда Чацкого репетировал Лифанов. Потом стал репетировать Завадский, и Завадскому потребовался Скалозуб, соответствующий по длине, тут я и был переброшен. Но для того чтобы быть выше Завадского, даже я играл на котурнах. Длиной я подходил, но голоса для этой роли у меня не было, я хрипел, искусственно басил. Тоже тяжелое воспоминание! Но внешне это как-то все мне сошло с рук. Может быть, по инерции – моя жизнь складывалась хорошо, я играл много, играл что хотел, был хвалим прессой, считался удачливым. Тем сильнее были мои внутренние стеснения, совести у меня на это хватало. Я счастлив, что эти неудачи расположились в границах первого десятилетия; значит, я извлек из всего этого необходимые выводы.
Компенсация пришла на премьере «Дней нашей жизни» Л. Андреева, где в роли фон Ранкена я имел крупный и очень нужный мне успех. И эта роль стала для меня этапной. Намечалась гастрольная поездка Ростовского театра в Ленинград и Москву, и теперь я был спокоен, что еду с «товаром».
Очень урожайным стал Ростов для Мордвинова. Он сыграл там Ярового, пушкинского Дон Гуана, Тиграна, Карла Моора, Петруччо, Отелло! Вряд ли к нему пришли бы эти роли на сцене в Головином. Ростовская же сцена его окрыляла, ему вольно дышалось на ней: она требовала звучного голоса, широкого жеста, открытого темперамента – всего, что он любил и находил в своих данных и своем ростовском репертуаре. Вот ему наш переезд явно пошел на пользу.
Итак, приближалась встреча с Москвой. По семейным обстоятельствам я не мог дольше оставаться в Ростове, и гастрольная поездка давала мне время и возможность решить свою актерскую судьбу в Москве. В глубине души я мечтал о возвращении к Завадскому на каком-то другом витке жизни, что вообще-то и произошло через несколько лет. Пока же настроение было сложное – я покидал родной, вырастивший меня театр.
Учитель
С момента моей первой встречи с принцем Калафом прошло более полувека. Давно уже нет ни кудрей, ни толстовки… Не стало и его самого. Любителям театра и в нашей стране, и за рубежом знакома красивая голова моего учителя, окаймленная венчиком коротко остриженных белых волос. Таким он и ушел от нас, дожив до восьмидесяти трех лет. Много лет прошли мы, работая вместе, много пережили и хорошего, и дурного – незабываемые удачи и уныние пустых сезонов. Но вот это первое ощущение – ожидание творческих радостей от него – владело мною всегда при встречах с ним. И так же, как в молодости, я всегда боялся его оценивающего взгляда и неравнодушен был к его похвалам, и так же чувствовал себя в ответе перед ним, когда делал нечто не соответствующее мере его вкуса. И всегда мне хотелось создавать новую роль именно с ним. Увы, в последние годы это удавалось все реже и реже (так уж складывался репертуар). И тогда мне становилось особенно грустно при мысли о тех пяти годах разлуки с Юрием Александровичем, когда я уехал из Ростова и вернулся к нему уже в Театр имени Моссовета в 1943 году. Никаких принципиальных расхождений у нас не было. Творчески я никогда с ним не порывал и, не видя его, был с ним.
Что же сплотило нас вокруг Завадского на долгие годы? Ведь ученики редко ценят учителя только за количество лет, проведенных вместе, – ценят за полученное от него. Да, мы получили от него прежде всего его самого! Он сам воспринимался как явление искусства – красивый, легкий, быстрый, с какой-то, я бы сказал, инопланетной внешностью, – он завораживал, пьянил, восхищал своей влюбленностью в поэзию театра! И «систему» Станиславского он передавал нам, можно сказать, из рук в руки, «принося» ее с репетиций Константина Сергеевича. Это было нашим счастьем, так как уже множились начетчики и вульгаризаторы «системы», засорявшие педагогические ряды. Нашим счастьем было и то, что Юрий Александрович, синтезируя опыт своих великих учителей, от Вахтангова заряженный щедрой театральностью, от Станиславского – чутким умением исследовать глубины человеческого духа, развивал нас в этих двух направлениях, всегда отличавших его педагогику и лучшие его спектакли. Кстати сказать, он был не просто учеником Вахтангова и Станиславского – он был их любимцем.
У Завадского – воспитателя актера было качество, которым обладает не каждый даже выдающийся режиссер. Казалось бы, он создан, чтобы быть режиссером-диктатором: врожденная сценичность, безупречный вкус, остроразвитое чувство формы, точное ощущение ритма и темпа, безудержная фантазия на мизансцены и, наконец, умение великолепно показывать. Но все это было подчинено другому, главному его умению – догадываться о скрытых возможностях актера, раскрывать и выявлять их. Завадский никогда не фантазировал «отдельно» от индивидуальности исполнителя. Он пристально наблюдал и, что-то подсмотрев в актере, незаметными, как бы случайными намеками подводил его к желаемому результату. И уж если показывал, что случалось не так часто, то именно так, как мог сыграть только данный актер.
Он знал, что я неравнодушен к внешней стороне роли, и давал мне бесценные советы. Но с другой стороны, он хотел приучить меня к работе над внутренним миром роли, к исследованиям психологического порядка. С ним было крайне интересно работать и в этой области – такие тонкие, свежие и неожиданные нюансы человеческого характера он обнаруживал, анализируя образ.
С годами я научился понимать его с полуслова, по взгляду, по движению руки. Он ценил это, и в ряде спектаклей мы обходились без застольного периода. Скажем, в «Госпоже министерше», где в роли моего Нинковича «копать» было нечего, роль выстроилась прямо на сцене: он, сидя за режиссерским столиком, предлагал, а я на сцене делал. Но зато во «Втором дыхании», в сложной роли Левина, все решалось в застольном периоде. Там было в чем «покопаться», и Юрий Александрович очень помогал мне перекраивать меня – Плятта – на Левина, делать своими его внутренние движения и внешние повадки, совершенно иные, чем у меня. В моих психофизических ресурсах в их чистом виде ничего подходящего для Левина не нашлось. Пришлось искать. Но меня уже давно, в отличие от первых студийных лет, привлекал этот замечательный процесс – выращивания в себе какого-то другого человека. И в конце концов он нашелся, мой Александр Осипович Левин!
Я еще хочу рассказать о режиссуре Завадского на примере двух моих работ, сделанных с ним. К сожалению, они очень удалены от нас временем, но именно эти работы были для меня принципиально важными. Речь идет о роли фон Ранкена в ростовской премьере спектакля «Дни нашей жизни» Леонида Андреева в 1938 году и о роли Тапера в юбилейном чеховском спектакле в Театре имени Моссовета в 1944 году.
Параллельно с «Днями нашей жизни» в филиале театра решено было поставить «Как закалялась сталь» Н. Островского – так театр хотел высказаться о судьбах двух молодых поколений России. Мне в «Днях нашей жизни» досталась роль фон Ранкена, и начались мои мучения. Чтобы объяснить их, расскажу третий акт пьесы.
В Москве, на Тверской улице, некогда были номера гостиницы Фальцфейна. Тут и поселил Леонид Андреев некую полковницу, впавшую в полную нищету. Подрабатывает она тем, что приводит клиентов для; своей дочери Оль-Оль, занимающейся продажной любовью. И вот эта полковница находит среди бывших друзей своего мужа некоего фон Ранкена. Этот фон Ранкен, обрусевший немец, пожилой человек, врач по профессии, сластолюбец по призванию, и является в качестве очередного «визитера» к Оль-Оль и спокойно, как нормальное будничное дело, совершает покупку любви по существующей таксе. Сцена страшная! И, надо сказать, Андреев написал фон Ранкена с невероятной злостью – требовалось создать сценический эквивалент.
До революции пьеса эта была очень популярна, особенно в провинции. Конечно же шла она и в Ростове. И старожилы Ростовского театра захлебываясь вспоминали ее знаменитых исполнителей: ну как же забыть Оль-Оль – Павлу Вульф! А Волховской – Онуфрий, а фон Ранкен – Борисов!
Вот тут-то и начались мои муки. Борисова я знал и видел в Москве в Театре Корша и на эстраде. Актер он был роскошный, по фактуре комик, но играл все – от трагедии до водевиля. Он был типичным гастролером, артистом без своего театра, но сам по себе – театр. Успех имел всюду. На концертах конферансье А. А. Менделевич объявлял его так: «Объект восторгов, браво, бисов – Борис Самойлович Борисов!» Он был человек очень тучный, но легкий в движениях, с громадной головой и удивительно подвижным лицом, которое было окружено справа и слева пухлыми щеками, сверху – сияющей лысиной, а снизу – тройным подбородком. И на беду, как только я начинал фантазировать по поводу фон Ранкена, в моем воображении тут же возникал Борисов. Он казался мне идеальным исполнителем для этой роли, которая почему-то виделась мне в каком-то жире, сале, с одышкой. Я отчетливо представлял себе борисовского фон Ранкена с его тучной фигурой, громадным брюхом, отекшим лицом, слезящимися глазами и мокрыми, сладострастными губами… Ах, Борисов, величайшего обаяния актер, как он мешал мне в те дни, как закрывал мою фантазию!
В чем состоял идейный смысл работы советского актера, показывающего фон Ранкена в 1938 году? Ведь часть зрителей наверняка только понаслышке знала о легальной проституции, о домах терпимости. Смысл был в разоблачении этого представителя «хорошего общества». И сделать это надо было сильно, остро, со злостью, равной авторской, чтобы в зале покоробило всех, чтобы поняли, как это страшно! Срывание маски с фон Ранкена надо было выполнить средствами Плятта. Однако как? С моими-то данными? В 1938 году я был длинным и тонким, как ивовый прут. Было мне тридцать лет, и это немало, тем более что я являлся одним из ведущих актеров театра, но это не возраст мудрости, могущей подсказать нужное сценическое решение. А тут еще фон Ранкен – Борисов, сидевший во мне как заноза, которую я не в силах вытащить.
А репетиции между тем идут. Я пока что репетирую от себя, что в данной роли равно нулю, и с тоской поглядываю на режиссерский столик. А Завадский молчит. Репетиции близятся к завершению. Я понимаю, что нет главного – обличительной силы, заряда, каким надо выстрелить в фон Ранкена, а Завадский молчит. Видит наконец, что я маюсь, приглядывается ко мне и молчит. Вот-вот начнутся генеральные. Я прошу пока не решать вопрос с моим костюмом и пребываю в отчаянии, как вдруг… О, это волшебное «вдруг»!
Вдруг Завадский подзывает меня к себе и рисует на листке бумаги: «Смотри, вот так, так и так, а тут вот так, знаешь, такой… детский врач». С этим листком я бегу в гримерную и через несколько дней уже гримируюсь по этому рисунку Завадского.
Невероятным приличием, аккуратностью повеяло на меня из зеркала: какие-то благостные, пасторские, тщательно зачесанные назад седые волосы, аккуратно подстриженные седоватые усы и бородка, румяные щечки, белые брови над строгими золотистыми очками… Да, детский доктор, симпатичный старый господин из святочных рассказов, помогающий детям-сиротам на улицах… Этакий Санта-Клаус!
Вот теперь фантазия заработала уже молниеносно! Мне сразу захотелось надеть обручальное кольцо – конечно, он женат, у него две дочери возраста Оль-Оль, которых он тщательно оберегает. У него сухие шарнирные движения рук, пальцы, вымытые до невозможности. Весь он – скрипучая чистота, тихий, нудный голос, легкий немецкий акцент, выверенная медленная походка (какой там жир!)… На нем, конечно, солидный костюм (серая тройка), входит он с сигарой в зубах, на голове черный котелок, на согнутой левой руке висит плащ, в пальцах перчатки, в правой руке трость…
Завадский, увидев, что я ожил, стал забрасывать меня образными подсказками, пошли мизансцены, одна лучше другой, что-то предлагал он, что-то рождалось у меня… Ах, какое это было блаженство!
…Полковница вышла. Оль-Оль стоит ни жива ни мертва. Я медленно шагаю по номеру, что-то педантично растолковывая ей, потом решаю – пора, пожалуй, приготовиться к любви… В комнате стоит кровать, я, шагая, вдруг наклоняюсь над ней – мне показалось какое-то пятнышко, уж не клоп ли? Счищаю это пятнышко, я ведь люблю, чтоб было чисто. Затем снимаю пиджак, вешаю его на стул. Пауза. Подумав, вынимаю из пиджака бумажник и перекладываю его в карман брюк, так надежнее. Обстоятельно приступаю к процессу ласк, беру ручку Оль-Оль, намереваясь поцеловать все пальчики, и вдруг замечаю, что у нее грязные ноготки. Ай-ай-ай, как нехорошо! Пфуй! Вынимаю из жилетного кармана ногтечистку, вычищаю ей ноготки и только после этого приступаю к поцелуйному обряду.
Прошу Оль-Оль украсить этот вечер любви чем-нибудь вокальным. Она поет романс «Ни слова, о друг мой, ни вздоха!». И я в свою очередь пою ей сентиментальнейший романс. Его по моей просьбе сочинил наш композитор И. А. Носов, а текст мы придумали сами и перевели его на немецкий язык, на немецком же я его пел. И занавес закрывался в тот момент, когда, напевая этот сладостный романс, я аккуратным движением пальцев расстегивал верхнюю пуговку блузки Оль-Оль, сидевшей у меня на коленях…
Все это было сделано Завадским страшно и зло, и никого фривольность мизансцены не шокировала – это было искусство.
Да, своим подсказом грима Юрий Александрович решил дело! Однако из этого не следует делать методологические обобщения – дескать, вот не идет у актера роль, пусть найдет грим, и роль пойдет. Во-первых, не каждому актеру это полезно. Иному, привыкшему идти только внутренним ходом, поиски грима будут не помощью, а торможением. Да и Завадский далеко не всегда начинал с этого. А во-вторых, Юрий Александрович не только дал мне эскиз грима – он повел меня к сущности образа, к его социальной и психологической характеристике. Я почуял душу фон Ранкена, а не только его костюм, и, может быть, впервые почувствовал полноту жизни в образе. Эта роль стала для меня этапной. И вот что любопытно: когда уже выстроился мой фон Ранкен, я никак не мог понять, что, собственно, так увлекало меня в том «жирном» варианте фон Ранкена – Борисова, который я себе нафантазировал?
Я понял, что борисовский фон Ранкен абсолютно органично вписывается в любой кабак или публичный дом, моего же «детского доктора» просто трудно себе представить в каком-нибудь злачном заведении, а сорви с него маску приличия – такая же тварь! И в этом тоже была «изюминка» роли, угаданная Завадским.
А с «Тапером» было так. В 1944 году, когда отмечался чеховский юбилей, Театр имени Моссовета создал вечер чеховских рассказов под общим названием «Пестрые рассказы». В программу был включен маленький рассказ «Тапер». Вот содержание рассказа. Восьмидесятые годы прошлого столетия. Дешевенькие меблированные комнаты, где живут литераторы-из начинающих и бывший студент Московской консерватории Рублев, который теперь зарабатывает деньги как тапер. Второй час ночи. Литератор трудится над заказанным ему фельетоном, Рублев таперствует где-то на свадьбе. Внезапно он появляется; видно, что он чем-то потрясен. Он рассказывает соседу о том, как в купеческой семье обошлись с ним. До танцев он начал наигрывать на рояле нечто серьезное. Подошла хозяйская дочка, любящая музыку, разговорилась с ним. Но ее отозвали, потому что неприлично разговаривать с тапером. И вот когда потрясенный происшедшим Рублев в истерике зарыдал, хозяева решили, что он пьян, дали ему в шею, выпроводили… Очень напряженная сцена; в сущности, двадцатиминутный монолог Рублева. Вопль маленького человека, несостоявшегося таланта… Он говорит о себе: «Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы, пианисты, а попал… в таперы…»
С помощницей Завадского по этому отрывку режиссером М. Г. Ратнер мы начали работу. Затем раза три-четыре показывали сцену Юрию Александровичу – никаких замечаний. Тем временем текст осваивался, становился своим. Надо сказать, что мы с Миррой Григорьевной очень подружились. Она отличный аналитик, чуткий художник и интересный педагог. Мне с ней интересно работалось. Однажды, когда мы уже репетировали в выгородке, пришел в репетиционный зал Завадский. Он попросил затемнить окно, зажечь свечу, поставить так и так ширму, выдвинуть на сцену рояль (бутафорский) и вызвал пианистку для настоящего рояля. Рояль придвинули вплотную к кулисе. Попросил принести цилиндр, фрак, перчатки, шубу для меня: «Ну, попробуй, расположись!» Я «поплавал» немного. На сцене это значит далеко не то же самое, что – «купаться». Затем в течение часа Юрий Александрович размизансценировал всю сцену, причем точнейше! Я роняю перчатку на фразе такой-то, беру спичку на фразе такой-то…
Режиссера-деспота тут не было. Юрий Александрович не играл за меня, он шел от меня, я все делал сам, немедленно реализуя его предложения. Вот когда я начал «купаться»! Мне все стало «вкусно», удобно – появилась ночная атмосфера этого убогонького номера, где мается тапер. Все спорилось! Опять Юрий Александрович, подсмотрев что-то во мне, быстро реализовал это на сцене моими данными. Чудная была мизансцена у рояля! В рассказе никакого рояля нет, это его счастливое режиссерское изобретение. Я играл «Грезы любви» Листа. Там был кусок, когда музыка говорила о несостоявшемся гении… Гремят звуки открытого рояля, Рублев – весь вдохновение, и вы чувствуете, что он гениален… Но несколько секунд длится этот транс и… все пропало! Жизнь не состоялась. Отчаяние, опять истерика… Да, минут двадцать длился этот музыкальный вопль, в котором слышны порывы души художника и отчаяние перед действительностью.
«Тапер» шел недолго. Играл я его, могу сказать, с восторгом. С восторгом играл «от себя». Я как бы исповедовался зрительному залу, и никаких забот о внешнем не было, и грима не было. Я чуть-чуть подводил глаза и бледнил лицо. Позднее (по разным поводам) раза три мне приходилось возобновлять «Тапера». Тут помогала режиссерская партитура, точная, как ноты. Любопытно, что эта точность рисунка принадлежала сцене, где главное – жизнь человеческого духа! И – редкий случай – очень помогла мне рецензия Бояджиева. Об этом «случае с критиком» просто необходимо рассказать.








