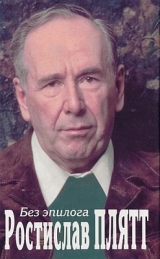
Текст книги "Без эпилога"
Автор книги: Ростислав Плятт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Хобби – театр
Для меня театр был всем, что, впрочем, не мешало мне отвлекаться на съемки в кино и на телевидении, записи на радио, выступления на эстраде…

Я не раз удивлял журналистов, отвечая на вопрос о моем «хобби» односложно: театр. И это не ради «красного словца» – театр действительно съедал все мое свободное время, остававшееся после бытовых хлопот, чтения и прямых обязанностей актера театра.
Я люблю свою профессию. Иногда, правда, горевал, что не занимаюсь ни режиссурой, ни педагогикой. Но актерское дело насыщало меня целиком.
Я прожил счастливую жизнь: никогда не знал простоев, играл что хотел и почти всю свою творческую жизнь «провел» под крылом у Завадского. Мне можно только позавидовать.
Но с юных лет я был беспокойным молодым человеком и с азартом ввязывался в любые «драки», дискуссии и обсуждения, совершавшиеся на театральном фронте. И не только по моему театру – меня интересовало все!
Театральная пресса или, точнее, отсутствие ее, творческие дела других театров, все виды мемуаристики по театру, методы разных театральных школ, все виды литературы о театре, проблемы, связанные со зрителем, чтение на радио – словом, все.
С годами мой азарт не затухал, вылился в ряд статей, появившихся в разное время в периодической печати. Некоторые из них, кажущиеся мне актуальными и сегодня, я отобрал для книги. Так вот и составился этот раздел.
Путь к образу
Этой статьей я мысленно обращаюсь к сегодняшней театральной молодежи с целью пробудить в ней аппетит к образному поиску, гриму, костюму и прочим атрибутам театра, потерявшим свою цену и малоуважаемым в эстетике современного театра, что, на мой взгляд, очень обедняет систему воспитания актера.
Однажды я ожидал Гиацинтову у служебного входа МХАТа 2-го – мне было поручено уточнить с ней число и час выступления на концерте у нас, в Студии Завадского. Входная дверь все время хлопала, впуская и выпуская кого-то, и вдруг как-то особенно широко распахнулась от сильного удара по ней с улицы. И вошел человек в расстегнутых ботиках, он, очевидно, и саданул по двери. В кармане его куртки виднелась шапка. Был он невысок и худощав, а бездонные, как мне показалось, глаза его глядели куда-то вдаль. Он спросил у дежурного сипловатым голосом: «Писем нет?» – и, получив отрицательный ответ, не раздеваясь, стал подниматься по лестнице, ведущей за кулисы. Это был Михаил Чехов – кумир театральной Москвы тех лет. Кстати сказать, мне довелось за мою долгую жизнь слышать всякие оценки актеров, иногда совсем неожиданные. Я знаю, например, человека, который начисто не принимал Качалова. Я знавал ниспровергателей Станиславского. И только два актерских имени не подлежали критике и вызывали всеобщее восхищение – Шаляпин и Михаил Чехов. Думаю, что это справедливо. Ту меру свободы и органики, какой владел Чехов, существуя в самых сложных своих перевоплощениях, смело можно назвать гениальной. И он же, без всякого грима, даже не попудрившись, выбегал на сцену играть с Гиацинтовой загулявшего студентика в чеховском рассказе «Свидание хотя и состоялось, но…».
До сих пор живет в моей памяти его сенатор Аблеухов из «Петербурга» Андрея Белого, увиденный мною в 1925 году! Но живет за счет того, что Чехов придумал для этой роли. Голый череп яйцеобразной формы, в котором отражались огни люстр, окаймленный остатками седых волос, переходящих в баки, оттопыренные уши, бледно-желтый цвет лица, безбровые, кажущиеся белыми глаза… И сановная привычка «тыкать», несколько трансформированная, так как он старался ее смягчить, говоря вместо «видишь ли» «видите ли». А его невнятные жесты и плохо координированная походка! А то, как на балу он «устанавливал» себя в «государственную» позу, хочется вспоминать и вспоминать.
Его Муромский в «Деле» Сухово-Кобылина – трагическая роль, кончающаяся смертью старика, заклеванного начальством. Известно, как должен выглядеть Муромский – почтенный старик, благородный отец в черном сюртуке… У Чехова было иначе. Когда, созерцая его вид, я отсмеялся, то подумал: «Ведь ему же умирать на сцене, возьмет ли он зал?» Взял. И еще слезы у зрителей вызвал. Имея в виду, что некогда Муромский был военный, он решил явиться к начальству в полном параде. На его хрупком теле болтался выцветший мундир, увешанный какими-то допотопными орденами. Его худенькие ножки в белых лосинах тонули в высоких ботфортах, к каблукам которых были привинчены шпоры. Но шпоры рыцарские, длинные, со звездами на концах (для того чтоб он мог спотыкаться, цепляясь при ходьбе шпорой за шпору)… И при всем этом абсолютно штатское лицо: трогательный пушистый белый паричок, огромной длины бакенбарды, большой висячий нос, истыканный, очевидно, верхней частью кисти и от этого весь в рытвинах, и добренькие-добренькие глазки, наивные и слегка испуганные.
Мои оппоненты скажут: «Ну и к чему все это? Что же, по-вашему, Чехов не мог бы потрясать без такой сложной костюмировки и такого подробного грима?!» Конечно, мог бы, но было бы менее интересно. Подробнейший образ возникал в его грандиозной фантазии, и, реализуя его, он стремился к максимальной схожести с «увиденным».
Я не был знаком с Чеховым, не знал его в быту, но жадно слушал рассказы о нем. А когда я узнал, что Чехов к тому же и озорник, обожающий розыгрыши, он стал для меня еще интереснее. Он был первым театральным потрясением, надолго определившим мои симпатии и вкусы.
Как я уже говорил, я не занимаюсь ни режиссурой, ни педагогикой – так уж сложилась моя жизнь. Общение с театральной молодежью для меня исчерпывается случайными разговорами, ответами молодых на задаваемые мною вопросы и моими ответами на их вопросы, что бывает достаточно часто. Кроме того, я накапливаю впечатления о молодых, когда мы просматриваем выпускников театральных вузов, желающих поступить в наш театр. И от раза к разу у меня крепнет ощущение, что у нынешних молодых актеров и актрис почти полностью отсутствует интерес к тому, что для моего поколения было предметом постоянных забот и волнений, – интерес к образному постижению роли, образному мышлению.
Не случайно, очевидно, во всех отрывках, какие мне довелось видеть на этих просмотрах, возраст персонажей соответствовал возрасту самих исполнителей – попыток к перевоплощению не было, поисков характерности я не помню. Следует предположить, что наставники молодых актеров и не стремились раскрыть своих учеников в этом плане. А между тем вот список достижений молодого Хмелева: Силан в «Горячем сердце» (1926 г.), Алексей Турбин в «Днях Турбиных» (1926 г.), Пеклеванов в «Бронепоезде 14–69» (1927 г.). Это все сыграно в возрасте от 24 до 26 лет. Я взял на выбор только три роли, после которых Хмелев стал вровень со знаменитыми артистами МХАТа. А еще в школе МХАТа он показал Станиславскому и Немировичу-Данченко всех своих «стариков» в приготовленных им отрывках: Карпа в «Лесе», Фирса в «Вишневом саде» и Снегирева в «Братьях Карамазовых», и оба отозвались о работе Хмелева с большой похвалой.
Современный молодой актер чаще всего слышит иронические разговоры о характерности в роли, о гриме и прочих средствах выразительности, которые теперь считаются атрибутами театра прошлого. А я бы посоветовал ему вглядеться в фотографии Хмелева в названных мною трех ролях. Может быть, что-нибудь дрогнуло бы в его театральной душе при взгляде на это преображение, причем совершенно разное в каждом из трех случаев!
Мне довелось часто видеть Хмелева за кулисами МХАТа. Довольно высокий, сутуловатый, лохматый, в толстовке, носик невзрачный – лепешечкой, вид озабоченный – куда-то все время торопится. Вот такое складывалось впечатление от будущего худрука МХАТа. Таким я видел его буквально за день до премьеры «Дней Турбиных», осенью 1926 года. А на премьере он меня сразил: на сцене стоял совершенно другой человек. Хмелев выстроил себя именно для этой роли, роли Алексея Турбина. Породистая голова, гладко зачесанные назад, начинающие седеть волосы, четкие темные брови, красивые пронзительные глаза (сразу захотелось сказать «командирские»), прямой точеный нос, на верхней губе щеточка аккуратно подстриженных усов, голос жесткий и хрипловатый, манера говорить отрывистая, иногда скандирующая слова. Военная форма сидит как влитая, ни одного лишнего жеста… Как видите, все слеплено из собственного материала и с каким пониманием того, что можно выжать из своих данных и что пригодится для роли!
Удивительно хорошо играла молодая смена МХАТа. Живительно по силе правды, по атмосфере, какую удалось им создать за «кремовыми шторами» турбинского дома. А Хмелев притягивал к себе просто магически. Спектакль шел долго, появилась потребность в дублерах, которых вводили бережно и осторожно, и все-таки спектакль звучал в полную силу, когда собирался первый состав: Соколова, Прудкин, Яншин, Добронравов, Кудрявцев. Каждый из них обладал тем актерским обаянием, которое скопировать нельзя. А дублеры были первоклассные. Вместо Прудкина – Кторов! Вместо Добронравова – Топорков! И т. д. Но первый состав есть первый состав, и сыгранности молодых можно было только завидовать. Я забыл сказать о работе В. Я. Станицына, который из эпизодической роли генерала фон Шратта сделал шедевр. А разница в составах мне была особенно ясно видна вот почему: уезжая на гастроли в Ленинград, МХАТ обычно оставлял часть спектаклей в Москве. И вот к Завадскому явился заведующий труппой МХАТа, Е. В. Калужский, с просьбой выделить ему десять рослых студийцев для исполнения ролей юнкеров в сцене «гимназия». «Турбины» оставались в Москве и должны были играться десять раз подряд; Согласие, конечно, было дано, и я (о счастье!) был включен в эту группу. О, как нас вводили! Нас собрали в фойе МХАТа, где мы прослушали лекцию о белом движении и корниловском походе. Затем началась подробнейшая подгонка костюмов – шинель до пят, фуражка и оружие. Как сейчас помню, мне досталась шинель Страута, одного из молодых актеров МХАТа. Но, и это самое главное, я играл в ботфортах Василия Ивановича Качалова, представляете?! Это были лакированные ботфорты, в которых Василий Иванович играл Николая I в спектакле «Николай I и декабристы». Сапоги уже сносились, но из-под длинной шинели мелькало нечто лакированное – этого было достаточно. Нам положили по три рубля за спектакль, в 27-м году это была уже некая сумма, и каждому показали его место для грима, с индивидуальной тряпочкой. До сих пор не могу забыть, каким радостным был момент, когда группа юнкеров, заранее выстроенная на сцене, начинала свой марш по лестнице под крики «Юнкера, веселее!», распевая во все горло в маршевом ритме знаменитый романс:
Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна…
Хмелев сыграл семь спектаклей (три играл И. Я. Судаков), и на каждом спектакле я не переставал радостно удивляться его свершениям. Он был как-то по-особенному красив – в офицерской щегольской фуражке, в черном коротком полушубке, отороченном серым каракулем. И когда он, смертельно раненный, катился вниз по лестнице, я еле сдерживал слезы.
Пути к правде роли многообразны, и у каждого – свои: кто-то предпочитает идти к ней от внешнего рисунка, кто-то – от внутреннего ощущения, но ошибочно противопоставлять одно другому. Ведь внешнее, если оно верно взято, неизбежно вызовет к жизни и внутреннее.
…Был любопытный случай в моей «гримной» жизни. В 1962 году Ю. А. Завадский начал репетировать пьесу «Бунт женщин» на сюжет аристофановской «Лисистраты», где я должен был играть Президента некоего (скорее всего, латиноамериканского) государства. Спектакль намечался многоплановый, где Юрий Александрович искусно сочетал патетику, народный юмор, лирику и элементы политического памфлета с гротесковыми и фарсовыми кусками. Я должен был стать ведущей фигурой памфлетной части спектакля. По тексту, предложенному авторами пьесы, Назымом Хикметом и В. Комиссаржевским, Президент был ясен: знакомая, примелькавшаяся в газетах фигура главы марионеточного правительства. Завадский предложил мне искать острую, гротесковую манеру игры. Но хотелось избежать плакатности и найти какой-то характер. И вот уже в начальном периоде репетиций я сговорился с нашими художником-гримером А. В. Яковлевым, замечательным мастером. Мы засели у меня в гримерной и начали искать «лицо» моего Президента.
Уже слышу ехидные реплики оппонентов – противников грима: «А со своим лицом вы не смогли бы сыграть Президента?!» Мог бы. Но хуже. Мне это было неинтересно, мне уже мерещился некий стареющий фат с ослепительно черными набриолиненными волосами, уложенными по последней моде, сверкающей белизной вставных зубов, с чувственными подкрашенными губами и стрелкой усов над ними, с тупым взглядом самовлюбленных глаз, в которых доминируют два выражения: сластолюбивое (в адрес жизни) и свирепое (в адрес политических врагов)… Словом, парадный фасад, а за ним – пустота, пшик…
И мы нашли такое лицо, и показали режиссеру, и получили «добро», и я начал репетировать… под найденный грим. Случай вряд ли полезный в атмосфере поисков тонкого, психологического – чеховского, скажем – спектакля, но в данном конкретном случае, в специфике данного спектакля допустимый. Я репетировал, воображая себя с тем «лицом», и скоро нашлись и речевая манера, и жест, и походка, и смокинг, усеянный микроорденами, и прочие детали костюма.
Я уже рассказывал о том огромном впечатлении, какое произвел на меня Станиславский своим внутренним ходом к роли Астрова. И вместе с тем очевидцы вспоминали, что в лучшей своей роли, по мнению многих доктора Штокмана, он поражал внешним перевоплощением. А когда я сам увидел, что он сделал с ролью Крутицкого в «Мудреце», став путем внешнего перевоплощения абсолютно другим человеком, я лишний раз убедился, что внутреннее и внешнее перевоплощение идут в творчестве параллельно, соединяясь в конце пути в искомое. Станиславский в Крутицком играл дремучего идиота, и рассказывали, что в вечер «Мудреца» к нему нельзя было обращаться с серьезными вопросами, в ответ он нес какую-то ерунду – вот ярчайший пример соединения внешнего и внутреннего перевоплощения.
Смысл этих моих заметок я вижу вот в чем. Мне хотелось увлечь молодого актера на путь образных поисков, разбудить его фантазию, убедить в том, что, занимаясь лишь «самовыражением», он обкрадывает самого себя. Что при встрече с образом, который не может быть выполнен только его данными, он либо подомнет роль под себя, либо его встреча с образом так и не состоится.
Встречи с Шоу
Когда по капризу Завадского я впервые появился в образе Шоу на сцене нашего театра, я и не подозревал, что образ великого комедиографа пройдет через всю мою творческую жизнь. А началось все так. В 1933 году Юрий Александрович ставил на нашей сцене в Головином переулке «Ученика дьявола». Поначалу я в спектакле занят не был, иногда заглядывал в репетиционный зал, наблюдая, как мужает в заглавной роли Мордвинов и с филигранным юмором ищет генерала Бэргойна Абдулов.
И вот как-то, когда репетиция уже заканчивалась, меня вызвал Завадский и сказал: «Знаешь, я решил, что в конце спектакля появится Шоу, – это будешь ты. Мне видится так – за несколько фраз до финала потухнет свет, что-то загрохочет, и в клубах дыма, как deus ex machina – бог из машины, – являешься ты, приветствуешь участников и обращаешься к зрителям с небольшим монологом, который мы сочиним из различных высказываний Шоу!»
Словом, замышлялось театральное озорство. Я с восторгом взялся за это дело. Фигурой я был похож на Шоу, а грим решил сделать легкий, плакатный: седой парик, косматые брови, усы и борода. Премьера прошла с большим успехом, аплодировали отдельно и мне, как я понимал, за эффектность появления. Спектакль имел резонанс, и руководство боялось только одного: как бы Шоу не рассердился за такую переделку. Заботы об этом взял на себя Луначарский: при его содействии Шоу отправили описание спектакля и фотографии из него, а Шоу откликнулся приветливым письмом, в котором, между прочим, писал, что Шоу в исполнении Плятта ему несомненно нравится гораздо больше, чем оригинал, хотя бы потому, что он явно моложе и здоровее.
Годы шли. Я играл много, много концертировал, работал на радио и на дубляже и не сберег голос, стал хрипеть. Прошло тридцать лет. Приехала из Парижа Марецкая и привезла пьесу Джерома Килти «Милый лжец» в переводе Эльзы Триоле. В этой пьесе две роли – Бернарда Шоу и английской актрисы Патрик Кэмпбелл. Эту роль она хотела сыграть, предлагая роль Шоу мне. Я прочитал пьесу, решил, что ее никто понимать не будет, ужаснулся количеству текста (с моим-то тогда больным горлом!) и отказался. Завадский почему-то тоже не увлекся пьесой, и эта идея умерла.
Тем временем МХАТ выпустил замечательный спектакль «Милый лжец», где блистали Степанова и Кторов, и все мои друзья обрушили на меня град насмешек: как я мог пропустить такую роль?! Затем пьеса пошла по стране, появилась пресса, и я понял, как я промахнулся. Некоторым утешением для меня явилось то, что театр решил поставить пьесу Шоу «Цезарь и Клеопатра» со мной в главной роли. Ставил спектакль Евгений Завадский, который сообщил мне, что у отца есть идея, чтобы я в гриме Шоу открывал и закрывал спектакль. «Неймется Юрию Александровичу снова увидеть меня в роли Шоу», – подумал я, хотя тут уже речь шла о художественно сделанном гриме. Но возникло техническое неудобство: открывая спектакль, я беседовал со зрителями, попивал чаек в образе Шоу, затем спускался под сцену, и в моем распоряжении был минимум времени, чтобы появиться в образе Цезаря. Поэтому, гримируя меня под Шоу в начале спектакля, наш гример сперва вклеивал мне небольшой парик, в котором я играл Цезаря, и потом накладывал на него парик Шоу. Под сценой меня рвали на части гримеры и костюмеры – кто-то стаскивал брюки, кто-то сдирал с лица нос Шоу. Наконец, накинув тогу, я медленно поднимался по лестнице к рампе, и начиналась роль Цезаря. А для финала меня сняли в подробном гриме Шоу на пленку, записали необходимый текст. Тут уж никакой чехарды не было, я спокойно возникал на экране в образе Шоу, а на сцене в это же время стоял в роли Цезаря.
Когда еще шли репетиции «Цезаря», ко мне позвонила Любовь Петровна Орлова и сказала, что она очень заинтересована пьесой Килти, ставить будет Григорий Васильевич Александров, и они рассчитывают на меня в роли Шоу. Надо ли говорить, как мне хотелось согласиться, тем более что голос уже давно был в порядке, но этические соображения (ведь я отказался играть с Марецкой) не дали мне этого сделать, не говоря уже о том, что я был весь в репетициях Цезаря. Так опять «Милый лжец» прошел мимо меня. Любовь Петровна поняла ситуацию и решила пригласить на роль Шоу Андрея Попова, с тем чтобы он играл этот спектакль в нашем театре. У них дело почему-то не заладилось, и тут появилась новая кандидатура – в наш театр перешел из Киевского театра имени Леси Украинки Михаил Федорович Романов. С ним Григорий Васильевич и начал репетировать «Милого лжеца». Затем были наши гастроли в Ленинграде; там завершили работу над «Милым лжецом» и сыграли несколько спектаклей в рабочих клубах. Я, конечно, хотел посмотреть, но Романов очень нежно сказал мне: «Славочка, дайте мне выиграться. Вот приходите осенью на первый спектакль». Я послушался. А летом, во время отпуска, услышал, что Романов скончался. Когда я вернулся в Москву, директор театра, М. С. Никонов, ехидно глядя на меня, сказал: «Ну как, теперь все ясно? Репетировать начинайте немедленно». Я сказал Никонову, что спектакля так и не видел и прошу минимум месяц, чтобы был солидный ввод. Уговорились. Затем выяснилось, что Григория Васильевича и Любови Петровны нет в Москве и вводить меня будет ассистент Александрова – Нина Михоэлс. Вот так наконец пришел ко мне «Милый лжец»!
Я был в трудном положении. Я не видел мхатовского спектакля и не видел нашего. Словом, предстояла «езда в незнаемое». Нину Михоэлс я еще не знал тогда, но очень любил ее отца, знаменитого Михоэлса, и, проведя с ней несколько бесед, понял, что отцовская даровитость перешла и к дочери. Мы договорились о таком плане действий: я выучиваю наизусть какой-то кусок роли, мы встречаемся на выгородке, и я прошу ее показать мне рисунок, в котором задумывался этот кусок. И так как текст я уже знаю, то могу свободно усваивать рисунок. И так мы прошли всю роль. Иногда я становился «на дыбы» и предлагал уже свою мизансцену, постепенно осваиваясь в материале. Это днем, а вечерами я занимался необходимым делом: вникал в смысл вызубренного текста, ведь учил-то я текст вначале чисто технически, как попугай. «Батюшки! А что это я утром говорил, надо разобраться!» Нина была мне верным помощником, она идеально знала рисунок спектакля и понимала, какие новшества может позволить себе вводящийся актер, а на чем Александров будет настаивать.
Конечно, я пошел смотреть спектакль в МХАТе и огорчился: почему-то не ожидал, что так хорошо они будут играть. Кроме того, я убедился, как жадно рядовой зритель воспринимает пьесу, что тоже явилось для меня сюрпризом. Надо сказать, что по стилю наши спектакли резко отличались друг от друга. Раевский поставил аскетически строгий спектакль, я бы сказал, спектакль-концерт, почти лишенный мизансцены. Александров же ввел в свой спектакль игровые моменты: на фоне задника, в котором угадывалось нечто лондонское, мы встречались, здоровались и расходились в разные стороны сцены, где установлены были как бы две квартиры – Шоу и Кэмпбелл. Очень высоко я оценил мастерство художника А. П. Васильева, создавшего из минимума предметов должную атмосферу. В отличие от мхатовского спектакля мы шли по линии значительно большей театральности. У нас были интересные мизансцены, включающие предметы, как бы объединяющие нас, – зонтики, шляпная картонка с письмами и т. д.
Любопытная история была с гримом. После появления в «Ученике дьявола» мне все время хотелось найти случай, чтобы снова появиться в подробном гриме Шоу. Я надеялся, что это можно будет сделать в «Цезаре», но там из-за технических сложностей это не получалось. И вот теперь – «Милый лжец». Ну тут уж я уж… По счастью, друзья убедили меня, что в «Милом лжеце» гримироваться глупо. На глазах у зрителей проходит примерно сорок лет, их же нельзя играть в одном и том же гриме, а на всякие трансформации здесь времени опять не оставалось. Помирились на том, что я надевал на весь спектакль седоватый парик с разобранными на прямой ряд волосами, торчащими в разные стороны по краям пробора, что напоминало прическу Шоу.
Сложнее было с костюмом. Я никак не мог принять вид Кторова, который появлялся в смокинге, крахмале и лакированных туфлях. Я вспоминал свой визит в поместье Шоу под Лондоном и его «наряды», явно говорившие о том, как старик был равнодушен к своему виду, поэтому просто невозможно представить Шоу элегантным, в фрачно-салонном оперении. Размышляя о том единственном костюме, в котором Шоу будет весь спектакль, я выбрал для себя поношенную тройку, при галстуке, и лыжные ботинки. И еще.
Шоу, как мне казалось, немыслим без юмора, шутки и комедийного озорства. И понятно, что Патрик Кэмпбелл называет его Рыжим. Раевский от Рыжего не оставил Кторову ничего. И мне лично именно этого не хватало в его строгом, графически четком, мужественном решении.
Автор пьесы Джером Килти проделал интереснейшую работу: допущенный к архивам, располагая перепиской Шоу и Кэмпбелл на протяжении сорока лет, он выстроил из нее, я бы сказал, волнующую новеллу, где чувства и поступки героев не фальсифицированы, не подслащены, а отмечены подлинностью. И Шоу, выстроенный из своих писем, предстает сложнейшим характером, в котором кипят самые противоречивые чувства. Ирония, сарказм, нежность, любовь, горечь, щедрость и скупость – надо ли говорить, как интересно было играть такой характер. Я, пожалуй, больше всего любил играть монолог о смерти матери – глубочайший и бесконечно трогательный. Когда, обращаясь к Патрик с рассказом о похоронах. Шоу, как настоящий Рыжий, ёрничая и карикатуря, скрывал свои драму, одиночество и горе.
Любопытно, как складывается жизнь актера: роль, от которой я убегал, в конечном счете догнала меня и поработила.
Наш спектакль шел с громадным успехом. Он был показан во многих городах Союза и за рубежом и всюду имел великолепную прессу.
Но встречи мои с Шоу на этом не кончились. Примерно в середине 70-х годов, не помню у кого, возникла идея включить в учебную программу телевидения цикл передач о Шоу. По форме предполагалась беседа на квартире у Шоу с видным литературоведом, которую должны были иллюстрировать отрывки из пьес Шоу. Организовать все это было поручено Александру Абрамовичу Аниксту. Я должен был играть Шоу, в отрывках помогали нам актеры московских театров, ставил П. О. Хомский. Но уж тут уж, я уж!.. И представьте себе, на этот раз с меня требовалось полное перевоплощение в Шоу! Я приезжал на трактовые репетиции часа за полтора до их начала, и, мы с прекрасным гримером Надей без всякой спешки искали грим. Меня очень грела моя позиция в этом спектакле: сидя за своим письменным столом в образе Шоу, я все время полемизировал с Аникстом по поводу очередной пьесы, а потом, доказывая правоту своих позиций (позиций Шоу), вставал из-за стола и играл отрывки из этой пьесы. Это были отрывки из «Ученика дьявола», «Дома, где разбиваются сердца», «Профессии миссис Уоррен» и т. д. В полемике я придерживался рамок сценария, но иногда позволял себе импровизировать. Мне доставляло особенное наслаждение то, что я мог подсмеиваться над Аникстом. Как Плятт я бы не мог, а в роли Шоу – сколько угодно! Представьте, как было мне приятно пренебрежительно говорить энциклопедически образованному ведущему советскому литературоведу А. А. Аниксту: «Ну, этого вы, конечно, не читали!»
Александр Абрамович почувствовал, что я уже устроился в роли, и бдительно следил, чтобы я не брякнул чего-нибудь неподходящего. Но все обошлось, и мы закончили съемки в мире и согласии.
Телевизионная жизнь «Театра Бернарда Шоу» продолжается, вызывая постоянный интерес и одобрение многомиллионной аудитории.








