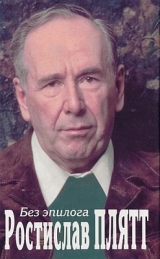
Текст книги "Без эпилога"
Автор книги: Ростислав Плятт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Студия на Сретенке
Я ее помню с осени 1926 года. А до этого она, оказывается, где только не скиталась два года в поисках помещения… Работала в каком-то постпредстве, в помещении курсов кройки и шитья, еще где-то, и вот Сретенка, наконец, стала ее стационаром, правда весьма необорудованным. Первый этаж занимала сберкасса, на второй вела небольшая лестница, и тут начинались владения студии. А когда-то здесь был паноптикум, показывали женщину с бородой, сросшихся младенцев и прочие неприятные чудеса. Зрительный зал был небольшой, мест на девяносто, а в середине зала почему-то высились две металлические тощие колонны, небольшая сцена и несколько комнат, которые служили и гримерными, и складскими помещениями, и классами для занятий. Очевидно, именно осенью 26-го года и намечалось открытие студии в этом помещении, потому что, когда я поднялся по лестнице, чтобы подать заявление о приеме, я застал генеральную уборку: студийцы, одетые в какие-то робы из мешковины или парусины, скребли, мыли, протирали, подметали…
Заглянув в зрительный зал, я увидел картину поистине эпическую: молодой красавец грузин, атлетически сложенный, подставив мощную спину под большой концертный рояль, ожидал, когда принесут табуретку, заменявшую третью ножку. У рояля, как известно, три ножки, а у студийного их было только две. Этим молодым красавцем был в будущем народный артист Советского Союза Иосиф Михайлович Туманов, или, по-студийному, Бэба. Его жизнь сложилась любопытно. У него были блестящие актерские данные, но он принадлежал к породе людей, дело которых – руководить. Великолепный организатор, с годами он стал ближайшим помощником Завадского по театру, успешно пробовал силы в режиссуре, а потом произошел внутристудийный конфликт. В результате Туманов ушел от Завадского. В дальнейшем он был главным режиссером ряда театров, затем увлекся работой в музыкальном театре, поставил спектакль в оперной студии Станиславского, работал там, стал правой рукой Константина Сергеевича, а после его смерти возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Последние годы он был главным режиссером Большого театра. Ему равных не было в постановке массовых зрелищ, художественных концертов, фестивалей. Лебединой его песней стала организация Культурной программы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, восхитившей не только участников Олимпиады и советских зрителей, но и телезрителей многих стран мира.
А что касается имени Бэба, я, как и все близкие, звал его так всю жизнь, но до сих пор не знаю, производным от чего оно являлось. В студии даже ходили такие стишки:
Глаза и нос —
Великий вопрос.
Вырос до неба,
А все еще Бэба.
В это время Иосиф Михайлович репетировал отрывок из рассказа Джека Лондона «Великий вопрос». Мы с ним были одногодки, быстро подружились, и дружба эта продолжалась всю жизнь. Когда он несколько лет тому назад скончался, с ним ушла часть моей юности.
Однако вернемся к студии. Я был зачислен на испытательный срок, и началась моя жизнь театрального студийца. Заведение наше называлось странно: Драмкурсы Москпрофобра при СОНО п/р Завадского. Студия была бедна абсолютно, и, по-моему, часть педагогов занимались с нами бесплатно по гуманному призыву «Надо помочь Юре!». Это же были его соратники – вахтанговцы Орочко, Наль, Мансурова, Львова, Шихматов…
Много работала в студии артистка МХАТа Вера Сергеевна Соколова. С нами, новичками, старшие ученики Юрия Александровича – Балюнас, Кудрявцева, Чистяков, Преображенский – занимались упражнениями по системе.
К этому времени в студии уже образовался репертуар для так называемых исполнительских вечеров: не будучи театром, продавать билеты за деньги мы не имели права, но могли устраивать такие вот студийные просмотры, на которые приходили друзья и знакомые. На этих, вечерах показывали водевиль (не помню чей) «Два мужа» и горьковские «Страсти-мордасти». А кроме того, уже был приготовлен спектакль «Любовью не шутят» по пьесе Альфреда де Мюссе. В этих показах уже было много серьезных актерских удач. Великолепно играла и в водевиле, и в горьковской вещи А. Н. Кудрявцева, мой первый педагог по отрывкам; старшие студийцы Фивейский и Бродский – в «Любовью не шутят». Я смотрел на них с восторгом и завистью и думал: неужели и я когда-нибудь смогу так играть?!
Случай помог мне двинуться вперед. В 1928 году Завадский решил поставить эксцентрическую комедию Газенклевера «Компас». При распределении ролей выяснилось, что нет исполнителя на одну из главных ролей – Гарри Компаса, сына миллионера, пижона и прощелыги. Я уже года два учился в студии, Завадский меня помнил и решил рискнуть, взяв на эту роль. Играл я там, в сущности, самого себя, только пришлось научиться танцевать модный тогда чарльстон. Думаю, что мое появление спектакль не украсило, но и провала не было, очень уж подходили мои внешние данные. Для меня этот случай имел огромное значение: я впервые репетировал с Завадским, овладевал очень острым рисунком роли, привыкал к сцене, к общению со старшими партнерами, приобретал некоторую технику.
В это время резко изменилась судьба студии: она была принята в ведение Главнауки с правом называться театром. И вместо «Драмкурсов при СОНО» в Москве появился новый театр – Московский государственный театр под руководством Ю. А. Завадского. А в 1931 году было получено и новое помещение – подвал в Головином переулке, где сейчас филиал Театра имени Маяковского. Да, это уже был театр, о чем возвещало окошечко кассы, встречавшее зрителя на площадке лестницы, ведущей в подвал. Зрительный зал – настоящий, мест на пятьсот с лишним, имелось большое фойе и достаточное количество помещений, необходимых театру. В общем, не Бог весть что, но после нашего «паноптикума» – дворец! Официально мы открылись осенью 31-го года премьерой – пьесой И. Штока «Нырятин». Было празднично, Мейерхольд торжественно разрезал ленту. Однако я сильно забежал вперед.
Жили мы по принципу, заведенному еще Вахтанговым в Мансуровской студии, – все делать своими руками. Каждый из нас отвечал за определенный участок работы. Много хлопот было с гардеробом для зрителей – в студии он вообще отсутствовал. Во-первых, нашли для него место, а во-вторых, сделали его. Теперь мы могли принять около ста зрительских пальто. Гардеробщиками, разумеется, стали студийцы.
Потолки у нас были высокие, и в одной из комнат мы сделали полати с приставной лестницей – там могли гримироваться четыре человека. А экономить площадь было необходимо, так как в этой же комнате много места занимал большой «ворчун», полый внутри деревянный ящик. Ударяя по нему специальной битой, наш талантливый студиец В. Пикунов создавал и гром, и артиллерийскую стрельбу.
Жизнь на испытательном курсе мы воспринимали как досадную неизбежность, которую надо вытерпеть, чтобы наконец-то получить право на игру в отрывках, а там, глядишь, уже и ролями запахнет! Но мне упражнения по «системе» нравились – тренировали фантазию. Скажем, этюды на оправдание поз: по хлопку надо было принять любую позу, а затем ее оправдать. Был у нас один ученик. Он после хлопка всегда застывал в одной и той же позе – руки подняты кверху, а затем, соединив кисти, начинал «колоть дрова». Ему попадало за вялость его фантазии, но безрезультатно. Так «поколов дрова» около года, он был отчислен. Был у нас другой ученик, блистательно делавший упражнения с несуществующими предметами. Например, отвинчивал свою голову, протирал ее и затем надевал обратно. Но когда курс подошел к отрывкам, выяснилось, что со словом он сладить не может. Попытки научить его говорить на сцене ни к чему не привели. Вот такие проблемы иногда встают перед педагогом: кажется, появилась жемчужина на курсе, надежда студии, блестит на всех упражнениях, а подошли к отрывкам – не актер.
Для меня лично студийные годы примечательны тем, что я яростно увлекся «внешней» театральностью (я имею в виду время, когда уже был допущен и к отрывкам, и к ролям). Господи! Чего только, я не делал, изобретая гримы, походки, интонации! В одной роли я большими мохнатыми усами совершенно закрыл свой довольно крупный нос с горбинкой, вклеив усы в том месте, где горбинка начинается. Это совершенно деформировало лицо, но, к моему удовольствию, возникла не маска, а живой облик какого-то усача. Странным образом все впечатления и потрясения, накопленные мною на спектаклях МХАТа, куда-то отошли… Я с наслаждением ринулся в веселый мир эксцентрики, театрального озорства, резкой характерности. Внешнее перевоплощение казалось мне обязательным. Старика растратчика из пьесы Дэля «Пьяный круг» я играл с наклеенной нижней губой, беззубым, шепелявым, сладостно напевающим: «Раш три богини шпорить штали…» В роли бузотера в спектакле «Проба» по пьесе Колосова и Герасимовой я надевал толщинку, делавшую мой тощий торс атлетически мощным, нос «курносил», подтягивая его ленточкой, смазанной лаком, чуть не до бровей, а говорил на этот раз сиплым басом.
В «Нырятине», в роли нэпманского сынка Илюшки, Юрий Александрович загримировал меня так: очень низкий лоб, прилизанные черные волосы, подбритые брови, жирный грушевидный нос, висевший книзу. А говорил я, еле ворочая толстым языком и пришепетывая: «Ефть возможность уефать в Москву, в шледочном вагоне». Растратчик, бузотер Илюшка…
Я испытывал восторг при мысли, что, если, допустим, были бы записаны на пленку мои реплики из этих трех ролей, никто бы не сказал, что это говорит один человек. Или если бы выложить рядом фотографии этих трех ролей, никто не поверит, что на всех трех – Плятт. Кстати сказать, играя Гарри Компаса, я страдал от того, что не нужно гримироваться: я только надевал большие роговые очки и говорил своим собственным голосом. Ужасно!
Завадский до поры до времени давал нам полную свободу и приглядывался к каждому из нас, с тем чтобы в нужный момент застопорить или, наоборот, благословить наши поиски. Фантазии актера он придавал большое значение и всегда поощрял образные поиски, но только те, которые были органичными для данного актера, наигрыш изгонялся беспощадно. В нашем расписании был день, который назывался (сегодня и написать-то страшно) «Ищем гримы». Обычно он назначался незадолго до начала генеральных репетиций, но вызывались все, а не только занятые в будущем спектакле. С утра мы сидели у зеркал, снабженные вазелином, пудрой, лаком и тряпочками для снятия грима. А затем появлялся Ю.А. в белом халате, с коробкой личного грима и гримировальными кистями в руках. Искусством грима он владел в совершенстве, очень любил пользоваться «строительным материалом» – париками, бровями, усами, бородами, гуммозом. Иногда несколькими штрихами он преображал актерское лицо, и я многократно бывал свидетелем того, как удачно найденный грим ускорял приближение актера к желаемому результату. Ну, о гриме мы еще поговорим. А вообще, суммируя воспоминания о студийных годах, я думаю, что наше увлечение внешней театральностью, еретическое по отношению к школе Художественного театра, в рамках которой старались нас воспитывать, имело и свою пользу – приучало к образному поиску, видению.
В книге А. Д. Попова «Воспоминания и размышления о театре», вышедшей в 1963 году, есть такие слова: «Главное, над чем сейчас необходимо серьезно задуматься, – это пренебрежение к эмоциональной и образной основе сценического искусства, которое пришло за последние годы на сцену». Слова эти вызваны его мыслями об игре актеров «Современника», где был культ правды и естественного поведения на сцене в первую очередь. Уж этот-то упрек к нам не относился.
С нежностью вспоминаю своих ближайших товарищей-студийцев. Митя Фивейский! На мой взгляд, первый талант студии. Коренастый, прочно скроенный, с красивым лицом, он мог играть все: был героем-любовником в «Пьяном круге» и в водевиле «Два мужа», комиком-буфф в роли аббата Блязиуса в «Любовью не шутят», острохарактерным актером в роли банкира Компаса. Он был мало образован и не очень начитан, но интуиция вела его к таким тонкостям в постижении образа, что, бывало, смотришь на него в роли, скажем, того же Компаса и диву даешься – где взял он все это?!
В Компасе он был неузнаваем. Юрий Александрович великолепно загримировал его в стиле рисунков Гросса. Лысый парик, переходивший в жирную шею, орлиный нос, солидные роговые очки, сигара во рту – все. Ни бровей, ни морщин, лицо совершенно чистое, младенчески розовое, возраст давала полированная лысина; мощный торс, облаченный в светло-серую визитку, лакированные туфли с белыми гетрами, котелок. Хрипловатый диктующий голос, манера носить себя, минимум жестов… Ну, скажете вы, знакомый по плакатам буржуй, «акула мирового империализма»! Да, и это, но – абсолютно живой характер, очень точная жизнь в образе! Фивейский легко и свободно существовал в чужой оболочке, сделав ее своей; он играл, я бы сказал, с аппетитом, как уверенный мастер, а было ему каких-нибудь двадцать три – двадцать четыре года. Он отыскал какую-то тирольскую песенку; языка он, конечно, не знал, но нюхом почуял, что она идет Компасу, и вставил ее в роль, найдя подходящее место. Текст у песенки был абсолютно дурацким: «Если собака здорова – это здорово для собаки», и тирольская припевочка «Холля-рье, холля-рье!». Он выучил ее по-немецки и, окутанный сигарным дымом, напевал в финале спектакля.
Он был моим закадычным другом, самым близким человеком. Нас сблизила еще и наша любовь к розыгрышам, юмору, в общем, озорство. Одно было плохо – у него стал развиваться процесс в легких, чему способствовал и «климат» нашего подвала. Он поздно начал лечиться, запустил болезнь. Тем не менее поехал с театром в Ростов, много играл, а во время наших гастролей в 1938 году в Ленинграде и Москве решил не возвращаться в Ростов. По личным причинам ему надо было уйти из театра, и с тех пор он стал актером Театра имени Ермоловой. Там он успел сыграть много ролей, но болезнь взяла свое, и в 1973 году он скончался.
Люсик Пирогов – сын знаменитого баса Григория Пирогова, прекрасный характерный актер. По имени-отчеству он был, естественно, Леонид Григорьевич, но для нас всех – Люсик. Он стал уже премьером в детском театре у Наталии Сац. Но там репертуар ограничивал его возможности. Вот он и явился к нам, быстро освоился, вошел в репертуар и в «Волках и овцах» дублировал Абдулова в роли Лыняева. Любопытно, что у него, как и у всех Пироговых (вот порода!), был небольшой басок, и если бы он стал его развивать, возможно, и его бы поглотила опера. Во всяком случае, когда он показывал отца, подражая ему, и, становясь очень на него похожим, начинал петь, какие-то фразы звучали вполне вокально. В Ростов он поехал с театром. Потом куда-то исчез, но в конце 40-х годов вернулся под крыло Завадского, поиграл несколько сезонов и ушел в кино.
Толя Кубацкий, или, как мы ласково называли его, Кубик, – обаятельный, мягкий, изящный актер, очень музыкальный: Из всей нашей компании он один умел играть на рояле и поэтому нещадно эксплуатировался. Это я запечатлел в своих стихах, написанных в духе Игоря Северянина:
Я помню двухколонный зал
С овиноградненною сценой,
Где дух студийный восплясал,
Обрызгав все веселье пеной,
Откуда изгнана печаль,
Где, прироялен нашей волей,
Волнуя сломанный рояль,
Гремит Кубацкий Анатолий.
Я не люблю вспоминать поставленный в 32-м году интересный спектакль Завадского «Мое», потому что в нем я провалил свою роль, но по сей день в моей зрительской памяти живут две миниатюры Кубацкого в этом спектакле. Он пел «Кати, кати, карета», сообщая движение колесам бутафорской кареты, и затем песенку «Я зажигаю лампы в зале суда…». И это было так выразительно, что я и сегодня могу повторить и слова и мелодию. Позднее мы с ним оказались в центре неприятного инцидента. В театральной стенгазете мы резко выступили против дирекции театра; дело пошло по инстанциям, мы возмутились и ушли из театра. Я, правда, через год вернулся, Кубацкий – нет! Милый Кубик! Пожалуй, из всей нашей компании только мы и остались пока на белом свете.
Наступил 27-й, юбилейный год. Все театры Москвы готовили к ноябрю премьеры. Не хотелось отстать и нам. Выбор студии пал на повесть Б. Лавренева «Рассказ о простой вещи». Кем-то сделанная инсценировка называлась «Простая вещь» – о судьбе комиссара Орлова, в годы Гражданской войны работавшего в тылу у белых. Ставил спектакль Николай Павлович Хмелев, помогал ему актер и режиссер МХАТа Борис Аркадьевич Мордвинов. «Два Мордвиновых в одном спектакле – это что-то обещает!» – шутили студийные остряки. Завадский осуществлял общее руководство и оформление спектакля. Оно было предельно простым: три большие серые ширмы, двигавшиеся на роликах, перемещались в разных комбинациях, открывали необходимые места действия. Реквизит был минимальным, костюмы по возможности точными.
Спектакль этот, в сущности, должен был решить судьбу студии, и мне бы хотелось назвать группу его участников; а вдруг кто-нибудь из читателей моего возраста видел наш спектакль и поминает его добрым словом? Комиссара Орлова играл М. Н. Баташев, позднее В. И. Гвелисиани, поручика Соболевского – Н. Д. Мордвинов, начальника контрразведки – М. П. Чистяков, доктора Соковнина – Н. И. Бродский, его жену – В. П. Марецкая, Бэлу – В. М. Балюнас, Семенухина – Ю. А. Шмыткин, Хохла – B. C. Пикунов, поручика Шувалова – Д. П. Фивейский, поручика Воронцова – И. М. Туманов, прапорщика Белоклинского – Ю. П. Троицкий, полковника Тумановича – В. П. Охота, Студента – Г. М. Лебедев, прислугу Соковниных – М. В. Чернова. Это был весь цвет студии.
Я играл две рольки: Человека в пенсне и бессловесную роль – Офицерика на вечеринке, но как-никак с этого спектакля начинается мой стаж профессионального актера. К ноябрю мы не поспели, Хмелев очень был занят во МХАТе, и мы практически все время репетировали ночью. Хмелев приезжал к нам после спектакля, на режиссерском столике его ожидал чай, несколько пирожных и, пока тянулась осень, кисти винограда. На более солидное угощение денег у нас не было. Уезжал Хмелев от нас под утро. Эту свою премьеру мы сыграли в декабре 27-го года, а вскоре в «Правде» появилась набранная петитом небольшая заметка «Дети Октября», высоко оценившая наш спектакль, за подписью старого большевика А. Сольца. Бой был выигран.
В сущности, надо начинать новую главу – о Государственном театре под руководством Ю. А. Завадского и его жизни в подвале Головина переулка. Лидерами этого периода стали самые знаменитые ученики Юрия Александровича – Марецкая и Мордвинов. Их памяти я и посвящаю следующие главы.
Вера Марецкая
Актрисы более блистательной я не знал. Она могла все. Простой перечень сыгранных Марецкой ролей поставил бы в тупик любого театрального «классификатора», если бы тот попытался определить ее амплуа, оперируя принятыми обозначениями: травести, субретка, инженю, героиня, комическая старуха и т. п. Марецкая играла и тех, и других, и третьих. И, что самое существенное, играя, всякий раз убеждала в своем праве на данную роль. Ей были по плечу все жанры: трагедия, комедия, драма, водевиль, буффонада, фарс… А начинала она в Студии Ю. А. Завадского как актриса острохарактерная.
Нас, ее товарищей, так же как и зрителей, бесконечно забавляли тогдашние метаморфозы Марецкой. Она играла в ту пору преимущественно очень смешных, толстых, пожилых женщин. В «Простой вещи» была мадам Соковниной, степенной хозяйкой докторской квартиры. Неторопливо шествовала по комнатам, каким-то особым образом оглядывала, все ли в порядке, и очень напоминала плывущую утку. Помню фрау Шнютхен из пьесы Газёнклевера «Компас» – острый гротесковый образ пожилой немки, этакой престарелой кокетки, заплывшей жиром, с замысловатыми кудряшками жидких волос, с уморительными воркующими интонациями шепелявого голоса. А вот Луиза Симон-Деманш в спектакле «Дело о душах» (пьеса В. Голичникова и Б. Папаригопуло о судебном процессе А. В. Сухово-Кобылина) – полная женского обаяния, трогательная и волнующая молодая женщина. Героиня? Да, героиня. А в спектакле «Любовью не шутят» А. Мюссе Марецкая играла крестьянку Розетту. Ее Розетта, коренастная, сметливая, сиявшая молодостью и душевным здоровьем, впервые обнаружила какой-то, я бы сказал, народный корень, который позднее отчетливо проявится в экранных созданиях Марецкой. Я сознательно обращаюсь к ее ранним работам, чтобы показать, как уверенно, своеобразно и смело формировалось ее мастерство. Однако все это были еще, так сказать, пробы пера.
В те давнишние времена мы с Марецкой нередко играли в одних и тех же спектаклях, но почему-то получалось так, что наши персонажи друг с другом на сцене почти не встречались. Мой выход, например, в третьей картине, а Марецкая занята во второй и четвертой, и т. п. Так было и в «Простой вещи», и в «Компасе», и в пьесе Исидора Штока «Нырятин», где она в остроэксцентрическом ключе играла бывшую беспризорницу Степку. А в «Волках и овцах» вначале я вообще не был занят. Так что пора наших сценических дуэтов была еще впереди.
Но час Марецкой уже пробил, и произошло это именно в день премьеры комедии Островского «Волки и овцы» в 1934 году. Завадский поставил эту пьесу в необычной манере, далеко отойдя от театральной традиции и широко распахнув двери истинно комедийному озорству. По его замыслу, следовало не просто разыграть комедию Островского, а показать, как ее играли на русской сцене в середине прошлого века. Поэтому перед началом спектакля появлялась на подмостках фигура капельмейстера в военном мундире, духовой оркестр исполнял бравурный вальс. Военная музыка звучала и в антрактах. Вся обстановка была тонко стилизована в духе старого провинциального спектакля, и Марецкая в этом спектакле сразу же заняла самое заметное место.
Начало роли Глафиры Марецкая вела подчеркнуто скромно, с опущенными долу глазами, в черном монашеском одеянии. Но отчетливо видно было, как клокочет спрятанный до времени темперамент разъяренной волчицы и как сладостно вонзает она нежные коготки в пухлое тело добродушного Лыняева. Затем виртуозно игралась знаменитая сцена обольщения, и вот наконец Глафира – роскошно одетая барыня – уверенно командует поверженным в прах мужем. Откуда-то явился французский «прононс», сами собой возникли повелительные жесты, пренебрежительные кивки окружающим. Во всем этом – пафос мести за прежнюю бедность, за былые унижения. Все это дано в пьесе, но Завадский до предела заострил эти положения роли, подсказав актрисе совершенно неожиданные краски, дав ряд просто гиперболических мизансцен, в полной уверенности, что актриса сделает их своими, органичными. Так, кстати сказать, всегда строились творческие отношения режиссера и актрисы. Было полное взаимопонимание. И Завадский абсолютно точно ощущал скрытые резервы актрисы, знал, что еще можно «добыть» из Марецкой, и всегда предлагал ей самые смелые решения.
Еще сезон – и имя Марецкой опять у всех на устах: в знаменитом спектакле Завадского «Школа неплательщиков» по Вернейлю она сверкает в десятиминутном эпизоде в роли французской кокотки Бетти Дорланж. Марецкая появлялась на сцене в экстравагантном туалете, в маленькой черной шляпе, украшенной торчавшим кверху пером; шляпка надвинута на самые брови так, что целиком виден пышный ярко-желтый парик из совершенно вытравленных пергидролем волос, на глазах – шикарные ресницы, на плечах – пышное боа, в руках – крохотная сумочка. Она двигалась по сцене походкой, напоминавшей стреноженную лошадь: ей было трудно расхаживать в лакированных туфлях на непомерно высоких каблуках. Кроме того, ее ноги были как бы спеленуты такой узкой юбкой, что казалось, будто они втиснуты в брючину. И тем не менее она старалась придать своей походке элегантный «излом» и даже умудрялась сесть прямо на письменный стол директора школы неплательщиков, к которому пришла за советом. Вся театральная Москва хохотала, повторяя трагикомические слова этой жертвы повышенных налогов, потерявшей свою клиентуру: «Не с кем жить, господа, не с кем жить!»
Пройдет еще совсем немного времени, и уже не только Москва, вся страна сохранит в памяти совсем другие слова совсем другой героини Марецкой. «Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная – живучая!» – слова колхозницы Александры Соколовой из фильма «Член правительства». Соколова Марецкой стала одним из актерских шедевров советского кинематографа.
И дело тут вовсе не в популярности образов – дело в том, что они воспринимались как создания эталонные. Ну кто же, кроме Марецкой, может сыграть такое? Так говаривали и зрители, и критики.
Многие актеры и актрисы явно побаиваются «уйти от себя» и монотонно повторяются в совсем несхожих ролях. А Марецкая не просто создавала разные характеры, она ломала привычные рамки амплуа, в каждой роли искала новые средства выразительности.
И всегда – об руку с Завадским, с «Ю.А.», ее учителем и непременным режиссером.
Отношения Завадского и Марецкой были необычайно содержательны, и для Веры Петровны постоянное общение с Завадским стало жизненной необходимостью. Когда я впервые увидел Марецкую, они с Завадским были мужем и женой. Однажды, придя к Завадскому зимой в Мансуровский переулок, я встретил в дверях беременную женщину в шубке. Она уходила и, уходя, спросила: «Юра, масло брать?» Потом они, как известно, расстались. Но творческая их близость не прекращалась никогда. Неистовое актерское трудолюбие Марецкой выражалось, в частности, и в том, что как художник она была бесконечно к себе требовательна, а потому остро нуждалась в бескомпромиссной оценке своих идей, проб, поисков. Без контроля Завадского ни одного шага в искусстве она сделать не могла. Без него она себя чувствовала абсолютно неуверенной, а его мастерству и вкусу доверяла стопроцентно. Испробовав десятки актерских красок, различных приспособлений, изменив и походку, и грим, и костюм, она не успокаивалась, пока Ю.А. не благословит и не одобрит.
На репетициях Марецкая наравне со всеми слушала Завадского и слушалась его, но этого ей – да и ему – было мало. Всякий раз, когда Вера Петровна готовила новую роль, они подолгу уединялись, и в этой совместной, закрытой от всех, потаенной работе решались все главные для Марецкой вопросы.
Мы и с ней, и с Завадским были, смею сказать, друзьями. Но если мне случалось войти в комнату, когда они работали, разговор тотчас же прекращался, они меняли тему, занятия приостанавливались. К таинству их совместного труда не допускался никто. Об этом знали все в труппе, и все относились к союзу режиссера и актрисы с подлинным пиететом. Конечно, Марецкая была первой актрисой театра, конечно, ее огромное дарование было несравненно, конечно же она обладала редким и сильным умом. Но при этих своих замечательных свойствах она – как это ни парадоксально – нуждалась в Завадском сильнее, нежели другие, неизмеримо менее щедро одаренные. Казалось, без Ю.А. она физически существовать не могла. И даже чувство юмора, которое вообще-то в Марецкой всегда бушевало, умолкало перед его авторитетом. Более того, она неприязненно и враждебно встречала любые шутки, нацеленные в Ю.А., а одну известную актрису, некоторое время работавшую у нас, откровенно невзлюбила только за то, что та иной раз отзывалась о Ю.А. с легким юмором… Со своей стороны и Завадский относился к ней как к самому близкому другу, как к единомышленнице и союзнице буквально во всех начинаниях и, конечно, сквозь всю жизнь пронес восхищение ее талантом, ее фантастической работоспособностью. Мне казалось иногда, что ради Марецкой – и только ради Марецкой – он готов был даже идти на некоторые уступки, репертуарные и вкусовые. Бывали и такие случаи, когда Ю.А. скрепя сердце принимал – ради Марецкой – пьесу, к которой у него, что называется, душа не лежала. Так было, например, с «Корнелией» Чарчолини: Марецкой очень хотелось сыграть эту Корнелию, и он ей уступил, пошел на компромисс, который, однако, ни театру, ни самой Марецкой большой радости не принес.
Однако вернусь в 30-е годы, в годы становления молодого Театра Завадского. Москвичи уже стали ходить «на Марецкую» – сперва в подвал на Сретенке, потом в новое здание на улице Воровского (где сейчас Театр-студия киноактера), – как вдруг наступила пауза: Театр Завадского направили на работу в Ростов-на-Дону. Пауза – для зрителей-москвичей, но не для Марецкой. Четыре сезона на периферии – сезоны ее удач. До москвичей доходили слухи, что Марецкая опять что-то играет не как положено и опять – с крупным успехом, и все более значительные роли: она была теперь Любовь Яровая, королева в «Стакане воды», Лиза в «Горе от ума», Марина в пьесе К. Тренева «На берегу Невы», блистательная Катарина в «Укрощении строптивой».
В «Стакане воды» Марецкая поражала. В памяти старых театралов жила еще легендарная Ермолова – королева Анна. Завадский подсказал Вере Петровне совсем иной, ей подходящий ход к роли. Получалась этакая крепенькая, кругленькая, комедийно-простодушная, незадачливая «повелительница»: челка на лбу, корона небрежно сдвинутая набок, надутые губки, в глазах – ни тени серьезной мысли. Глаза королевы пустоваты, наивны; они оживляются лишь при виде Мешема. Что поделаешь, королева хочет любить! Но ревнуя, она как-то распухала от гнева, и ее присказка – «Я так хочу, я так приказываю, я королева!» – звучала далеко не безобидно.
В «Стакане воды» я впервые был ее партнером, хотя не очень люблю об этом вспоминать: увы, Болингброк у меня не получился, и, восхищаясь Марецкой, я конфликтовал с самим собой. А Марецкая от спектакля к спектаклю все расцветала. Московские театральные критики зачастили в Ростов – в основном ради нее. Смотрели «Любовь Яровую», «Укрощение строптивой», «Стакан воды», и все как один восторгались ею.
Можно сказать, что, когда театр вернулся из Ростова, Москва с нетерпением ждала Марецкую и встретила ее радостно. Снова москвичи устремились «на Марецкую». Ну как же иначе?! Сегодня она – Мирандолина в «Трактирщице» Гольдони, а завтра – четырнадцатилетняя Машенька в одноименной пьесе Афиногенова. Контраст опять разителен. Гордая своей властью над мужчинами, брызжущая народным юмором, с восторгом отдающаяся стихии театральной игры хозяйка гостиницы – и робкая, скромная девочка, с угловатой походкой носками внутрь, сыгранная Марецкой настолько с полным преображением, что зрителям и в голову не приходило следить за тем, как взрослая актриса «делает» девочку (такое часто бывает в подобных случаях; вот это уже удел травести), настолько они были захвачены судьбой Машеньки, ее внутренней жизнью, чистотой ее любви, становлением характера. Надо сказать, что это были великолепные спектакли Завадского, и партнеры у Марецкой были на редкость сильные: Риппафрата – Н. Мордвинов, Леонид Борисович – В. Ванин, Окаемов – Е. Любимов-Ланской. Да, это новый московский успех. Рецензии шумят, и, не в пример дням сегодняшним, их не приходится мучительно выжидать: они сыплются как из рога изобилия, они щедры – в ответ на щедрость актрисы, а темпераментный Г. Н. Бояджиев публикует статью, заглавие которой «Браво, Марецкая!».








