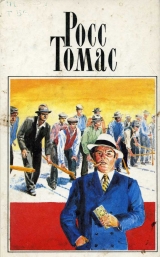
Текст книги "Желтый билет"
Автор книги: Росс Томас
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Глава 8
Следующим утром в девять часов я стучал в дверь дома моей сестры в Джорджтауне. На этот раз она открыла дверь в белых брюках и голубой блузе, с шарфом на голове. В руке она держала щетку.
– Послушай, – сказал я, – ты выглядишь, как домохозяйка в рекламном ролике.
– Не болтай ерунды, – фыркнула она.
Я вошел, и тут же в комнату влетели мои племянник и племянница.
– Харви, Харви, – завопил мой племянник, – мама говорит, что в субботу мы поедем к тебе и Рут, что ты повесил новые качели.
– En Francais, черт побери! – рявкнула Одри, прежде чем я успел открыть рот. – En Francais.
Мой шестилетний племянник, его звали Нельсон, насупился и сказал:
– Французский язык чертовски труден.
Моя племянница, пятилетняя Элизабет, самодовольно улыбнулась и произнесла на быстром, совершенном французском:
– Добрый день, дядя, я надеюсь, что вы здоровы, и тетя Рут здорова, и ваши собаки, и ваши кошки, и утки, и козы тоже здоровы, – а затем показала язык брату.
Я подхватил ее на руки, прежде чем Нельсон дал ей тумака.
– Козы только вчера спрашивали, приедете ли вы в субботу, – сказал я по-французски.
– Козы не умеют говорить, – возразил Нельсон. На французском. – Они могут сказать только бе-е-е-е.
– А ты пробовал говорить с козой по-французски? – поинтересовался я.
Он подозрительно посмотрел на меня.
– Нет.
– Видишь ли, козы говорят только на чистом французском языке. Пока ты не выучишь его как следует, они не будут разговаривать с тобой.
Возможно, племянник мне и не поверил, но, когда я опустил Элизабет на пол, он взял ее за руку и сказал по-французски:
– Пойдем на улицу и поиграем.
Элизабет повернулась ко мне и мило улыбнулась.
– До свидания, дядя, – сказала она на безупречном французском. – Я с нетерпением жду встречи с вами, и тетей Рут, и собаками, и кошками, и утками, и козами в субботу.
– Ты забыла про петухов, – улыбнулся я и повторил слово «петухи» по-английски.
Для Элизабет это было новое слово, она дважды произнесла его по слогам и добавила:
– И, конечно, с петухами.
Нельсон дернул ее за руку, и они побежали к черному ходу, ведущему в сад.
– Ты права, – я взглянул на Одри. – Им шесть и пять.
Она покачала головой:
– Думаю, я слишком поздно начала учить их французскому. Надо было начинать в два или три года, а не в четыре.
– Они способные, – возразил я.
– Пойдем на кухню, – в руке Одри по-прежнему держала щетку. – Мне надо замести кукурузные хлопья. Служанка не смогла прийти сегодня.
– А где Салли? – спросил я.
– Ее тоже нет.
На кухне она налила мне чашечку кофе, которую я выпил, сев за стол и наблюдая, как она сметает рассыпанные кукурузные хлопья. Мне показалось, что подметать она разучилась, но я решил не высказывать вслух свои мысли. Покончив с хлопьями, Одри села напротив с чашкой чая.
– Ну, на этой неделе ты вошел в роль старшего брата, – сказала она. – Второй визит за два дня.
– Я был неподалеку и решил заехать.
– Да, конечно.
– Вы будете у нас в субботу? Рут ждет вас с нетерпением.
– Харви.
– Да?
– Что у тебя на уме?
Я вздохнул, достал из кармана ложку и положил ее на стол. Одри посмотрела на нее, взяла в руки, затем перевела взгляд на меня.
– Где ты ее взял?
– Ты узнала ее?
– Еще бы. Конечно, я узнала ее. Это мамина ложка.
– Ты уверена?
– Разумеется, уверена. Так же, как и ты. Мы пользовались ими по воскресеньям, на Рождество, Пасху и другие праздники. Это ложка из фамильного сервиза. Маминого фамильного серебра. На ней есть буква Л. Посмотри.
Я уже видел букву Л, начальную букву фамилии Лонгмайр, но все равно посмотрел.
– Если я не ошибаюсь, после смерти мамы серебро взяла ты?
– Конечно, взяла. Серебро не выбрасывают. Ты же не хотел его брать.
– Нет, не хотел. Оно все еще у тебя? Где?
Одри задумалась. Затем встала и начала открывать нижние ящики шкафов.
– Вот! – с триумфом воскликнула она. – Я помню, пару месяцев назад сказала Салли, чтобы она попросила служанку отполировать серебро. Что ты от меня хочешь, сосчитать ложки?
– Да.
Она сосчитала.
– Их должно быть двенадцать, а здесь только десять.
– А как насчет вилок?
– Двух не хватает, – ответила Одри, пересчитав вилки.
– Может, ты посчитаешь и ножи?
Покончив с этим, она посмотрела на меня.
– Двух нет. Что теперь?
– Пожалуй, что все. Вероятно, им больше ничего не требовалось.
– Кому?
Я достал жестяную коробочку и начал сворачивать сигарету.
– О господи! – Одри достала из ящика и швырнула мне пачку «Лакис», сигарет без фильтра. – Я поклялась, что ты больше не будешь крутить передо мной сигареты, даже если придется купить тебе годовой запас.
– Я не знал, что тебе это не нравится, – я убрал коробочку, открыл пачку сигарет, закурил. Одри злилась или притворялась, что злится.
– Ладно, Харви, – она вновь села за стол. – Кто залез в фамильное серебро?
– Что ты думаешь о Максе Квейне? – спросил я. Несмотря на то что она была моей сестрой, я пристально следил за ее реакцией.
Но никакой реакции не последовало.
– А что я должна о нем думать?
– Разве ты не знаешь об этом? Из газет. Из телевизионного выпуска новостей.
– Харви!
– Что?
– Я два года не читаю газет. А телевизор не смотрела шесть месяцев. Если не считать передач для малышей.
– Ты не была знакома с Максом?
– Я не была знакома с Максом, если ты имеешь в виду Квейна, но я знаю, что вчера мне звонил мужчина, назвавшийся Максом Квейном, и спрашивал тебя. Он сказал, что у него важное дело, мне показалось, что он очень нервничает, и я дала ему телефон Ловкача. Он застал тебя там?
– Да.
– И какое отношение имеет все это к маминому серебру?
Я взял ложку, повертел ее в руках.
– Вчера я увидел ее на столе в квартире Квейна после того, как нашел его самого с перерезанным горлом.
– Господи!
– Так вы не были знакомы?
– Я уже сказала, что нет.
Я встал, подошел к плите, налил еще кофе.
– Где у тебя сахар?
– В сахарнице.
Я нашел сахарницу, насыпал в чашку ложку сахара, размешал.
– Салли все еще живет здесь, не так ли?
– Салли – член семьи, – ответила Одри. – Ее комнаты на третьем этаже. Там есть отдельный вход.
– Но дома ее нет?
– Нет.
– Почему?
Моя сестра вздохнула:
– Салли и Квейн, так?
– Похоже, что да.
– Ей позвонили в восемь вечера. Она очень расстроилась и сказала, что должна уйти. Я не стала спрашивать, куда и зачем.
– Вы с ней все так же близки?
Одри кивнула.
– Я думаю, она спасла мне жизнь после смерти Джека.
Джек Данлэп, муж Одри, был одним из тех финансовых гениев, которые иногда рождаются в Техасе. К тридцати годам он стал миллионером. К тридцати пяти, когда он женился на Одри, число принадлежащих ему миллионов значительно возросло, он был владельцем профессиональной футбольной команды, имел значительное влияние в демократической партии, состоял в совете директоров дюжины крупнейших корпораций и души не чаял в спорте и охоте. В 1972 году, охотясь на куропаток в Северной Дакоте, он перелезал через изгородь из колючей проволоки, его дробовик выстрелил, и Джека Данлэпа не стало. Мне кажется, что мой племянник очень похож на него. А моя племянница – вылитая мать, и в этом ей повезло, потому что внешне Джек был, мягко говоря, некрасив.
– Сколько она живет у тебя?
– Шесть лет, с рождения Нельсона. Я наняла ее как личного секретаря, потому что Джек настаивал, что без него мне не обойтись. Когда я спросила, что должен делать личный секретарь, он сказал, что не знает, но читал про них в книгах. И я наняла Салли, она только что закончила с отличием университет. Для девочки, родившейся в этом городе между Девятой улицей и У-стрит, это считалось большим успехом.
– Это точно, – согласился я.
Одри помолчала, о чем-то задумавшись.
– Четыре недели назад, – наконец сказала она. – Это началось четыре недели назад.
– Между Салли и Квейном?
Одри кивнула.
– Да, через пару недель после того, как я порвала с Арчем, вернее, он порвал со мной. Я места себе не находила, и Салли вновь пришла на помощь. Она убедила меня, что надо побольше говорить о нем. Что я и делала.
– Как ты узнала о ней и Квейне?
– Я не знала, что это Квейн. Но поняла, что у нее появился мужчина. Она уходила в разное время, обычно днем. Раз или два я спросила о нем, Салли сказала, что он белый и женат и она знает, что ведет себя как дура, но предпочла бы говорить о моих глупостях, а не о своих. Поэтому мы говорили об Арче Миксе и обо мне.
Я встал в шесть, позавтракал в половине седьмого и уже успел проголодаться.
– Где хлеб? – спросил я.
– В хлебнице.
Найдя хлебницу, я кинул два ломтика в тостер.
– Ты будешь есть? – спросил я Одри.
– Нет.
Я вытащил из холодильника масло и клубничный джем, намазал то и другое на подрумянившиеся ломтики и вновь сел за стол.
– Вы с Арчем говорили о профсоюзе? – спросил я, принявшись за еду.
– Конечно. Мы говорили обо всем. Я же рассказывала тебе.
– Перед тем как вы расстались, не возникло ли в профсоюзе каких-нибудь проблем? Я имею в виду что-то необычное?
Одри как-то странно посмотрела на меня.
– Он много говорил о тебе. Не просто о тебе, о твоем участии в кампании по выборам президента профсоюза в шестьдесят четвертом году.
– И что он сказал?
– Я слушала, Харви, но ничего не записывала. Наверное, напрасно, потому что недавно Салли спрашивала меня о том же.
– Когда именно?
Она задумалась.
– Не больше месяца назад. После исчезновения Арча.
– Что же ее интересовало?
– Видишь ли, мне хотелось говорить о том, какой он отвратительный, мерзкий сукин сын, но Салли искусно меняла тему, и оказывалось, что я пересказываю ей наши с Арчем разговоры. Салли далеко не дура, и я думала, что этим она хочет мне помочь, – Одри посмотрела, на меня и печально улыбнулась. – Она выкачивала из меня информацию для этого Квейна, так?
Я кивнул.
– Я не виню ее. Квейн умел манипулировать людьми. Это его профессия. Одна из нескольких.
Одри взглянула в окно на играющих в саду детей.
– Интересно, сказала ли я ей то, что хотел знать твой приятель Квейн?
– Я думаю, ты сказала ему именно то, что он хотел знать.
– С чего ты так решил?
– Макс позвонил мне вчера. Он, как ты говоришь, нервничал, что совсем не похоже на Макса Квейна. Он сказал, что должен встретиться со мной. Я спросил зачем, и он ответил. Повод оказался серьезным. Он узнал, что случилось с Арчем Миксом.
Одри встала, подошла к буфету, достала жестяную банку с надписью «Перец», вынула из нее сигарету. По кухне поплыл сладковатый запах марихуаны.
– Черт. То есть Квейна убили из-за того, что я сказала Салли?
– Квейн сам виноват в своей смерти. Если он действительно узнал, что случилось с Миксом, то попытался поживиться на этом и связался не с тем, с кем следовало.
– Что же я ей сказала?
– Может, Салли чем-то интересовалась с особой настойчивостью?
Одри еще раз затянулась, пододвинула ко мне банку с сигаретами, в которых не было табака. Я покачал головой.
– Салли очень умна. Она не стала бы спрашивать в лоб.
– Но что-то ее интересовало.
Одри задумалась.
– Постель.
– Ее интересовало, что вы делали в постели?
– Не совсем. Но однажды я сказала, что после… ну, ты понимаешь, он любил лежать и рассуждать вслух. Он расслаблялся и чувствовал себя так уверенно, что мог говорить о чем вздумается.
– И о чем он говорил?
– Об этом и спрашивала Салли, и продолжала спрашивать, хотя тогда я не обращала на это внимания.
– Но она хотела узнать что-то определенное.
– Да, теперь я понимаю. Особенно ее волновало, о чем говорил Арч перед тем, как мы расстались. Она возвращалась к этому снова и снова, как бы в поисках истинного мотива нашего разрыва. Поэтому я сказала все, что смогла вспомнить.
– А затем ей потребовалось что-то совсем конкретное.
– Откуда ты знаешь?
– На месте Квейна я поступил бы точно так же.
– Какое ты дерьмо.
– Перестань, Одри. Так что ты ей сказала?
– Она постоянно переводила разговор на две последние ночи, когда Арч говорил о тебе и профсоюзе. Он не ругал тебя. Просто он узнал что-то, побудившее его вспомнить о тебе и твоей роли в предвыборной кампании шестьдесят четвертого года.
– Что же он узнал?
– Я сказала тебе, что не вела записей. И потом, я уже засыпала.
– Повтори мне то, что ты сказала Салли.
– Я сказала ей, что Арч сказал мне, что они собираются использовать профсоюз точно так же, как использовали его в шестьдесят четвертом году, но теперь, слава богу, есть он и он этого не позволит. Или что-то в этом роде.
Я наклонился вперед.
– Когда ты сказала ей об этом?
– Несколько дней назад. Может, неделю, как бы между прочим. В обычном разговоре. Так мне тогда казалось. В этом есть какой-нибудь смысл?
– Будь уверена, для Макса Квейна эти сведения означали очень многое.
– А для тебя?
Я подумал о Максе, лежащем на зеленом ковре с перерезанным горлом.
– Надеюсь, что нет.
Глава 9
Я воспользовался телефоном Одри и позвонил сенатору Вильяму Корсингу. Сенатор был на совещании, но просил передать, что хотел бы встретиться со мной в десять утра, если мне это удобно. Если нет, он готов увидеть меня в одиннадцать.
Голос молодой женщины, с которой я говорил, обволакивал, как мягкая ириска, а когда я сказал, что приеду в десять, ее благодарность не знала границ, и я положил трубку в полной уверенности, что теперь с моей помощью республика все-таки будет спасена.
Потом я позвонил Мурфину, и вместо приветствия он сказал:
– Макс не оставил страховки.
– Жаль, – ответил я.
Мурфин вздохнул.
– Я и Марджери провели с ней почти всю ночь. Она все время повторяла, что покончит жизнь самоубийством. Ты же знаешь Дороти.
Я действительно знал Дороти. Двенадцать лет назад мы с Дороти встречались короткое, исключительно печальное время, за давностью сжавшееся до одного долгого дождливого воскресенья. Потом я познакомил ее с Максом Квейном, и тот увел от меня Дороти. За что я очень благодарен Максу. Макс никогда не говорил, рад ли он тому, что я познакомил его с Дороти, а мне как-то не пришлось спросить его об этом.
– Так чем я могу помочь?
– Ты бы мог нести гроб, – ответил Мурфин. – Я никого не могу найти. Человеку тридцать семь лет, и я не могу найти шестерых мужчин, которые понесут его гроб.
– Я не хожу на похороны.
– Ты не ходишь на похороны, – эхом отозвался Мурфин таким тоном, будто я сказал, что не ложусь по ночам в постель, а сплю, повиснув на стропилах.
– Я не хожу на похороны, поминки, свадьбы, крестины, церковные базары, политические митинги и рождественские вечеринки в учреждениях. Я сожалею о том, что Макс умер, потому что он мне нравился. Я даже готов заехать к Дороти и предложить ей и детям пожить немного на ферме. Но гроб я не понесу.
– Вчера вечером, – вздохнул Мурфин, – они сообщили о Максе в шестичасовом выпуске новостей. Мы с Марджери приехали к ней в половине седьмого, возможно, в семь, а она уже билась в истерике. Ну, ты понимаешь, мы решили остаться на пару часов, максимум на три-четыре, а потом, думали мы, придут соседи и возьмут все на себя. Не пришел никто.
– Никто?
– Кроме полицейских. Не было даже телефонных звонков, если не считать газетчиков. Такое трудно представить, не правда ли?
– Действительно, трудно, – тут же согласился я. – У Макса было много знакомых.
– Знаешь, что я тебе скажу? – продолжал Мурфин. – Я думаю, кроме меня у Макса не было друзей. Возможно, и кроме тебя, но в этом я не уверен, так как ты не хочешь нести гроб.
Я повторил, что заеду к Дороти, и спросил:
– А что сказал Валло?
– Ну, он, похоже, решил, что Макс специально устроил так, чтобы его убили. Он сказал, что сожалеет и все такое, но как бы походя. В основном его интересовало, кем мы заменим Макса. Я обещал подумать над этим, и он попросил связаться с тобой и узнать, нет ли у тебя каких-нибудь предложений.
– Нет, – ответил я.
– Ты сам и скажи ему об этом. Он хочет встретиться с тобой сегодня.
– Когда?
– После двенадцати.
– В какое время?
– Половина третьего тебя устроит?
Я на мгновение задумался.
– Я приеду в два, и мы подумаем, как помочь Дороти.
– Да, возможно, ты придумаешь, как объяснить Дороти, откуда у Макса взялась эта подруга.
– Кто?
– Согласно данным полиции, очень милая негритянка.
– Они сказали Дороти?
– Пока еще нет.
– Полиции известно, кто она?
– Она снимала квартиру на имя Мэри Джонсон, но в полиции полагают, что имя не настоящее. Платила сто тридцать долларов в месяц, включая коммунальные услуги. – Мурфин, как всегда, не мог обойтись без подробностей.
– И что думают в полиции?
– Они думают, что у нее был поклонник, а возможно, и муж, который выследил ее и Макса и набросился на него с ножом. Перерезал ему горло. Ты представляешь, что это такое?
– К сожалению, – ответил я.
– Я ездил в морг и опознал его, потому что Дороти к тому времени уже тринадцать или четырнадцать раз сказала, что наложит на себя руки. Знаешь, что я тебе скажу?
– Что?
– Макс выглядел совсем неплохо. Для человека, которому перерезали горло.
Я сказал Мурфину, что приеду к нему в два часа, набрал номер Ловкача и пригласил его на ленч. Когда я объяснил, где и когда я намерен перекусить, у него вырвалось:
– Ты, конечно, шутишь?
– Теперь это семейное дело, дядя, – возразил я, – и мне не хотелось бы говорить там, где нас могут услышать.
– Ну, тогда мы сможем выпить немного вина.
– Если ты привезешь его с собой, – ответил я и положил трубку.
После Ловкача я позвонил адвокату. Его звали Эрл Инч, я знал его много лет. Он брал приличные деньги, но честно отрабатывал каждый цент, а я чувствовал, что мне необходим хороший адвокат. Когда я сказал, что у меня неприятности, он ответил: «Отлично», – и мы договорились встретиться в половине четвертого. Денек выдался почище вчерашнего.
– И какие у тебя неприятности? – спросила Одри, когда я положил трубку.
– Достаточно серьезные, чтобы прибегнуть к услугам адвоката. И Ловкача. Он может замолвить за меня словечко там, где это нужно.
– Тебе нужны деньги?
– Нет, но все равно спасибо.
– Салли, – сказала она. – Тебе придется сообщить полиции о Салли, не так ли?
– Да.
– Ей это чем-нибудь грозит?
– По-моему, нет.
– Скорее бы она пришла домой.
– Она придет, как только оправится от этого потрясения.
– Харви.
– Да?
– Если я могу чем-то помочь… ты только скажи.
– От тебя требуется только одно.
– Что?
– Приехать в субботу на ферму.
Канцелярия сенатора Вильяма Корсинга находилась в Дирксен Сенат Офис Билдинг. Как и другие служебные помещения Конгресса, канцелярия сенатора, казалось, страдала от тесноты. Столы сотрудников теснили друг друга, погребенные под кипами документов, коробками с конвертами, фирменными бланками и невообразимым количеством старых выпусков «Конгрешенл Рекорд».
Но сотрудники показались мне веселыми, деловитыми, уверенными в важности выполняемой ими работы. Возможно, так оно и было. Мне пришлось подождать несколько минут, прежде чем молодая женщина провела меня в кабинет сенатора. Я почему-то думал, что это будет взбалмошная блондинка, но она оказалась высокой стройной брюнеткой лет тридцати, с умными, даже мудрыми глазами и сухой улыбкой, дающей понять, что она знает, как звучит ее голос, но ничего не может с этим поделать, и к тому же, чего уж притворяться, голос этот иногда оказывается очень полезен.
В отличие от своих сотрудников сенатор не мог пожаловаться на тесноту. Государство предоставило ему просторный, залитый светом кабинет с кожаными креслами и широким письменным столом. На стенах висели фотографии сенатора в компании с людьми, знакомством с которыми он мог гордиться. Большинство из них были богаты, знамениты, облечены властью. Решительный вид остальных указывал на то, что они преисполнены желания подравняться с теми, кто вырвался вперед.
На других фотографиях я увидел берега Миссисипи, обувную фабрику, сельские просторы, знаменитый мост через великую реку в Сент-Луисе. В дополнение к фотографиям кабинет украшал большой, написанный маслом портрет сенатора. Серьезное выражение лица придавало ему озабоченный вид, подобающий государственному деятелю.
Тридцатилетний Вильям Корсинг был одним из самых молодых мэров Сент-Луиса, когда я впервые встретился с ним в 1966 году. Он очень хотел стать самым молодым сенатором от штата Миссури, но никто не принимал его всерьез. Практически никто, если сказать точнее. Поэтому он и обратился ко мне. Окончательные подсчеты показали, что он победил с преимуществом в 126 голосов. В 1972 году его соперника поддерживал сам Никсон, но Корсинг набрал на пятьдесят тысяч голосов больше. В сорок два года он все еще считался молодым сенатором, но его уже не принимали за мальчика.
Он располнел, но не настолько, чтобы не вскочить из-за стола при моем появлении. Волосы все так же падали ему на лоб, и он по-прежнему отбрасывал их резким движением руки. Из темно-русых они стали седыми, но улыбка не потеряла своего очарования, хотя, возможно, появлялась на лице уже машинально.
Я увидел новые морщины, естественное следствие прошедших лет. Широко посаженные серые глаза все так же светились умом, и я почувствовал, как они прошлись по мне с головы до ног, чтобы понять, как отразились на моей внешности эти годы. Я с достоинством разгладил усы.
– Мне они нравятся, – сказал сенатор. – С ними ты похож на Дэвида Найвена, разумеется, молодого.
– Рут они тоже нравятся.
– Как она?
– Все такая же.
– Такая очаровательная, да?
– Совершенно верно.
– Тебе повезло.
– Я знаю.
– Садись, Харви, садись, – улыбнулся сенатор, – где тебе удобнее, а я попрошу Дженни принести нам кофе.
Я сел в одно из кожаных кресел, а он, вместо того чтобы обойти стол и сесть на свое место, опустился в соседнее. Подобная любезность била без промаха, и он прекрасно знал об этом, а я не возражал.
Дженни, та самая высокая брюнетка с мудрыми глазами, судя по всему, общалась с сенатором телепатически, потому что не успели мы сесть, как она внесла поднос с двумя чашечками кофе.
– Вам одну ложечку сахара, не так ли, мистер Лонгмайр? – спросила она, одарив меня сухой улыбкой.
Я взглянул на Корсинга.
– Ты сам учил меня этому, – ухмыльнулся тот. – Всегда помни, что они пьют и чем сдабривают кофе.
– Как я понимаю, вы были с сенатором во время первой предвыборной кампании, – сказала Дженни, подавая мне кофе.
– Да.
– Представляю, какой она была захватывающей.
– И столь же сладостной оказалась победа, – улыбнулся я в ответ.
– А в этом году вы ведете чью-нибудь предвыборную кампанию?
– Нет, – ответил я. – Больше я этим не занимаюсь.
– Как жаль, – она вновь улыбнулась и вышла из кабинета.
Я посмотрел на Корсинга, тот кивнул, вздохнул без особой печали и сказал:
– Это она. Уже четыре года. Умна, как черт.
– Я это заметил.
– Ты говорил с ней по телефону?
– Да.
– Каково впечатление?
– Думаю, я выполнил бы любое ее желание.
Мы помолчали.
– Аннетт ничуть не лучше, – прервал молчание Корсинг. – Даже наоборот, врачи считают, что ее состояние несколько ухудшилось.
– Это печально.
Аннетт, жене сенатора, выставили диагноз паранойяльная шизофрения, но без особой уверенности, так как за последние пять или шесть лет она не произнесла ни слова. Аннетт спокойно сидела в отдельном номере в частном санатории неподалеку от Джоплина. Возможно, ей предстояло просидеть там до конца своих дней.
– Я не могу развестись, – добавил Корсинг.
– Я понимаю.
– Моя сумасшедшая жена в сумасшедшем доме, и никого это не беспокоит. Даже приносит пару дюжин голосов. Но я не имею права развестись и вести нормальную жизнь, потому что такой поступок равносилен предательству, а сенаторы не предают своих сумасшедших жен. Пока не предают.
– Подожди пять лет.
– Я не хочу ждать пять лет.
– Да, наверное, нет, – согласился я.
– Ладно, а что случилось с тобой? – сенатор изменил тему разговора.
– Я живу на ферме.
– Харви.
– Да?
– Я был на твоей ферме. Мы нализались до чертиков на твоей ферме. Твоя ферма – очень милое местечко, но там одни холмы да овраги и выращенного тобой зерна не хватит даже для оплаты счета за электричество.
– В прошлом году наши доходы составили без малого двенадцать тысяч долларов.
– С фермы?
– Ну, в основном с поздравительных открыток, нарисованных Рут. И с моих стихов. Я теперь пишу поздравления в стихах. По два доллара за строчку.
– О господи.
– У нас две козы.
– А как насчет талонов на еду?
– Еда для нас не проблема. И вообще у нас мало проблем.
– Сколько ты получал, когда занимался выборами?
Я задумался.
– Это был семьдесят второй год. Я заработал семьдесят пять тысяч, возможно, даже восемьдесят.
Корсинг кивнул.
– Но дело не в деньгах. Я хочу сказать, ты занимался этим не ради денег.
– Нет, пожалуй, причина была в другом.
– Поэтому я опять задам тот же вопрос. Что случилось?
Я взглянул на сенатора и понял, что того не интересуют подробности моей личной жизни. Он просто нуждался в помощи. В глазах Корсинга засветилась искорка надежды. А вдруг, подумалось ему, благодаря моему ответу он сможет развестись с женой, жениться на Дженни, уехать на заросшую лесом ферму подальше от Сент-Луиса и послать избирателей ко всем чертям. Если я это сделал, возможно, оставался шанс, пусть совсем крошечный, что и он мог бы поступить точно так же.
Такого шанса, естественно, не было, и он, реалист и человек достаточно честный, особенно по отношению к себе, прекрасно это понимал. Поэтому я и решил сказать ему правду. Вернее, сказать то, что я принимал за правду после четырех лет размышлений о своей жизни.
– Ты действительно хочешь знать, что случилось?
Он кивнул.
– Ну, скажем так, я перестал получать от всего этого всякое удовольствие.
Он тяжело вздохнул, ссутулился, чуть повернулся, чтобы видеть окно.
– Да, какое уж тут удовольствие.
– Я, конечно, могу говорить только за себя.
Он повернулся ко мне, интеллигентный, озадаченный человек, мечущийся в поисках ответа.
– Позволь спросить, почему?
– Даже не знаю, что и сказать, – ответил я и вряд ли мог дать более определенный ответ, хотя он все еще смотрел на меня, ожидая чего-то еще, мудрого и, возможно, даже абсолютного. Но вся мудрость вышла из меня четыре года назад, и я спросил:
– Ты собираешься участвовать в выборах, не так ли? В семьдесят восьмом?
Корсинг оглядел просторный, залитый солнцем кабинет.
– Я собираюсь, если только кто-нибудь не предложит мне высокооплачиваемую работу с приличной пенсией, большим кабинетом, многочисленными подчиненными, чтобы я не перетруждался, и возможностью выступать по любому поводу, видеть свое имя в газетах, а физиономию – на экране телевизора. Тебе ничего не известно о такой работе?
– Нет.
– Знаешь, кем я хотел стать в детстве? Когда мне было лет семь или восемь?
– Президентом?
– Я хотел стать поваром в ресторане. И думал, что лучше ничего быть не может. До тебя я никому об этом не говорил.
– Может, тебе стоит сказать Дженни?
Он подумал над моими словами и кивнул:
– Возможно, ты и прав.
Вновь наступила тишина.
– Каким образом ты связался с заведением Валло? – неожиданно спросил Корсинг и, прежде чем я успел ответить, поднял правую руку. – Не волнуйся, я никого не просил следить за тобой. Подруга Дженни работает у Валло. Они много болтают. Иногда это оказывается полезным.
– Арч Микс, – ответил я. – Валло намерен заплатить мне десять тысяч долларов, если я скажу, что, по моему мнению, произошло с Арчем Миксом.
– И как ты потратишь эти десять тысяч? Купишь еще коз?
– Я поеду в Дубровник.
– Зачем?
– Я никогда там не был.
– Я думал, ты побывал везде.
– Только не в Дубровнике.
– Арч Микс мертв, не так ли?
Я кивнул.
– Есть какие-нибудь идеи? Почему или как?
– Нет.
– Человек он был необычный, – сказал сенатор. – По роду деятельности ему приходилось слишком много говорить, но голова у него была хорошая, он соображал что к чему.
– С этим не поспоришь, – кивнул я.
– Чего только стоят его теории о реорганизации общественных служб и использовании забастовок в качестве основного аргумента при заключении выгодного контракта.
– Теория сборщиков мусора.
– Теория чего?
– Когда двенадцать лет назад Микса избрали президентом профсоюза государственных работников, с этой организацией никто не считался. Профсоюз всем говорил «да», а слово «забастовка» считалось чуть ли не ругательством. Но если вы называетесь рабочим союзом, если вы хотите заключить с муниципалитетом честный контракт, нельзя обойтись без столь грозного оружия. Если городские власти, с которыми идут переговоры, не верят, что вы будете бастовать, потому что есть закон, запрещающий забастовки государственных работников, можно не сомневаться, что вас никто не примет всерьез. Словно вы блефуете в покере, не имея денег. Поэтому Микс поехал на юг.
– Почему на юг?
– Это был точно рассчитанный шаг. Он хотел организовать забастовку государственных работников, успешный исход которой изменил бы отношение к забастовкам большинства членов профсоюза. И убедил мэров, губернаторов и членов законодательных собраний штатов, что ПГР перестал быть благотворительной организацией, согласной на любые условия.
– Теперь я вспомнил, – улыбнулся Корсинг. – Он выбрал Атланту.
– Летнюю Атланту. И еще выбрал тех, кому нечего терять. Сборщиков мусора.
– Сколько длилась забастовка? Четыре месяца?
– Да, четыре. Микс снял их с работы в мае и продержал до сентября. Профсоюз едва не обанкротился. То было самое жаркое лето в Атланте за пятьдесят лет, горы мусора громоздились повсюду, а вонь чувствовалась даже в Саванне.
– Там работали в основном негры, не так ли?
– Сборщиками мусора? – переспросил я. – Да, девяносто восемь процентов. В то время, насколько я помню, они получали доллар с четвертью в час без всяких сверхурочных. Микс оставался с ними все лето. Он спал в их домах, ел то, что ели они, стоял с ними в пикетах. Он ненавидел всю эту грязь, потому что привык к лучшим отелям и лучшим ресторанам, а стоять в пикете, когда столбик термометра переполз через сорок градусов, удовольствие не из приятных. Но о нем написали «Ньюсуик» и «Тайм» и показали по телевидению.
– А потом он попал в больницу.
Я покачал головой.
– Только на три дня. Зато повязка на его голове очень хорошо смотрелась с экрана телевизора. Штрейкбрехерам тоже надо платить. В Атланте муниципалитет платил им по пять долларов в час, на два с половиной доллара больше, чем хотели бы получать сборщики мусора. Ну, все это выяснилось после того, как в стычке с ними погибли четыре члена профсоюза, а Микс оказался в больнице. К тому времени мусор представлял уже серьезную угрозу здоровью жителей Атланты, город наводнили крысы, было зарегистрировано три случая холеры. Это решило дело. Муниципалитет согласился на все требования Микса, и его фотография появилась на обложке «Тайм». После этого профсоюз твердо стал на ноги. Число его членов увеличилось с двухсот пятидесяти до восьмисот тысяч, Джордж Мини ввел Микса в совет АФТ-КПП, его стали приглашать на приемы в Белый дом, когда администрация хотела показать представителя американских рабочих, изъясняющегося на чистом английском языке и умеющего вести себя за столом. Миксу все это очень нравилось.







