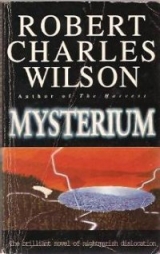
Текст книги "Мистериум"
Автор книги: Роберт Уилсон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Глава вторая
Осень в Бостоне в тот год выдалась дождливой.
Дожди зарядили в середине сентября и продолжались три недели без перерыва – по крайней мере, так показалось Линнет Стоун, которая провела бо́льшую часть этого времени в заточении гуманитарного крыла Сетиан-колледжа, исправляя гранки и перепроверяя сноски, время от времени прерываясь, чтобы посмотреть, как вода струится по сводам высоких окон и хлещет из водостоков стоящей на другом краю площади библиотеки.
«Языческие культы Мезоамерики» были первым осязаемым результатом её долгой борьбы за бессрочный контракт. Этот труд одновременно консолидировал и давал оправдание её карьере. Она гордилась этой книгой. Она обожала солидность отпечатанных слов, облечённых авторитетом, которого рукопись была лишена. Однако она сражалась с этой книгой полдесятка лет, и ей не нравилось признавать, что эта работа – её жизнь – становится скучной. Часы мелочей, дни одинокого листания страниц, прерываемые… почти ничем. И дождь льёт и льёт.
Впрочем, это была не слишком плохая разновидность скуки. Её комната была довольно уютной. У неё было тепло среди промозглой сырости, кофе из кофейника в коридоре и периодическое позвякивание радиатора, словно жалобы ворчливого, но надёжного старого друга. Время проходило аккуратными пакетами часов и дней. Но это было скучное и частенько одинокое время. Мало кто из других преподавателей факультета понимал, как относиться к женщине с пожизненным контрактом, особенно к относительно молодой женщине – в августе ей исполнилось тридцать четыре. Молодой, понятное дело, по сравнению с почтенными бородачами, населявшими архивы и библиотеки ещё во времена, когда по земле ходили титаны. Они смотрели на неё так, как могли бы смотреть на говорящего навозного жука или дрессированного шимпанзе, курящего сигару.
Каждый вечер она торопилась домой в свою крошечную квартирку на Теодотус-стрит, сквозь листопад и осенний воздух, мимо грохочущих мотокарет и утомившихся за день лошадей, от тепла к теплу: теплу своей плиты и стёганых одеял. Это успех, говорила она себе. Это моя карьера. Именно так я и хочу провести остаток жизни.
Но каждый вечер приходили воспоминания о полевых экспедициях трёхлетней давности в Сьерра-Масатека с проводниками и двумя аспирантами: о времени, когда она частенько опасалась за свою жизнь, когда она была грязна, неустроенна и слишком часто беспомощна в руках судьбы. А теперь она лежит в постели и заново переживает те месяцы. И как бы ни было тогда страшно, думала она, скучно тогда точно не было.
Конечно, она не хотела возвращения в Новую Испанию. Та часть её исследований завершена. В любом случае, сейчас там идёт война. Но интересно, не это ли путешествие изменило что-то внутри неё, разожгло аппетит к… чему? Приключениям? Определённо нет. Но к чему-то, что должно произойти. Очередной вехе. К чему-то важному в её жизни.
В некоторые вечера это становилось почти молитвой. Она помнила, как её мать бормотала вечером молитвы: якобы обращённые к Аполлону, поскольку папа был пайдономосом этого культа, но на самом деле, скорее всего, адресованные земле вокруг их дома в сельской глубинке Нью-Йорка, вдали от городских огней, где звёзды ярко светят на летнем небе и лес полон жизни. Молитвы местным богам, безымянным в Новом Свете, по крайней мере, с тех времён, как были уничтожены или отогнаны на запад аборигены; богам, чьи сивиллы замолкли или никогда и не вещали среди лугов.
– Мы живём в затаившем дыхание месте, – сказала однажды ей мама. – В месте, лишённом пневмы. Невдохновлённом. Неудивительно, что иерархи здесь так сильны.
И даже ещё сильнее, подумала Линнет. Для её матери плохие времена настали слишком скоро.
И всё же она позволила себе одну маленькую еретическую молитву. Избавь меня от одинокого однообразия, подумала она. И этих проклятущих дождей!
Но боги, не уставала напоминать ей мать, очень капризны. Избавление пришло к Линнет внезапно и в весьма неприятной форме. А дождь лил ещё много дней.
∞
Она сбросила дождевик в покрытом щербатым кафелем вестибюле своего лишённого лифта дома, и, роняя с него капли, поднялась на два этажа мимо висящих на лестничных площадках круглых зеркал – проклятия всей её жизни, показывающих её в самые нелестные моменты: на заре и в вечерних сумерках. Несмотря на колпак, её волосы промокли, и в свете ламп накаливания она выглядела какой-то маленькой. Маленький нос, маленькое круглое лицо, сжатые бледные губы не желают изгибаться в улыбке. Когда она только здесь поселилась, она всегда улыбалась себе в этих зеркалах. Но уже давно перестала.
– Мокрая мышь, – прошептала она. – Линнет, ты мокрая мышь.
Её облачение была подобающего чёрного цвета: чёрная блуза и чёрная юбка до пола, крючки для пуговиц потёртые и потемневшие; под этим на ней было скромное бюстье и корсет, придававший ей, как она полагала, приемлемую для женщины-преподавателя форму, хотя образцов для подражания у неё было не слишком много.
На площадке второго этажа Линнет немного задержалась у зеркала. Женщине, делающей карьеру, полагалось быть крепкой. Она не чувствовала себя крепкой. Только усталой. Под глазами залегли тени. Вчера она поздно легла – слушала радио, подборку военных песен, грустных песен о любви и разлуке. Она пыталась вообразить, каково это, когда твой любимый на фронте – скажем, в Куэрнаваке, где снаряды обрушиваются на милые белые саманные домишки. Наверное, это было бы ужасно.
Она прошла по коридору к своей двери, которая оказалась приоткрытой.
Она остановилась и уставилась на неё.
Может, она забыла её закрыть? Она всегда была очень внимательна на этот счёт. В окру́ге случались грабежи.
Должно быть, её ограбили. Мысль об этом вызвала тошнотворные предчувствия. Она толкнула дверь, и та медленно открылась. Внутри горел свет. Внезапно она осознала, что слышит звук собственного дыхания и дробь дождя по крыше. Войдя в крошечную прихожую, она миновала одёжный шкаф и вышла в гостиную.
Внутри был мужчина. Он спокойно сидел в её большом кресле, положив одну длинную ногу на другую. Похоже, он ждал её.
На нём была коричневая униформа старшего проктора. Он был средних лет, но подтянут. Волосы густые и чёрные; глаза бледные, взгляд пристальный. Он улыбнулся ей.
Линнет оцепенела от страха.
– Входите, мисс Стоун, – сказал он. – Хотя вам вряд ли нужно приглашение в вашем собственном доме. Я знаю, что вы не ожидали моего визита. Приношу свои извинения.
Она не хотела входить. Ей хотелось дать дёру. Хотелось убежать назад в дождливую тьму. Но она устало вздохнула, повесила дождевик в шкаф и вышла на свет напольной лампы – скульптура с вделанной в неё электрической лампочкой была самым изысканным предметом её скудной меблировки, но сейчас она её ненавидела, потому что этот человек касался её.
– Не бойтесь, – сказал проктор. Она едва не засмеялась.
– Вы ведь правда Линнет Стоун – или нет?
– Да.
– Тогда присядьте. Я не собираюсь вас арестовывать.
Она присела на край кресла, в котором обычно читала, настолько далеко от проктора, насколько было возможно. Колотящееся сердце начало успокаиваться, но тело пребывало в состоянии полной готовности. Все чувства обострились. Комната вдруг показалась слишком яркой, наполненной электричеством.
– Меня зовут Демарш. – Линнет посмотрела на его нашивки. – Лейтенант, – добавил он, произнося это слово на европейский манер, как это делали все прокторы. – Расслабьтесь, мисс Стоун. Мне нужна лишь консультация. Глава вашего факультета сказал, что к этим нужно обратиться именно к вам.
То есть Бюро уже говорило с руководством. Это серьёзно. Демарш утверждает, что прибыл не для ареста, но кто станет верить проктору?
Она вспомнила последний раз, когда прокторы стучали в её дверь. Им открыла мама. Линнет больше никогда её не видела.
И были другие истории, всегда новые: стук в дверь – и исчезнувший коллега. Профессура всегда была под пристальным наблюдением с того момента, когда Законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу вступили в силу. Учитывая прошлое её семьи, она вряд ли была исключением.
Демарш не был даже так любезен, чтобы постучать в дверь. Если бы ему нужна была лишь консультация, он мог бы прийти к ней в её офис. Но, надо полагать, проктор не мог этого сделать. Они слишком привыкли запугивать. Это их образ жизни, такой привычный, что они уже этого не замечали.
– Это касается моей книги? – спросила она.
– «Языческие культы Средней Америки»?
– «Мезо», – поправила она. – Мезоамерики. Не «средней».
Проктор снова улыбнулся.
– Вы проводите за вычиткой слишком много времени. Я читал рукопись. Ваш издатель был готов к сотрудничеству. Это превосходный научный труд, насколько я могу судить. Идеологический отдел, разумеется, уделил ему большое внимание. Распространение антирелигиозных измышлений – по-прежнему преступление. Но мы пытаемся практиковать рациональный подход. Наука есть наука. Вы мне не кажетесь подстрекателем.
– Спасибо. Компаративная этнология не является пропагандой, как установлено судебными решениями…
– Я знаю. В любом случае я здесь не по поводу вашей книги, хотя именно благодаря книге мы выбрали вас. Мы хотим, чтобы вы провели некоторую работу для Bureau de la Convenance Religieuse[9]9
(фр.) Бюро Религиозной Благопристойности.
[Закрыть].
– У меня есть собственная работа.
– Ничего такого, что не могло бы подождать. Мы устроим вам саббатикал – если вы согласитесь.
– Моя книга…
– Вы практически завершили вычитку гранок.
Она не могла этого отрицать. Демарш знал всё. Есть такая поговорка: «Бог видит, как упал воробей. Бюро записывает».
– Вы нужны нам на шесть месяцев – возможно, на год, – сказал он.
Она поразилась. Это было слишком много, чтобы проглотить: Бюро хочет, чтобы она на них работала, уехала на шесть месяцев, бросила свою жизнь, все свои планы, уж какие есть…
– Для чего?
– Для занятий научной этнологией, – сказал Демарш. – Тем, что вы умеете лучше всего.
– Я не понимаю.
– Это непросто объяснить.
– Не уверена, что хочу объяснений. Вы сказали, что у меня есть выбор? Я не хочу иметь с этим ничего общего.
– Я понимаю. Верите или нет, но я вам даже сочувствую, мисс Стоун. Если бы всё зависело от меня, я бы оставил всё как есть. Но я не думаю, что Бюро в целом будет довольно вашим решением.
– Вы сказали, что у меня есть выбор…
– Есть. Но он есть и у моего руководства. Они могут, скажем, переговорить с вашим издателем, или рассказать канцлеру о ваших академических достижениях в свете истории вашей семьи. – Он увидел выражение её лица и поднял руки. – Я не стану утверждать, что это неизбежно. Я лишь говорю, что вы рискуете, отказываясь сотрудничать.
Она не ответила, не смогла найти слова для ответа.
– Мы не говорим о физическом труде на какой-нибудь штрафной ферме, – добавил он. – Это будет работа, к которой вы готовились, и, в конце концов, это всего лишь шесть месяцев в долгой карьере. Многих людей просят пожертвовать для своей страны гораздо бо́льшим.
Пожалуйста, подумала Линнет, не начинай говорить о войне, о благородной смерти. Это будет невыносимо. Однако Демарш, казалось, почувствовал её реакцию. Он замолчал, уставившись на неё неподвижным взглядом.
– Для чего Бюро мог понадобиться этнолог? – спросила она. Причём женщина – но этого она не стала говорить. Это было не в её характере.
– В основном, мы хотим, чтобы вы написали анализ иностранного поселения – их нравы и табу, кое-что из их истории.
– За шесть месяцев?
– Нам нужны наброски, а не диссертация.
– Разве этого нельзя просто прочитать в книгах?
– Не в этом случае, нет.
– Это будет работа в поле?
– Да.
– Где? – Наверняка это как-то связано с войной, подумала она. Новая Испания, почти наверняка.
– Вы согласны сотрудничать? – спросил Демарш.
– Вместо того, чтобы потерять пожизненный контракт? Вместо обвинений в преступлении на каком-нибудь тайном процессе?
– Вам лучше знать.
– В подобных обстоятельствах что я могу сказать?
Демарш прекратил улыбаться.
– Вы можете сказать «Я согласна».
Слова. Ему, оказывается, нужны слова.
Линнет смерила его долгим презрительным взглядом. Демарш никак не отреагировал, лишь пассивно смотрел в ответ. Его униформа была свежа и опрятна, и от этого почему-то пугала ещё больше. Её промоченная дождём одежда воняла мокрой шерстью и поражением.
Она опустила голову.
– Я согласна, – произнесла она.
– Простите? – переспросил он нейтральным тоном.
– Я согласна.
– Вот. – Он потянулся к своему атташе-кейсу. – Тогда позвольте мне продемонстрировать вам несколько интереснейших фотографий.
∞
Ей дали три дня на завершение вычитки гранок. Линнет полностью погрузилась в эту работу, пользуясь ею для того, чтобы вытеснить из головы историю, рассказанную ей лейтенантом Демаршем. Даже после того, как она увидела фотографии (странный, но очень реалистично выглядящий город, магазинные витрины, демонстрирующие невозможные товары, вывески на языке, лишь до определённой степени английском), она по-прежнему была наполовину уверена, что это мистификация, какая-то изощрённая ловушка, подготовленная Бюро для того, чтобы обманом заставить её признаться в… в общем, признаться в чём-то, в чём угодно, после чего она окажется в тюрьме.
В коридоре она прошла мимо главы факультета Абрахама Валькура, который наградил её холодным взглядом и надменной улыбочкой. Ходили слухи, что у Валькура есть знакомые в военном министерстве, что некоторые его полевые экспедиции несли в своём багаже шпионов Комиссариата. Линнет раньше не обращала на них внимания, но не сейчас; сейчас она была уверена, что именно Валькур послал прокторов к её дому. Она могла представить, как это происходило. Поговорите с этой. Она умна и покладиста, написала хорошую книгу. Он мог быть умопомрачительно правдоподобен, когда хотел соврать. Он так и не смирился с идеей о присутствии женщины на своём факультете, хотя её академические успехи были бесспорны. Разумеется, он не мог упустить возможность как-то ей подгадить. С его стороны было совершенно логичным кинуть её прокторам, как кость в полную собак псарню. Несомненно, он надеется, что она не вернётся. Линнет поклялась себе, что она обязательно вернётся, хотя бы только для того, чтобы стереть с его лица эту сводящую с ума улыбочку.
Ту-Риверс, подумала она. Город, что возник среди глухих лесов северного Миль-Лак[10]10
Mille Lacs (фр.) – тысяча озёр. Территория штата Мичиган изобилует озёрами.
[Закрыть], назывался Ту-Риверс.
Гранки её книги отправились к издателю, завёрнутые в коричневую вощёную бумагу и крепко перевязанные шпагатом.
Дома она упаковала свою самую тёплую одежду. На север Ближнего Запада осень приходит рано. Зимы же, как она слышала, могут быть очень суровы.
Она попрощалась со своей секретаршей и несколькими аспирантами. Больше было не с кем.
Глава третья
Занятия в школе имени Джона Ф. Кеннеди в тот год начались поздно. Удивительно, думал Декс, что они вообще начались. Он отдавал должное директору Бобу Хоскинсу и сварливому родительскому комитету: им удалось достичь соглашения с прокторами, которые, должно быть, посчитали, что безопаснее будет держать неугомонных детишек весь день под контролем, чем позволять им шататься, где вздумается.
Проблема (вернее, одна из проблем в море бед) была в отсутствии учебников. Как и каждая библиотека в Ту-Риверс, школьная библиотека была разграблена. «Индексирована», как сказали прокторы. Книги вывезли на грузовиках в августе – не для того, чтобы сжечь, утверждали они, а в специальное хранилище, несомненно, в каком-нибудь тайном монастырском архиве, в засекреченных казематах.
Военный совет даже предложил новые учебники взамен, и, вероятно, это было неизбежно, если они хотели всё-таки открыть школу, однако Декс пришёл в ужас при виде образцов, которые им показали: том с золотым обрезом, который в 1890-е мог сойти за «Мак-Гаффи Ридер»[11]11
Чрезвычайно популярный в США в середине XIX – начале XX веков сборник текстов для школьного чтения.
[Закрыть], полный предостерегающих стишков об опасностях сифилиса и спиртных напитков и рассказов на исторические темы, которые выглядели сомнительно даже для той извращённо-кривой кроличьей норы, в которую провалился город: «Герои и ересиархи», «Даниэль в Равенсбройке», «Что завоёвано и что потеряно на полях Фландрии». Декс не мог себе представить, как он будет преподавать подобные тексты классу, выросшему на Супер-Марио и черепашках-ниндзя.
Так что он вёл свои занятиях неформально, как всегда это делал: американская история от революции до первой мировой войны. Он написал «параграфы» и распечатал их на древнем спиртовом дупликаторе[12]12
Применявшееся в XX веке копировальное устройство, позволявшее получать дешёвые, но немногочисленные копии.
[Закрыть], который кто-то притащил из подвала. История, конечно, уже была не та. Только не здесь. Однако, несмотря на пугающие свидетельства последних четырёх месяцев он не мог убедить себя, что это бессмысленная работа, что он рассказывает раз от разу меньшему количеству учеников сказки некоей утерянной и невозможной страны снов. Эти события произошли. Они были важны и имели последствия: городок Ту-Риверс, к примеру, был одним из них.
Он преподавал реальную историю. По крайней мере, он в это верил. Но его ученики не проявляли интереса, и сегодняшний день исключением не стал; он преподавал без книг, электрического освещения, тёплого класса и большого энтузиазма и испытал, как и все остальные, облегчение, когда день, наконец, закончился.
Он шёл домой через длинные тени. Комендантский час начинался в шесть, но на улицах уже никого не было. Кроме военных. За последние три месяца Декс приучился не смотреть на приземистые патрульные машины. Они всегда одинаковы – водитель в чёрном берете и человек с винтовкой и примкнутым штыком рядом с ним, на лицах обоих – выражение тупой скучающей враждебности. Лица такого типа, вероятно, увидишь во множестве в Гондурасе или Пекине, но это были не те лица, что Декс ожидал бы увидеть в Ту-Риверс.
Однако, как могла бы сказать Элли Смит, он больше не в Мичигане. Он уже бросил попытки понять, какова истинная природа этого места. Единственными подходящими словами здесь были те, что он услышал в «Сумеречной зоне». «Иное измерение». Что бы это ни значило.
Он взобрался по лестнице в свою квартиру. В гостиной было темно и холодно – как и всю эту осень. Военные обещали протянуть высоковольтную линию с юга, но он в это поверит, только когда увидит. А пока же было холодно, а зимой станет ещё холоднее. Они бы все перемёрзли, если бы не достигнутые соглашения.
Диван-кровать был разложен и завален одеялами – всеми одеялами, что у него были. В тот краткий период в июне, между самим событием и военной оккупацией, ему достало соображения прикупить штормовой фонарь и запас лампового масла для него. Фонарь давал ему лишние полчаса света каждый вечер. Достаточно света, чтобы читать. Прокторы конфисковали не все книги в городе – остались личные библиотеки, включая его собственные семь полок, набитые книгами в мягких обложках. Он перечитывал Марка Твена – в сложившихся обстоятельствах это поднимало дух.
Он поел холодного консервированного супа. Прокторы выдавали «пайковые купоны», отпечатанные мимеографом на тряпичной бумаге; их обменивали на еду в пункте раздачи на стоянке супермаркета. Декс истратил свои купоны в начале недели, но берёг нескоропортящиеся продукты. Воду привозил грузовик к зданию мэрии; народ выстраивался в очередь со старыми молочными бидонами, походными термосами и другими ёмкостями, удобными для переноски. Ждать приходилось обычно около часа, и вода попахивала бензином.
Он не принимал горячего душа с июня. Оказалось возможным, как Декс убедился сам, держать себя в чистоте с помощью тряпочки, маленького кусочка мыла и кувшина воды комнатной температуры, но удовольствия в этом не было никакого. Душ уже начал ему сниться.
Он читал в сгущающихся сумерках, пока не стало слишком темно, потом отложил книгу и стал смотреть в окно на то, как наступает ночь. Набежали облака, поднялся ветер. Улица засыпана опавшими листьями. Никто не убирал и не сжигал листья в этом году. Город выглядел опустившимся и неряшливым.
Сегодня он не зажигал штормовой фонарь. Когда в комнате стало темно, когда погрузилась во тьму улица, он переоделся в чёрную футболку, джинсы и синий плащ. Он сунул банку супа в один карман, две банки апельсиновой шипучки в другой. После секундного раздумья, добавил к ним бутылочку аспирина.
Насколько Декс мог судить, все соблюдали комендантский час. Было лишь несколько исключений. В июле двадцатисемилетний мужчина по имени Сигрэм был застрелен, когда пытался ночью пробраться через весь город, чтобы нанести визит подруге. Его труп был выставлен на обозрение у мэрии на три жутких дня.
С тех пор патрули несколько ослабили бдительность, но Декс всё равно был предельно внимателен, выходя из подъезда на продуваемую ветром улицу.
Ветер – это хорошо. На фоне скрипа деревьев и шороха всех этих сухих листьев не будет слышно звуков его передвижения. Уличного освещения не было, лишь случайное мигание свечных огней за задёрнутыми шторами окнами; это тоже было неплохо. Он проследовал вдоль линии живых изгородей к Бикон-стрит и внимательно огляделся, прежде чем перебежать через перекрёсток к углу парка Пауэлл-крик. Парк был хорошим прикрытием, но рискованным местом для прогулок в темноте. Он старался держаться едва различимой светлой дорожки.
Он нырнул под иву, когда военный патруль с Оук-стрит свернул за угол у тёмного здания начальной школы, хрустя колёсами по опавшим листьям. Сидящий рядом с водителем солдат осматривал тротуары, освещая их ярким прожектором. Декс, скорчившись, застыл и старался пореже дышать, пока не стих звук мотора и не померк свет прожектора.
Затем он перешёл улицу к маленькому деревянному домику с заросшей лужайкой, обошёл его и спустился по короткой лестнице с бетонными ступенями к двери в подвал. Он шёл по памяти; в темноте он практически ничего не видел. Деревья шипели на ветру в черноте заднего двора. На пальто упали первые капли дождя; воздух на губах был холоден и влажен.
Он открыл дверь, не постучав. Когда он плотно закрыл её за собой, он чиркнул спичкой и коснулся ей огарка свечи.
Подвальная комната без окон. Бетонный пол. Стопки одеял, консервные банки (по большей части пустые), несколько книг, примус.
На полу матрас, а на матрасе – Говард Пул. Его глаза закрыты, лоб в испарине.
Декс вздохнул и принялся вытаскивать банки из карманов пальто. Услышав возню, Говард повернул голову и посмотрел на него.
– Это я, – сказал Декс.
Молодой человек кивнул.
– Пить, – сказал он.
Декс вскрыл панку шипучки и вложил в руку Говарда две таблетки аспирина. Рука была горячая, но, вроде бы, не настолько, как вчера.
Говард страдал от гриппа, который грозил перейти в пневмонию. Декс верил, что кризис миновал, но теперь ни в чём нельзя быть уверенным.
Говард повернул наручные часы так, чтобы на них упал свет свечи, потом медленным, болезненным движением сел.
– Уже комендантский час.
– Ага.
– Рискованно сюда приходить.
– Я не хотел, чтобы за мной проследили.
– Думаешь, могли бы?
– Утром приходила пара прокторов. Они знают твоё имя, знают, что ты работал на заводе и снимал комнату у Эвелин. Всё чинно-благородно, никакого давления. Но один из них пошёл за мной на работу. Я подумал, что лучше прийти сюда, когда стемнеет.
– Господи. – Говард перевернулся на бок.
– Всё не так плохо, как тебе кажется. У меня не сложилась впечатления, что они за тобой охотятся. Просто забрасывают удочки.
Говард вздохнул. Он выглядит уставшим от всего этого, подумал Декс: вымотанным болезнью, холодом, необходимостью прятаться.
Уже через десять дней после того, как в Ту-Риверс вошли танки, военные объявили, что имеют желание поговорить с сотрудниками Лаборатории физических исследований Ту-Риверс. Говард решил не высовываться. Потом лейтенант Bureau de la Convenance Religieuse, человек по имени Саймеон Демарш, занял пансион Эвелин и превратил его в свою штаб-квартиру. И Говарду пришлось пуститься в бега.
Дом, в котором они находились, официально пустовал. Он принадлежал Полу Кантвеллу, аудитору, который, когда всё произошло, был с семьёй во Флориде.
Говард нашёл на столе наверху старые недействующие водительские права и пользовался ими, выдавая себя за Кантвелла при раздаче пайков. Когда он слёг с гриппом (какой-то его разновидностью, появившейся вместе с танками: им болела половина города), Декс пользовался ими, чтобы получать двойной паёк – рискованное дело, поскольку за накопление продуктов и подделку документов в военное время полагается смертная казнь.
Говард рассеянно забормотал:
– Я видел сон, когда ты пришёл. Что-то про Стерна. Он был в здании, где всё было покрыто драгоценными камнями. Но я не помню… – Его голос затих.
Снова Стерн, подумал Декс. С тех пор, как его начало лихорадить, Говард часто говорил о своём дяде Алане Стерне – который был движущей силой Лаборатории физических исследований Ту-Риверс и который, предположительно, погиб во время катастрофы. Лихорадка будто оживила воспоминания о нём в голове Говарда.
– Женщина, – тихо сказал Говард, явно в бреду. – Женщина ответила на звонок.
Декс открыл банку супа и вложил ему в руку ложку. Пальцы Говарда сомкнулись на ней спазматически, рефлекторно.
– Когда я позвонил ему в Ту-Риверс, – говорил Говард. – Женщина…
– Это важно?
Вопрос, казалось, прояснил его разум. Он виновато улыбнулся Дексу.
– Не знаю. Может быть. – Он поднёс ложку ко рту. – Холодный суп.
– Тебе надо есть. Кстати, как ты себя чувствуешь?
– Немного лучше. Чаще просыпаюсь. По крайней мере, я так думаю. Здесь трудно следить за временем. – Он проглотил ещё ложку супа. – Не так часто в сортир бегаю. Даже немного проголодался.
– Это хорошо.
Некоторое время он ел в молчании. Дексу казалось, что суп и аспирин потихоньку ему помогают. Было приятно это видеть.
Они слушали, как усиливается дождь, барабаня по жестяному навесу над задней дверью.
Говард отставил пустую банку и в последний раз облизал ложку.
– Я говорил о дяде. Это не просто бред, Декс. Я знаю, я не больно хорошо соображал. Но он – ключ ко всем этим событиям. Может быть, наш ключ к их пониманию.
– Думаешь, у нас есть шанс их понять?
– Не знаю. Возможно.
Может быть, Говард сможет разобраться, что произошло в лаборатории. У Декса явно не получится. Он и боровскую модель атома с трудом понимал, не говоря уж о физическом процессе столь катастрофичном, что он способен переписать историю. То, что здесь произошло – это не школьный курс физики, его не было ни в одной учебной программе, о которой Декс когда-либо слышал. Он покачал головой.
– Ты говоришь с гуманитарием, приятель.
– Возможно, мы должны понять их.
– Должны?
– Я много об этом думал. Когда лежишь тут в темноте, то очень много думаешь. Это наш единственный выбор, Декс. Мы поймём их и что-нибудь сделаем, или просто… что? Будем вот так жить и дальше? Нас будут убивать, сажать в тюрьму или, в лучшем случае, ассимилируют?
Декс тоже об этом задумывался, как и, вероятно, большинство жителей Ту-Риверс. Но никто никогда об этом не говорил. Это было молчаливое соглашение всех со всеми. О будущем не говорим.
Говард нарушил это правило.
– У тебя температура.
– Не уходи от разговора.
– Ладно.
– И не пытайся меня подбодрить. Я не настолько больной.
– Прости. Если бы я знал, с чего начать…
– Я всё время думаю о Стерне. Он мне снится. Когда меня лихорадит… несколько раз мне казалось, что он здесь, в этой самой комнате. Очень реальный. – Говард покачал головой и снова улёгся на матрас. – Всё казалось таким логичным. Во сне всё гораздо осмысленнее.
∞
Декс вернулся домой после полуночи. Погода скрывала его от глаз и свела военные патрули к минимуму, но его одежду насквозь промочил холодный дождь, и когда он увидел, наконец, свой дом, его уже колотил озноб. Может быть, Говард прав, подумал он. Возможно, во сне во всём этом больше смысла.
Возможно, сновидения – это единственный способ подступиться к чему-то настолько непонятному. Декс справлялся лучше многих, потому что его собственная жизнь перешла на территорию сновидений давным-давно. Он жил, как во сне с тех пор, как пожар отнял у него Абигаль и Дэвида. С того момента его жизнь покатилась в мрачную пропасть, на фоне которой даже события последних нескольких месяцев казались не более чем кратким всплеском, когда его собственная потеря оказалась каким-то образом вплетённой в ткань внешнего мира. Он полагал, что Эвелин что-то такое в нём чувствует, что даже возникающая между ними нежность – а это была настоящая нежность – тем не менее, перекрывалась чем-то тёмным. Он полагал, что именно по этой причине она решила остаться в пансионе с проктором Демаршем. Она, разумеется, боялась, но не только. Она знала о Дексе: кем он был и что он потерял.
Он стоял во тьме под притолокой старого дома и пытался вставить мокрый ключ в замочную скважину. Он думал об Эвелин Вудвард и о том, что она для него значит. Иногда она казалась дверью в мир, из которого он был изгнан – не заменой Абигаль, но выходом из тёмного ущелья, в которое превратилась его жизнь, наверх, на залитые солнцем возвышенности, в которые он уже почти перестал верить.
Ей нечем было ответить на эту лихорадочную потребность, да и кому это под силу? Лучше было не хотеть подобных вещей. Он достиг некоего модуса вивенди со своим горем, и такие соглашения лучше не нарушать. Ты несёшь своё горе и при необходимости ешь его и пьёшь, пока оно не становится тобой самим, пока ты в один прекрасный день не посмотришь в зеркало и не увидишь там ничего, кроме горя – человека, сотканного из одной лишь скорби, но который держится на ногах и каким-то образом всё ещё живёт.
Он оставил свою мокрую одежду висеть на перекладине шторки в ванной и отправился в постель, жаждая этих нескольких часов забвения, прежде чем снова взойдёт солнце.
∞
Его разбудил стук в дверь.
Стук был уверенный и не допускающий возражений – прокторский стук. Он проснулся, щурясь на дневной свет; его сердце бешено колотилось.
Он прошёл прямо к двери и открыл её, встревоженный, но не испуганный; он слишком устал от всего этого, чтобы бояться.
Коридор освещался лишь светом бледного октябрьского утра из окна, выходящего на восток. Двое младших прокторов, розовощёких юнцов, лишь начинающих овладевать фирменным высокомерием профессиональных сотрудников религиозной полиции, осмотрели Декса и комнату за ним. Затем они расступились.
Вперёд вышла женщина.
Декс озадаченно уставился на неё.
Она была одета так, как, по его представлениям, могла одеваться в молодости его прабабушка: чёрное платье до пола с высоким воротником, длинными рукавами и пуговицами на крючках, надетое поверх своеобразного корсета, придававшего женской фигуре форму буквы S – сплошь грудь и ягодицы. Определённо не униформа – слишком много шнуровки на воротнике и манжетах. Тёмные волосы с пробором посередине обрамляли лицо. Ростом она была примерно ему по грудину.








