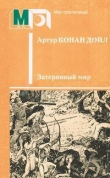Текст книги "Неправильный Дойл"
Автор книги: Роберт Джирарди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Роберт Джирарди
Неправильный Дойл
Посвящается малышу Б.
Давайте поднимем знамя, под которым соберутся все разумные и честные люди.
Вашингтон
Вступление
Летом 1672 года из Каролины к побережью Виргинии отправились три корабля под командованием грозного ирландского пирата Финстера Дойла. Англичане прозвали его Дойл-турок, потому что у него было семь жен, а испанцы – Дойл-дьявол, за его участие в сожжении Панамы и разграблении Маракайбо. По одному ему известным причинам Дойл чувствовал свою вину за те кровавые события, в которых были истреблены почти все мирные жители, а выжившие – проданы в рабство. Не то чтобы это тяготило его, но все же оставалось где-то внутри, словно чернота в глубине моря или хроническая лихорадка. Поэтому он в конце концов покинул общество своих приятелей-пиратов в Порт-Рояле, на Ямайке, взял жен и команду и пустился в плавание.
Маленькая флотилия Финстера Дойла состояла из «Могилы поэта», тридцатипушечного фрегата, захваченного у испанского флота, «Дароносицы», семнадцатипушечного тяжелого фрегата Ост-Индской компании, и двухпушечного шлюпа, который построили в Порт-Рояле по его собственным чертежам и величественно окрестили «Королевским предприятием». В поисках безопасной стоянки на ремонт все три корабля бороздили мрачные воды, омывавшие череду пустынных островов, тянувшихся неровной линией от мыса Чарльза до залива Делавэр. Месяцы плавания потрепали маленькую флотилию, борта обросли ракушками, а добыча последних схваток переполнила трюмы: за рифами Матагорда Финстер захватил и сжег испанский корабль, нагруженный серебряными слитками с перуанских рудников, а в устье Чесапикского залива ограбил три богатых торговых судна табачного флота Виргинии, направлявшиеся в Лондон, после чего пустил их ко дну, приковав остатки команды к планширам.
В конце концов маленький флот Финстера подошел к безлюдному побережью и, исследуя незнакомые заливчики и бухточки, обнаружил густопоросший лесом остров в форме слезы. Его населяли лишь морские птицы, москиты и странный вид опоссума-альбиноса. Наветренная сторона острова была защищена от Атлантики длинным песчаным полуостровом; этот глубокий подветренный канал словно предлагал убежище от любой непогоды. Финстер бросил там якорь и послал людей на берег за свежей водой и опоссумами, чтобы заготовить вяленое мясо. Потом он удалился в капитанскую каюту со всеми семью женами.
День был необычайно тихий, ни дуновения ветерка. Финстер раздел своих жен одну за другой и успел поработать над тремя из них, когда небо над грот-мачтой вдруг стало бутылочно-зеленым и завыл ветер. Большая часть команды все еще находилась на острове, охотясь на опоссумов, которые оказались весьма проворными, и корабли не успели выйти в открытое море. «Дароносица», налетев на подводную гору живых устриц и зубчатые скалы, продырявила борт и затонула за каких-то пять минут. «Могилу поэта» с Финстером и его семью женами вынесло прямо на берег, и ее киль разбился о дюны с таким звуком, словно переломилась огромная человеческая кость.
Ураган свирепствовал; всю ночь. Когда все успокоилось, Финстер выбрался из-под обломков «Могилы поэта» и обнаружил, что теперь у него осталось шесть жен – одну ночью смыло за борт волной – и лишь восемь из ста семи человек команды: ураган затопил половину острова и всех, кто был на берегу, унесло в море.
Финстер обдумывал весьма неприятное положение, в котором оказался, как вдруг увидел парус «Королевского предприятия», благополучно перенесшего шторм в открытых водах Атлантики. Это маленькое, но крепкое судно быстро подплыло к острову, и пятеро моряков добрались до берега, чтобы приветствовать воспрявшего духом капитана, который стоял в прибрежных волнах в просоленных лохмотьях, с раскинутыми руками, подобно распятому Христу. Поодаль, ближе к берегу, дрожащие, испачканные и полуголые, жались друг к другу его шесть жен.
И как раз в эту минуту из влажной тени деревьев показался Валем, вождь индейского племени окнонтококов, который вел за собой сорок два храбрых воина. Окнонтококи были малочисленным воинственным племенем, давшим клятву верности Великому Вождю нантикоков. Но год назад нантикоки начали воевать с окнонтококами и вытеснили их с Большой земли на прибрежные острова, где те жили охотой на опоссумов, моллюсков и терпящих бедствие моряков.
Матросы с «Королевского предприятия», вооруженные пистолетами и мушкетами, попытались стрелять, но обнаружили, что порох отсырел. Тогда они стали хватать все, что попадалось под руку, – обломки рангоута, багры, ножи, камни, – но вскоре были повержены и убиты. Тем временем Финстер поставил своих жен в оборонительную позицию – спиной к усеянному ракушками корпусу «Могилы поэта». Индейцы окружили их, подняв дубинки. В их обычае было забирать женщин для тяжелой работы и размножения, а мужчин убить и съесть.
Но Финстер не желал сдаваться. Непокорный, с абордажной саблей в руке, крепко сжимая рукоять своего оружия, в минуту великой опасности он почему-то вспомнил некоторые приятные моменты своей далекой молодости. Нет, его жизнь не пронеслась у него перед глазами – он слишком огрубел для этого, – но помимо воли он подумал о том счастливом времени, когда был невинным ребенком, сыном священника в ирландском городке Дрогеда, любимцем и баловнем матери и сестер, намеревавшимся вслед за отцом и дядей принять духовный сан. Это было еще до осады и резни, до того, как Кромвель и его Железнобокие ворвались в город и опустошили его. Тогда Финстер еще верил в деяния апостолов и святых, в святую Римско-католическую церковь, в то, что грехи наказываются и что за добро воздается добром. Он верил в великодушного, всевидящего Бога, чей суровый суд над часто сбивающимся с пути человечеством смягчается бесконечным милосердием. Но он прожил слишком долго, чтобы сохранить эти младенческие иллюзии, и стал верить только в плотское наслаждение, неминуемую смерть и в то, что имеющие власть могут как угодно помыкать теми, у кого ее нет.
Индейцы приближались. Некоторые из жен Финстера тихо плакали и молились о скором конце своих страданий, другие вооружились обломками бревен, прибитыми к берегу, намереваясь погибнуть в схватке. Затем одна из них, уроженка Гвинеи, негритянка по имени Нэнси, что-то крикнула индейцам на их родном языке. Ее увезли из Африки маленькой девочкой и продали на плантацию у реки Джеймс, где она трудилась на табачных полях бок о бок со взятыми в рабство скво нантикоков, захваченными во время ужасного восстания сорок четвертого года. Теперь она умоляла вождя не трогать ее мужа.
– Убьете этого человека, – говорила она, – и сделаете вдовами всех нас и сиротами детей, которых мы вынашиваем! За это преступление могущественные духи земли пошлют проклятия на вас, ваших детей и внуков!
Валем, удивленный, сразу остановился и опустил дубинку. Он подал знак, и его воины отошли, а из-за деревьев появились скво и стали совершать ритуальные надругательства над гениталиями убитых. Валем уселся на песке в характерной позе и подал еще один знак, который означал мир. Финстер осторожно сделал шаг вперед, все еще сжимая свою саблю.
Нэнси перевела единственный вопрос индейца:
– Все эти женщины твои жены?
Удивленный Финстер кивнул.
Лицо индейца расплылось в широкой улыбке. Он подпрыгнул, снял ожерелье из раковин, надел его на шею Дойла и обнял его.
– Любой мужчина, – сказал он Финстеру, – краснокожий или бледнолицый, который может справиться сразу с шестью женщинами, должен быть великим вождем, очень сильным и бесстрашным.
Валем считал таковым себя, а это означало, что в глазах Великого Маниту окнонтококов они оба – братья и члены одного племени. Финстера очень удивило это утверждение, но он уже давно привык к странностям этого мира, поэтому низко поклонился и принял такую честь с учтивостью, приличествующей обстоятельствам. В тот же вечер окнонтококи начали церемонию, которая продлилась десять дней и ночей и сделала Финстера вождем окнонтококов, вторым после Валема, имеющим в подчинении двадцать пять воинов.
Какое-то время Финстер тайно планировал сбежать со своими женами на «Королевском предприятии» и вернуться на Ямайку, где он снарядил бы Другой корабль и снова начал пиратствовать. Потом он передумал: лучше быть королем среди дикарей, чем пиратом в цивилизованном обществе. В общем, жизнь, которую он теперь вел, не намного отличалась от того, чем он занимался раньше. Все то же: разбой и пирушки после удачных дел, те же звезды вверху, те же самые женщины. Он взял в жены одну из юных дочерей Валема, чтобы скрепить свою связь с племенем, и вместе с воинами выступал против нантикоков. Воины, в свою очередь, учились управлять «Королевским предприятием», переименованным в «Вождя Валема», и под командованием Дойла ходили к побережью Виргинии и вокруг мыса Чарльза, чтобы грабить английские суда в Чесапикском заливе.
Год прошел удачно. Финстер Дойл и его индейцы-пираты захватили, ограбили и потопили в Чесапике четыре небольших торговых судна, а на острове у его жен родилось пятеро здоровых младенцев.
Но однажды у побережья Виргинии появился английский военный корабль.
В нескольких днях ходу на юг, в устье Паманки, на берег высадился отряд английских моряков с грозными лицами и с ними – перебежчик-толмач из племени нантикоков. Они сказали испуганным индейцам, что ищут ирландского пирата, у которого три корабля и семь жен, и пообещали много ожерелий из раковин за сведения о нем.
Все это время Финстер и его жены обитали в корпусе «Могилы поэта», словно насекомые в гниющем бревне. Богатства, которые он захватил во время той последней вылазки, всё еще лежали в трюме. Все это нужно было спрятать от англичан до того, как они здесь появятся, – Финстер знал, что это произойдет, потому что англичане не терпят пиратов, тем более ирландцев, и не остановятся, пока не вздернут его. Валем помог ему собрать вместе всех пригодных для работы окнонтококов, и мужчин и женщин. Они копали, сменяя друг друга, целых три дня, пока на другой стороне дюн в мягкой почве, похожей не на песок, а, скорее, на плотную черноватую землю, не образовалась гигантская яма. Тем временем Финстер спилил мачты, срезал оснастку корабля и соорудил из всего этого нечто вроде тяжелой волокуши. Когда яма была готова, он запряг все племя окнонтококов, и они оттащили туда корабль. Яму засыпали, так что от судна не осталось и следа. Его «Могила поэта» обрела собственную могилу на земле.
Вскоре после этого «Вождь Валем» встретился с военным шлюпом «Павлин» при входе в бухту Вик-комак в Чесапикском заливе. Это было мало похоже на схватку: на борту «Павлина», которым командовал доблестный усмиритель индейцев полковник Броуди Диеринг, было двадцать пушек, – и Финстера с его командой из пяти воинов быстро схватили и доставили в Джеймстаун, чтобы там повесить. Воины Финстера были дикарями и язычниками, поэтому их повесили сразу, а ему пришлось пройти через все изощренные пытки судопроизводства. Перед тем как вынести приговор, сэр Уильям Беркли, глава исполнительной власти и губернатор виргинской колонии, спросил Финстера, не желает ли он произнести последнее слово. Ничуть не колеблясь, Дойл расстегнул штаны и под хохот зрителей с галерки помочился на судебного пристава, который стоял под скамьей подсудимых. Беркли это не показалось забавным, и он добавил к приговору Финстера сорок ударов плетью с железным наконечником.
Несколькими днями позже полковник Диеринг и его солдаты посадили пирата в повозку, запряженную волами, которая медленно двинулась по пыльной дороге к морю. На его шее уже была завязана веревка, которая, спадая, словно змея, обвивала его ноги. Надсмотрщики и рабы с табачных плантаций молча смотрели, как он медленно ехал, полный достоинства, возвышаясь над живой изгородью, словно ростра на носу корабля. На верфи в Хэмптон-Роудс боцман с «Павлина» содрал с Финстера одежду и хлес-тал его кошкой до тех пор, пока не разорвал кожу в клочья. Потом его вздернули на виселице и оставили висящее тело разлагаться в железной клетке, в знак предупреждения всем пиратам.
Но еще долгие годы женщины, завернутые в оленью кожу и шерстяные одеяла на манер индейских скво, хотя под грязью большинство из них были белыми и одна – негритянкой, приходили по длинным лесным тропам и приносили чумазых детей, чтобы постоять в немом созерцании почерневших костей Финстера Дойла, раскачивающихся на ветру.
Часть 1
Дойл возвращается домой
1
Тим Дойл медлил, стоя на пыльной лестничной площадке, вставив ключ в замок. Он делил мансарду со своей любовницей, молодой француженкой по имени Бри-жит Пуссен. Печальный янтарно-желтый свет проникал в узкий лестничный колодец через слуховое окно на противоположной стене и образовывал что-то вроде мишени с перекрестьем на темном дереве двери и на осыпающейся гирлянде сухих роз, которую Брижит повесила три месяца назад, когда они въехали. Дойл смотрел, как янтарная мишень тускнеет и расплывается в полумраке, – вот несколько секунд, и еще один день прошел. Судя по звукам, доносившимся из-за двери, там мужчина и женщина занимались любовью.
Непрерывный шум городского транспорта доносился с Рю де ля Мир; резкий гудок давшего задний ход грузовика эхом отдался во внутреннем дворике, почти сливаясь со страстными криками за дверью. Дойл стоял неподвижно, прислушиваясь. «Конечно, – мрачно думал он, – это обязательно должно было случиться, это правильно, более того – справедливо». В следующую секунду крики достигли неистового крещендо, и каждая нота была ему знакома. Брижит определенно знала, как получить оргазм: она позволяла страсти вливаться в нее, овладевать ею полностью, а после лежала не двигаясь, холодная и влажная, как утопленник, выловленный из Сены.
Затем Дойл услышал гортанные звуки, издаваемые мужчиной, находящимся с ней, решительным щелчком повернул ключ в замке и толкнул дверь. За секунду до того, как войти, он бросил взгляд на слуховое окно и поймал слабый отблеск фасада Сакре-Кёр, кораллово-розового в лучах заходящего солнца, под которым до горизонта раскинулся Париж – город, уже исчезнувший для него, стертый с карты. Он проделал последние шаги к спальне почти бегом, мимо пальто на вешалке в коридоре, через невероятно маленькую кухоньку, сорвал тонкую перегородку-гармошку и застал их обоих на японском матрасе в последних конвульсиях: не сознающая ничего Брижит сидела спиной к любовнику, на его темных волосатых ногах. «Араб! Эта сука трахается с арабом», – подумал Дойл, глядя на ее стройное тело, блестевшее от пота, и полузакрытые голубые глаза. В следующую секунду она их открыла и увидела Дойла, мрачно стоявшего в дверном проеме, словно сама смерть. Она вскрикнула и попыталась вскочить, но темные руки араба прижались к ее бедрам, заставили опуститься на него еще раз, еще и еще, пока он не кончил. Брижит не смогла с собой справиться, ее глаза закатились, она застонала, ее снова охватила сильная дрожь, и наконец, тяжело дыша, она упала на бок, комкая простыни.
Когда араб увидел Дойла, он вскрикнул от неожиданности и попытался вскочить, но Брижит удержала его, положив ладонь ему на грудь.
– Du calme, chérie,[1]1
Успокойся, дорогой (фр.).
[Закрыть] – сказала она низким голосом, глядя на Дойла без малейшего признака стыда на лице.
Дойл с арабом обменялись злыми взглядами, не предвещавшими ничего хорошего. Араб был худым, ему было от силы двадцать – почти вполовину меньше, чем Дойлу, – с нежными, девическими чертами и пухлыми влажными губами. Дойл почувствовал, что где-то видел его, и тут же вспомнил где. Это был марокканец по имени Ханук Аджид, один из официантов в кафе «Ней» вниз по улице, всегда такой внимательный, когда они с Брижит подходили к блестящей стойке выпить apéritif. Маленький ублюдок. Ханук Аджид не озаботился прикрыться простыней, Дойл увидел его упавшее достоинство, и на долю секунды ему стало легче.
– Le dice, пусть этот урод выметается отсюда, – сквозь зубы процедил Дойл. – Vamos. Immediatamente.[2]2
Скажи ему… Убирайся. Немедленно (исп.).
[Закрыть] – Дойл не знал французского. Они с Брижит всегда общались на странной смеси испанского с английским.
– Но человеку нужно одеться, – резонно заметила Брижит. – Насе frio dehor.[3]3
На улице холодно (исп., фр.).
[Закрыть]
– Ну, значит, не повезло, – пробормотал Дойл.
– Сволочь ты, – вырвалось у Ханука Аджида, и его черные глаза сузились.
Дойл сжал кулаки, кровь забурлила от животного позыва убить. Еще секунда, и он порвал бы этого марокканского сукина сына на куски, но в последний момент какая-то сила удержала его, он только наклонился, схватил туфли араба и швырнул их через коридор и открытую дверь на лестницу. Одна туфля перелетела через перила, сосчитала шесть лестничных пролетов и упала на грязную плитку первого этажа.
Ханук посмотрел на Брижит, потом на Дойла, от его дерзости не осталось и следа.
– Vite, – нетерпеливо сказала ему Брижит. – Va t'en. Je n'aime pas te voir tuer! – добавила она мягче. – S'il te plaоt. On peut discuter de tout cela plus tard.[4]4
Скорее… Иди же. Я не желаю смотреть, как тебя убьют!.. Пожалуйста. Обсудим все это позже (фр.).
[Закрыть]
Ханук вскочил, схватил одежду и выбежал вслед за своими туфлями. Дойл вышел в коридор, закрыл дверь и вернулся, чтобы разобраться с Брижит. Увидев его, она раскрылась и легла поперек матраса. На ее бледной коже все еще розовели следы от занятий любовью. Дойл смотрел на ее маленькие груди, узкие мальчишеские бедра. Если бы она решила родить ребенка, ей бы пришлось нелегко, поймал он себя на мысли, которую тут же отбросил. Нет, у таких женщин не бывает детей, вместо этого у них бывают оргазмы.
Брижит слегка раздвинула ноги, и Дойл увидел влагу, блестевшую на ее бедрах, на ее набухшем женском естестве. Хитрая улыбка появилась на ее лице. Она указала пальцем на растущий бугор в джинсах Дойла. «Да ты припух», – хрипло произнесла она недавно прочитанное во французско-английском словаре слово.
Дойл хмыкнул. В данных обстоятельствах отрицать это было бесполезно и неловко.
– К сожалению, – сказал он.
Брижит выпятила нижнюю губу.
– Non, jamais, никогда – «к сожалению», – сказала она. – Думаю, ты меня хочешь, si?
Дойл не ответил. За окном наступил час, когда длинные синие вагоны скоростного метро на станции «Ля Шапель» битком набиты потными людьми, возвращающимися с работы домой; когда уличные кафе заполнены богатенькими парочками, шепчущимися за бокалами дорогого вина. Брижит медленно приподнялась, села на подушку и погладила себя между ног.
– Он был не очень-то хорош, этот марокканец, – прошептала она. – Маловат, знаешь ли.
– Pute,[5]5
Шлюха (фр.).
[Закрыть] – сказал Дойл, но не отвел глаз.
– Рог favor, – сказала она. Ее дыхание стало неровным. – Baise moi.[6]6
Пожалуйста… (исп.) Поцелуй меня (фр.).
[Закрыть]
Дойл шагнул к матрасу, резко наклонился, намотал на руку ее густые черные волосы и слегка дернул. Она вскрикнула. Он дернул сильнее, она отняла от себя руки и потянулась к нему, чтобы расстегнуть пряжку ремня.
2
Из мусорного ведра на кухне доносился запах гниющих овощей и кофейной гущи. У Брижит неприятно пахло от подмышек, а может быть, на ее коже и грязных простынях все еще оставался запах пота Ханука Аджида. Дойл лежал возле нее в темноте на матрасе, вдыхая запах нестираных простыней и чувствуя отвращение к самому себе. Как низко он пал. Он не был религиозен, но подумал, что никогда еще не уходил так далеко от Бога. Много лет назад дядя Бак отправил его в седьмой класс католической школы-интерната в Мэриленде, и он до сих пор помнил все слова основных молитв. Но ни одна из них не подходила для этой ситуации.
Брижит задремала, потом проснулась, тихо заплакала. Она нащупала в темноте его руку и прижала к своей щеке.
– Chérie, – сказала она срывающимся голосом. – Je suis dйsolé.[7]7
Дорогой… Мне очень жаль (фр.).
[Закрыть]
– Это больше не сработает, – сказал Дойл и убрал руку.
Резкий тон его голоса мгновенно высушил ее слезы, и он почувствовал, как она напряглась.
– Скажи мне, – продолжал Дойл с некоторой горечью, – это вошло у тебя в привычку? Я имею в виду – попадаться. В этом все дело. Так ты ставишь точку, да?
Он вспомнил ужасный день, когда их застукала Фло, его жена. Они тогда жили в Малаге, это было всего лишь четыре месяца тому назад, но словно в другой жизни. Каждый четверг Фло делала закупки для ресторана и ее не было дома весь день, а Дойл присматривал за ребенком. Пабло уснул удивительно рано своим младенческим глубоким сном, с открытым ртом и еле-еле слышным дыханием, – и Брижит зашла под каким-то предлогом. Ее возбудила идея заняться этим в его доме, на постели его жены, и она не долго оставалась в платье. Дойл пытался все это остановить, но… Минут через десять неожиданно вошла Фло, которая что-то забыла и вернулась домой. Она застала их вместе: его со спущенными штанами и Брижит, обхватившую губами его затвердевшую плоть. Фло не сказала ни слова. Она тихо закрыла дверь, разбудила Пабло, одела его и отвезла в загородный дом родителей в Эсихе. «Ты достоин презрения за то, что предал свою жену и спящего в соседней комнате сына, – говорил на суде адвокат Фло, кстати оказавшийся ее братом. – Разве бордель не более подходящее место для таких дел?» С тех пор Дойлу так и не удалось поговорить со своей женой наедине, без присутствия третьих лиц.
Брижит помолчала, потом мрачно сказала:
– Я думаю, тебе, наверное, не следовало уходить от жены.
– Я не уходил, – сказал Дойл. – Она меня вышвырнула, разве не помнишь? Я бы вернулся через секунду, если бы она этого захотела. Я все еще люблю ее.
Говоря так, он знал, что это правда.
Брижит всхлипнула, вскочила и заперлась в ванной комнате. Она оставалась там довольно долго, смывая семя двух мужчин со своих бедер.
Дойл как можно быстрее оделся, вышел из квартиры и спустился по лестнице на улицу. Он прослонялся пару часов, куря терпкие французские сигареты и жалея себя, а около полуночи нашел прохладную скамью на площади Вобан, напротив Дома Инвалидов. Он сидел и рассеянно смотрел на золотой купол, залитый белыми потоками света, под которым в красном порфировом гробу, размером с двухместный гараж, лежали каменеющие останки Наполеона. Его связь с Брижит закончилась, а жена не хотела принять его обратно. И что теперь? Он не винил Брижит во всем этом, совсем нет. Он сделал все своими руками. Из-за связи, которая не продлилась бы больше двух недель, он лишился всего, что имел: жены, двухлетнего сына Пабло, своего ресторана «Король Альфонсо», который в прошлом году удостоился первой звезды от гида Мишлен, спокойной жизни в прекрасном городе Малага.
Брижит, уже познавшая изощренные удовольствия, по-своему была невинной – двадцать три года, страстная натура, студентка, девушка, которая становилась женщиной, – ее жизненное приключение только начиналось. У нее будет очень много мужчин. Дойл знал это, и эта мысль причиняла ему боль. Одни будут похожи на него, другие нет, одни будут жестокими, другие мягкими, одни старше, другие моложе. В конце концов у нее все получится: она станет любовницей члена совета министров или среднего кинорежиссера, в пятьдесят будет все еще привлекательной, как Катрин Денев, заведет молодого любовника на стороне, новый «ситроен» и виллу на Лазурном Берегу. Это такой тип женщин – настоящая француженка, одна из многих таких же, – умная, красивая, аморальная, как кошка. Конечно, в душе Дойл понимал, что он не лучше Брижит. Есть мужчины, которые всю свою жизнь ищут одну-единственную женщину, они счастливы, когда ее находят, и никто им больше не нужен; но Дойл был не таким. Дойлу нравились женщины, особенно красивые, и в большинстве случаев он им тоже нравился, если был не слишком пьян. Кто-то ему говорил, и жена тоже, что он похож на актера Роберта Митчума. Не постаревшего, обрюзгшего Митчума, а вальяжного и эффектного, в зените голливудской славы, в сорок-пятьдесят лет. Как и у Митчума, у Дойла были широкие плечи, густые черные волосы, спокойные синие зовущие глаза. И только сломанный когда-то нос придавал его чертам известную оригинальность.
Спустя некоторое время похолодало, пошел дождь. Дойл с усилием поднялся со скамейки, чтобы успеть на последнюю электричку ближайшего метро у Дома Инвалидов. Перейдя на линию «Порт д'Иври», он доехал до станции «Барб». Там, в грязном алжирском квартале он нашел относительно чистую гостиницу без звезд, располагавшуюся на втором этаже, и провел бессонную ночь, лежа на узкой кровати и слушая громыхающие трубы парового отопления, словно далекую демоническую музыку. На следующее утро он проснулся поздно, чувствуя себя совершенно разбитым, умылся и пошел на Рю де ля Мир, чтобы забрать из квартиры свои вещи.
Брижит не было – она уже ушла на курсы испанского в Сорбонну, как он и рассчитывал. Но на кухонном столе к банке «Космолюкса» была прислонена записка.
Mon cher Тимми. Ты такой хороший. Я не знаю, зачем я делаю все эти плохие вещи, которые делаю. Мне жаль. Прости свою бедную Брижит. Дождись моего возвращения с учебы. Мы будем заниматься любовью много раз, снова и снова, и я буду делать все, что ты захочешь, чтобы доставить тебе удовольствие. Твоя любимая, твоя плохая девочка. Я тебя люблю. Je t'aime. Брижит.
Дойл представил все, о чем она написала в своем нескладном письме, и почувствовал возбуждение. С некоторым сожалением он скомкал записку и швырнул ее в мусорное ведро прямо на кофейную гущу, потом сложил свою одежду и разный хлам. Привезенных из Испании вещей было немного – все уместилось в два чемодана, которые он отнес к двери и поставил на вытертый квадрат персидского ковра, купленного Брижит на блошином рынке Клиньянкур. В голове стучал один-единственный вопрос: «Куда, черт возьми, мне ехать?» Он размышлял секунд десять и, сам не зная почему, решил ехать в Лондон. Будет здорово слышать на улицах английскую речь, хотя и с уродливым акцентом.
Итак, готовый к встрече с Лондоном, Дойл отодвинул засов, распахнул дверь и поднял чемоданы. Случайно взглянув на полку у двери, он обнаружил тонкую пачку перетянутых резинкой писем, пересланных из Испании, снова поставил чемоданы, взял письма и стал внимательно читать надписи на конвертах. Счет за «Евроспорт» по кабельному, который он забыл оплатить; три подписные квитанции на португальскую «Интернэшнл геральд трибьюн»; запрос от адвоката в Малаге по поводу налогового сертификата на его доходы в Испании, имеющий отношение к разводу; ничего от жены и странное письмо из Штатов, со старомодной черной каймой по краям, сообщающей о смерти.
Дойл крутил его в руках, в предчувствии беды похоронно звонили далекие колокола Нотр-Дам-де-Лоретт. Судя по штампам, письмо было отправлено из городка Вассатиг, штат Виргиния, два с половиной месяца назад. Он надорвал край, вытащил из конверта единственный листок и развернул его.
Пишу тебе, чтобы с прискорбием сообщить о смерти твоего дяди, Бака Дойла, в среду вечером в результате осложнений, вызванных его болезнью. Как ты можешь себе представить, Мегги слишком потрясена, чтобы писать, поэтому эта миссия выпала на мою долю. Ты знал об эмфиземе, но не знал о раке, никто из нас не знал. Уже в конце, несмотря на сильную боль, Бак выписался из больницы в Солсбери и вернулся на своем «кадиллаке», чтобы умереть в собственной постели, в своей комнате над «Клеткой попугая». Ему очень не хватало тебя перед смертью. Я мог бы написать подробнее, но не стану. Возможно, ты теперь захочешь вернуться домой, потому что предстоит много работы на площадке для гольфа, он ведь запустил ее за последние несколько лет, да еще нужно встретиться с этими чертовыми юристами из Виккомака, чтобы подписать разные бумаги и т. д. Приношу свои соболезнования и т. д., Пит Пайатт.
P. S. Старина Бак был славным малым. Он прожил чертовски хорошую жизнь со своими многочисленными бабами, хорошей выпивкой и шикарной морской рыбалкой, поэтому, кроме того, что нам всем его не хватает, нет причин горевать. Он просто нашел себе новое место для рыбалки, вот и все. Пит Пайатт.
Письмо выпало из рук на ковер. Дойл закрыл лицо руками и почувствовал, что они стали влажными от слез. Дядя Бак умер. Он никак не мог поверить в это. Когда отец Дойла пропал в море на своем «Смеющемся Дебидивоне» во время урагана Ава, осенью 1963-го, Бак забрал мальчика и вырастил его как собственного сына. Матери Дойла, окутанной пеленой мартини где-то на западе, не было никакого дела до ребенка.
Старина Бак, он был замечательным. Эта мысль сломила Дойла окончательно, он побрел в спальню, упал на постель и заплакал, как не плакал уже давным-давно, наверное с самого детства. Такому человеку, как Дойл, плакать было физически больно, он уткнулся лицом в жесткий валик подушки и позволил боли завладеть всем его телом. Он сам не знал, чем были вызваны эти слезы – смертью Бака или тем жалким положением, в котором он оказался.